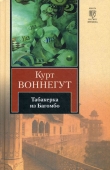Текст книги "Полное собрание рассказов"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 84 страниц)
Порицкий ни разу не оглянулся – посмотреть, как идут дела у меня, да и у всех остальных. Может, не хотел, чтобы кто-то увидел, как он позеленел. Я пытался кричать ему, что все наши остались далеко позади, но от этой безумной гонки у меня перехватило дыхание.
Вдруг Порицкий кинулся в сторону, к сигнальной линии: я решил, что он хочет укрыться в дыму и там спокойно проблеваться, чтобы его никто не видел.
Я тоже оказался в дыму, потому что побежал за ним – и тут нас накрыла ударная волна из тысяча девятьсот восемнадцатого.
Несчастный старый мир вставал на дыбы и бурлил, плевался и дрыгался, кипел и возгорался. Грязь и сталь из тысяча девятьсот восемнадцатого летала сквозь Порицкого и меня во всех направлениях.
– Встать! – кричал Порицкий. – Это тысяча девятьсот восемнадцатый! Ничего тебе не сделается!
– Это как сказать! – кричал я в ответ.
У него был такой вид, будто он сейчас пнет меня в голову.
– Встать, солдат! – крикнул Порицкий.
Я встал.
– Дуй назад к остальным бойскаутам, – велел он. И указал на прореху в дымовой завесе – туда, откуда мы прибежали. Я увидел, как остальная рота показывает тысячам наблюдателей, какие они профессионалы – все лежали на земле и тряслись от страха. – Твое место с ними, – сказал Порицкий. – А мое место здесь – я выступаю соло.
– Не понял? – буркнул я. Голова сама повернулась вслед глыбе из тысяча девятьсот восемнадцатого, которая только что просвистела прямо сквозь наши головы.
– Смотри на меня! – заорал он.
Я посмотрел.
– Вот где проходит граница между мужчинами и мальчиками, солдат, – сказал он.
– Точно, сэр, – согласился я. – У вас скорость, как у ракеты, за вами никто не угонится.
– При чем тут скорость? – вскричал он. – Я говорю про боевой дух!
В общем, дурацкий шел у нас разговор. При этом через нас летали трассирующие пули из тысяча девятьсот восемнадцатого.
Я решил, что Порицкий говорит про бой с бамбуком и тряпками.
– У наших самочувствие не очень, капитан, но, думаю, мы победим, – заявил я.
– Я сейчас вырвусь за эту линию огней в тысяча девятьсот восемнадцатый! – прокричал он. – Кроме меня, на это не отважится никто. А ну, дай дорогу!
Я понял, что он не шутит. Порицкий и правда считал, что это будет круто, если он замашет флагом и нарвется на пулю – не важно, что та война закончилась сто или сколько там лет назад. Он хотел получить свою долю славы, хотя чернила на мирных договорах так выцвели, что текст невозможно прочитать.
– Капитан, я простой рядовой, а рядовым не положено даже намекать. Но, капитан, – добавил я, – мне кажется, большого смысла в этом нет.
– Я рожден для боя! – вскричал капитан. – У меня внутренности ржавеют!
– Капитан, – продолжил я, – все, ради чего стоит воевать, уже было завоевано. У нас есть мир, у нас есть свобода, все кругом как братья, у всех есть хорошее жилье и цыпленок по воскресеньям.
Но он не слышал меня. Он шел к линии огней, где луч машины времени терял свою силу, где дым от огней был самым густым.
Перед тем как исчезнуть в тысяча девятьсот восемнадцатом навсегда, Порицкий остановился. Посмотрел на что-то внизу, может, увидел на ничейной земле птичье гнездо или маргаритку.
Но он нашел нечто другое. Я приблизился к нему и увидел: капитан стоит над воронкой от бомбы из тысяча девятьсот восемнадцатого, а мне казалось, что он висит в воздухе.
В этом несчастном окопе было два трупа, еще двое живых – и все забрызганы грязью. Насчет покойников я сразу понял: одному оторвало голову, а другого разорвало надвое.
Если у тебя есть сердце и в завесе дыма ты натыкаешься на такое, вся Вселенная расплывается у тебя перед глазами. Армии мира больше не было, не было вечного мира, не было и Луверна, штат Луизиана, не было больше машины времени.
Во всем мире остались только Порицкий, я и этот окоп.
Если у меня когда-то будет ребенок, я вот что ему скажу.
– Ребенок, – скажу я, – никогда не балуй со временем. Сейчас пусть будет сейчас, а тогда – тогда. А если когда-то заплутаешь в завесе дыма, сиди смирно и жди, когда дым рассеется. Сиди смирно, ребенок, и жди, пока не увидишь, где ты был, где есть и куда собираешься идти.
Я бы встряхнул его.
– Ребенок, – сказал бы я. – Ты понял меня? Ты папку слушай. Он знает, что говорит.
Да только откуда же у меня возьмется ребенок? А ведь как хочется его пощупать, понюхать, услышать. Нет, шалишь, ребенок у меня будет.
Было видно, что четверо бедолаг из тысяча девятьсот восемнадцатого пытались из этого жуткого окопа куда-то уползти, как улитки в аквариуме. От каждого из них тянулся след – от живых и от мертвых.
Тут в окоп влетел снаряд – и разорвался.
Когда комья земли, порхнув к небу, упали назад в окоп, в живых там оставался только один.
Он перевернулся с живота на спину и беспомощно раскинул руки. Казалось, предлагал тысяча девятьсот восемнадцатому всю свою плоть – мол, если уж так хочешь меня убить, бери и сильно не напрягайся.
И тут он увидел нас.
Его не удивило, что мы словно висели над ним в воздухе. Его уже ничто не могло удивить. Как-то медленно и неловко он вытянул винтовку из грязи и навел ее на нас. При этом улыбнулся, будто знал, кто мы, и никакого зла причинить нам он не может, и вообще все это – большая шутка.
Ствол винтовки был забит грязью, и шансов пробиться сквозь нее у пули не было. Винтовка взорвалась.
Но и это не удивило его, казалось, даже не причинило ему вреда. Он откинулся назад и тихо умер – с улыбкой на лице – такой же, с какой встретил всю эту шутку.
Артобстрел тысяча девятьсот восемнадцатого прекратился.
Кто-то где-то вдали свистнул в свисток.
– О чем вы плачете, солдат? – спросил Порицкий.
– Я и не знал, что плачу, капитан, – ответил я. Кожа у меня натянулась, глаза горели, но я и понятия не имел, что плачу.
– Плачете, и уже давно, – сказал Порицкий.
Тут я, шестнадцатилетний переросток, заплакал по-настоящему. Я сел на землю и поклялся, что не встану, даже если капитан пнет меня ногой в голову и вышибет все мозги.
– Вон они! – вдруг яростно зарычал Порицкий. – Смотрите, солдат, смотрите! Американцы! – Он поднял пистолет и выстрелил в воздух, будто на Четвертое июля. – Смотрите!
Я посмотрел.
Казалось, луч машины времени пересекли, наверное, миллион человек. Они явились из ниоткуда на одной стороне и растаяли в ничто на другой. Глаза их были мертвы. Они передвигали ноги, как заводные игрушки.
Внезапно капитан Порицкий вцепился в меня и потащил за собой, будто я вообще ничего не весил.
– Вперед, солдат, мы идем с ними! – вскричал он.
Этот маньяк хотел протащить меня через линию сигнальных огней.
Я извивался, кричал, пытался укусить его. Но было поздно.
Сигнальные линии исчезли.
Исчезло вообще все – остался только тысяча девятьсот восемнадцатый.
Я перебрался в тысяча девятьсот восемнадцатый навсегда.
Тут артиллерия грянула снова. Полетела сталь и фугасные бомбы, а я весь превратился в плоть, и тогда было тогда, и сталь встретилась с плотью.
Наконец я проснулся.
– Какой сейчас год? – спросил их я.
– Тысяча девятьсот восемнадцатый, – ответили они.
– А где я?
Они ответили: в соборе, который превратили в госпиталь. Жаль, что посмотреть на этот собор я не мог. Эхо доносилось откуда-то с большой высоты, и я понимал – собор гигантский.
Я не был героем.
Окружали меня сплошь герои, мне же похвастаться было абсолютно нечем. Я никого не проткнул штыком, никого не застрелил, не бросил ни одной гранаты, не видел ни одного немца, кроме тех, что лежали в том жутком окопе.
Надо бы героев помещать в отдельные госпитали, чтобы не находились рядом с такими, как я.
Когда ко мне подходит кто-то, кто меня еще не слышал, я сразу сообщаю, что я участвовал в войне всего десять секунд, а потом в меня попал снаряд.
– Для победы демократии во всем мире я не сделал ничего, – говорю я. – Когда меня шибануло, я сидел и плакал, как малое дитя, и собирался пришить собственного капитана. Не убей его пуля, его убил бы я, а он, между прочим, был мой соотечественник, американец.
И ведь убил бы.
И добавляю: будь у меня хоть малая возможность, я бы тут же дезертировал в свой две тысячи тридцать седьмой.
С точки зрения военного трибунала тут сразу два нарушения.
Но всем тамошним героям было наплевать на это.
– Ладно тебе, приятель, – говорили они, – ты давай рассказывай. Если кто-то захочет отдать тебя под трибунал, мы поклянемся, что видели, как ты убивал немцев голыми руками, а уши твои изрыгали огонь.
Им нравится, когда я рассказываю.
И вот я лежу, слепой, как летучая мышь, и рассказываю, как я меж ними очутился. Говорю все, что ясно содержится в моей голове: Армия мира, все кругом братья, вечный мир, никто не голодает, никто ничего не боится.
Так ко мне и прилепилась моя кличка. Ведь никто в этом госпитале не знал, как меня по правде зовут. Уж не помню, кто был первый, но теперь все меня только так и зовут: Великий день.
Сначала пушки, потом масло
© Перевод. М. Загот, 2021
1
– Берешь жареного цыпленка, режешь на куски, бросаешь на разогретую сковородку подрумяниваться, а там шипит смесь из сливочного и оливкового масла, – объяснил рядовой Доннини. – Только надо, чтобы сковородка здорово разогрелась, – добавил он задумчиво.
– Погоди, – остановил его рядовой Коулмен, яростно строча в книжечке. – Цыпленок большой?
– Фунта четыре.
– На сколько человек? – вмешался рядовой Нипташ.
– На четверых хватит, – ответил Доннини.
– А что в цыпленке костей полно, учитываешь? – с подозрением спросил Нипташ.
Доннини был гурман, и фраза «метать бисер перед свиньями» не раз приходила ему в голову, когда он объяснял Нипташу, как приготовить то или другое блюдо. Аромат, привкус – эти тонкости Нипташа не интересовали, ему бы только пожрать, вульгарно набить организм калориями. Нипташ записывал рецепты в записную книжечку, но считал, что порции какие-то куцые, значит, все составные части надо удвоить.
– Можешь все съесть сам – мне не жалко, – спокойно ответил Доннини.
– Ладно, ладно, дальше-то что? – спросил Коулмен, держа карандаш наготове.
– Поджариваешь минут пять с каждой стороны, потом мелко нарезаешь сельдерей, лук, морковь и приправляешь по вкусу. – Доннини чуть поджал губы, словно пробуя, что там получилось. – Все это у тебя потихонечку шипит, и тут добавляешь немного хереса и томатной пасты. Сковородку закрываешь. Оставляешь на медленном огне минут на тридцать, а потом… – Он умолк. Коулмен и Нипташ прекратили писать и, прикрыв глаза, прислонились к стене – ждали, что же будет дальше.
– Здорово, – мечтательно пробурчал Нипташ. – Знаешь, что я сделаю в первую очередь, кода вернусь в Штаты?
Доннини с трудом сдержал стон. Конечно же, он знал. Ответ на этот вопрос он слышал сотню раз. Нипташ был убежден, что блюда, способного насытить его голод, в мире не существует – поэтому он изобрел собственное, эдакого кулинарного монстра.
– Первым делом, – затараторил Нипташ, – закажу себе дюжину блинов. Так и скажу: девушка, – обратился он к воображаемой официантке, – двенадцать блинов! Получится такая стопочка – и между блинами кладу глазуньи. Одиннадцать штук. А знаешь, что сделаю дальше?
– Зальешь всю эту радость медом! – предположил Коулмен. Он, как и Нипташ, отличался зверским аппетитом.
– Молодец! – воскликнул Нипташ с блеском вожделения в глазах.
– Тьфу на вас! – вяло пробурчал капрал немецкой армии Клайнханс, их лысый охранник. По прикидкам Доннини, старику было лет шестьдесят пять. Клайнханс, человек рассеянный, часто погружался в собственные мысли. Среди пустыни нацистской Германии он был оазисом сострадания и несостоятельности. На английском говорил приемлемо – выучил, как сам рассказывал, когда четыре года работал официантом в Ливерпуле. Своими прочими впечатлениями от Англии он не делился, разве что замечал: едят там куда больше, чем полезно для здоровья нации.
Клайнханс покручивал свои кайзеровские усы, опираясь на старое, в человеческий рост ружье.
– Сколько можно говорить о еде? Из-за этого вы, американцы, и проиграете войну – слишком мягкотелые. – Он пристально посмотрел на Нипташа, который по самые ноздри завяз в воображаемых блинах, яйцах и меде. – Хватит мечтать, работать надо. – Это был не приказ, а предложение.
Три американских солдата сидели в ракушке дома с оторванной крышей, среди порушенной кирпичной кладки и исковерканной древесины. Это была Германия, город Дрезден. А время – начало марта 1945 года. Нипташ, Доннини и Коулмен были военнопленными. Капрал Клайнханс – их охранником. Ему надлежало загружать их работой – по камушку раскладывать многотонные городские развалины на благопристойные пирамидки, чтобы расчистить дорогу для несуществующего автомобильного движения. Формально эта троица отбывала наказание за какие-то мелкие нарушения тюремной дисциплины. На самом деле их каждодневная трудовая повинность на разгромленных улицах – под бдительным, но печальным голубым оком анемичного Клайнханса – была ничуть не хуже или не лучше судьбы их более дисциплинированных собратьев, которые оставались за колючей проволокой. Клайнханс просил их только об одном: если появятся офицеры, ни в коем случае не сидите без дела.
Жизнь военнопленных протекала тускло – вносила в нее оживление разве что еда. Американская армия под командованием генерала Паттона была в ста милях. И если послушать, что говорили Нипташ, Доннини и Коулмен о приближении Третьей армии, казалось, будто в авангарде у нее не пехота и танки, а фаланга отвечающих за провиант сержантов и полевая кухня.
– Работать, работать, – снова распорядился капрал Клайнханс. Он смахнул пыль штукатурки с формы из дешевого серого сукна, которая плохо на нем сидела – скорбный наряд ополченцев, знававших лучшие времена, и посмотрел на часы. Получасовой перерыв на обед без признаков обеда как раз закончился.
Доннини еще минуту мечтательно полистал свою книжечку, потом убрал ее в нагрудный карман и поднялся на ноги.
Рецептурная эпидемия началась с того, что Доннини рассказал Коулмену, как приготовить пиццу. Коулмен все подробно записал в одной из книжечек, коими разжился в разбомбленном магазине канцтоваров. Процесс записи доставил ему колоссальное удовольствие, и вскоре все трое, балдея от радости, принялись готовить свои кулинарные книги – записывать рецепты. Такое символическое изображение еды словно позволяло им приблизиться к еде материальной.
Каждый разделил свою книжечку на подразделы. К примеру, у Нипташа их было четыре: «Десерты на будущее», «Как лучше приготовить мясо», «Закуски» и «Всякая всячина».
Коулмен, нахмурив лоб, продолжал колдовать со своей книжечкой.
– А сколько хереса?
– Сухого хереса – важно, чтобы он был сухим, – уточнил Доннини. – Три четверти чашки. – Он увидел, что Нипташ что-то в своей книжечке вымарывает. – Что случилось? Сто граммов хереса меняешь на галлон?
– Нет. Я вообще про это забыл. Менял кое-что другое. Я передумал насчет самого желанного блюда, – признался Нипташ.
– Что же ты поставил на первое место? – спросил Коулмен с неподдельным интересом.
Доннини поморщился. Клайнханс тоже. Благодаря книжечкам нравственный конфликт между Доннини и Нипташем обозначился еще резче, обострился до крайности. Рецепты, которые предлагал Нипташ, были вульгарно-колоритными, сочиненными прямо тут же. Не то у Доннини: все тщательно проработанное, настоящее, изысканное. Коулмен разрывался между этими двумя крайностями. Это был конфликт гурмана и обжоры, художника и материалиста, красоты и чудовища. Доннини радовался любому союзнику, даже капралу Клайнхансу.
– Погоди, ничего не говори, – попросил Коулмен, листая страницы. – Сейчас я открою первую. – Самым главным компонентом в каждой из книжечек пока что была первая страница. По общему согласию она отводилась под блюдо, которое каждый желал отведать в первую очередь. Себе на первую страницу Доннини любовно занес формулу по приготовлению Anitra al Cognac – утка, приправленная бренди. Нипташ на почетное место поместил свою блинную жуть. Коулмен без особой уверенности отдал голос в пользу ветчины с засахаренным картофелем, но его быстро отговорили. Разрываясь между кулинарными полюсами, он на свою первую страничку занес рецепты и Нипташа, и Доннини, отложив окончательное решение до более позднего срока. И вот теперь Нипташ подвергал его мукам Тантала, превращая свое блюдо в нечто еще более кошмарное. Доннини вздохнул. Коулмен был слабаком. Возможно, новые выкрутасы Нипташа вообще заставят Коулмена отказаться от Anitra al Cognac в каком бы то ни было виде.
– Убираю мед, – решительно заявил Нипташ. – У меня давно появились сомнения. Теперь точно знаю – я ошибался. Мед с яйцами – это не сочетается.
Коулмен сделал в книжечке пометку.
– Ну и? – спросил он выжидающе.
– Сверху – расплавленный шоколад, – объявил Нипташ. – Большой кусок расплавленного шоколада – шлепаешь его сверху, а дальше он растекается, заливает все блины.
– М-м-м-м-м, – проурчал Коулмен.
– Только и разговоров что про еду, – фыркнул капрал Клайнханс. – Целыми днями, изо дня в день – еда, еда, еда! Вставайте. Работать надо. Черт бы вас драл с вашими книжечками. Между прочим, это мародерство. Вполне могу вас за это расстрелять. – Он прикрыл глаза и вздохнул. – Еда, – произнес он негромко. – Ну что толку обсуждать ее, писать о ней? Говорите о девчонках. О музыке. О выпивке, в конце концов. – Он протянул руки вверх, взывая к Всевышнему. – Что это за солдаты такие – целыми днями рецепты строчат?
– Можно подумать, что ты не голодный, – возразил Нипташ. – Чем тебе еда не угодила?
– Кормежки мне хватает, – отмахнулся от него Клайнханс.
– Шесть кусков хлеба и три тарелки супа в день – это «хватает»? – спросил Коулмен.
– Вполне, – подтвердил Клайнханс. – Я себя лучше чувствую. До войны у меня был лишний вес. А сейчас посмотри – я как мальчик. До войны от лишнего веса страдали все, потому что люди жили для того, чтобы есть, а надо есть для того, чтобы жить. – Он еле заметно улыбнулся. – Такой здоровой, как сейчас, Германия не была никогда.
– Что ж, тебе совсем есть не хочется? – не отступал Нипташ.
– В моей жизни, кроме еды, есть кое-что еще, – заметил Клайнханс. – Все, вставайте.
Без особого энтузиазма Нипташ и Коулмен поднялись.
– У тебя, папаша, из дула кусок штукатурки или чего-то еще торчит, – сказал Коулмен.
И они побрели на заваленную обломками улицу, а Клайнханс перевернул свое ружье и начал спичкой выковыривать из дула штукатурку, что-то бормоча про дурацкие записные книжки.
Из миллиона камней Доннини выбрал один поменьше, поднес его к тротуару и положил к ногам Клайнханса. Постоял, положив руки на бедра.
– Жарко, – заметил он.
– Для работы то, что надо. – Клайнханс присел на тротуар. – Ты до войны кем был, поваром? – спросил он после длинной паузы.
– У отца в Нью-Йорке итальянский ресторан – я помогал ему.
– У меня тоже было местечко в Бреслау. – Клайнханс вздохнул. – Давным-давно. Это же надо, сколько времени и сил немцы тратили на то, чтобы набивать брюхо дорогой жратвой. Ну не дурость ли?
Клайнханс посмотрел мимо Доннини, и взгляд его застыл. Он погрозил пальцем Коулмену и Нипташу, которые стояли посреди улицы, в одной руке у каждого был камень размером с бейсбольный мяч, в другой – книжечка.
– По-моему, надо добавить сметану, – говорил Коулмен.
– Уберите ваши книжки! – велел Клайнханс. – У тебя что, девушки нет? Уж лучше о девушке поговорите.
– Есть девушка, почему же ей не быть, – проворчал Коулмен. – Мэри зовут.
– И больше о ней нечего сказать? – спросил Клайнханс.
Коулмен озадаченно посмотрел на него:
– Фамилия Фиске – Мэри Фиске.
– Хорошенькая она, эта твоя Мэри Фиске? Чем занимается?
Коулмен задумчиво прищурился:
– Однажды я ждал, когда она спустится, а ее матушка как раз готовила лимонный пирог безе. Она взяла сахар, немного кукурузного крахмала, щепотку соли, залила двумя чашками воды…
– Давай лучше о музыке. Музыку любишь? – спросил Клайнханс.
– Ну а дальше что она сделала? – заинтересовался Нипташ. Он положил камень на землю и начал записывать в книжечку. – Небось яиц добавила?
– Ребята, ну хватит, – взмолился Клайнханс.
– Как же без яиц, – подтвердил Коулмен. – А потом и масло. Масло и яйца, да побольше.
2
Через четыре дня Нипташ нашел в подвале цветные карандаши – именно в тот день Клайнханс обратился с просьбой о том, чтобы его освободили от «провинившихся» и дали другое задание, но ему отказали.
Они, как обычно, вышли в город, и Клайнханс был в жутком настроении – он придирался к своим подопечным за то, что идут не в ногу и держат руки в карманах.
– Давайте, тетки, поговорите мне еще о еде, – подначивал он их. – Слава Богу, я этого больше не услышу. – С торжественным видом Клайнханс засунул руку в подсумок, достал оттуда два кусочка ваты и воткнул себе в уши. – Теперь могу думать о своем. Ха!
В полдень Нипташ пробрался в погреб разбомбленного дома, надеясь найти там банки с консервированными фруктами и овощами, какие хранились в уютном погребке у него дома. На поверхность он выбрался грязный и недовольный, грызя, за неимением лучшего, зеленый карандаш.
– Ну как? – спросил Коулмен с надеждой, глядя на желтый, фиолетовый, розовый и оранжевый карандаши в левой руке Нипташа.
– Шикарно. Какой аромат предпочитаете? Лимонный? Виноградный? Клубничный?
Он бросил цветные карандаши на землю и выплюнул зеленый им вслед.
Настал час обеда – Клайнханс сидел спиной к своим подопечным, задумчиво глядя на искалеченную линию горизонта. Из ушей его торчали два белых пучка.
– Знаешь, что сейчас было бы в самый раз? – спросил Доннини.
– Пломбир со взбитыми сливками, а сверху – орешки с сиропчиком, – быстро предложил Коулмен.
– И вишенками, – добавил Нипташ.
– Spiedini alla Romana, – прошептал Доннини и прикрыл глаза.
Нипташ и Коулмен выдернули из карманов свои книжечки.
Доннини поцеловал кончики пальцев.
– Бифштексы на вертеле по-римски, – пояснил он. – Берешь фунт рубленого мяса, два яйца, три столовые ложки римского сыра и…
– На сколько? – перебил его Нипташ.
– Шесть нормальных человек – или полсвиньи.
– И на что это похоже? – спросил Коулмен.
– Ну, всякая всячина висит на вертеле. – Доннини краем глаза заметил, что Клайнханс вынул из уха заглушку и тут же вставил обратно. – Трудно описать.
Он поскреб в затылке, потом взгляд его упал на карандаши. Он взял желтый и начал рисовать. Занятие ему понравилось, он привлек и другие карандаши, где-то что-то оттенил, где-то что-то выделил, а в конце даже изобразил клетчатую скатерть. И передал рисунок Коулмену.
– М-м-м-м, – только и произнес Коулмен, покачивая головой и облизывая губы.
– Вот это да! – восхитился Нипташ. – Эти красавцы просто сами лезут тебе в рот!
Коулмен с энтузиазмом протянул Доннини свою книжечку, открытую на странице с бесхитростной надписью ТОРТЫ.
– Можешь нарисовать торт «Леди Балтимор»? Ну, знаешь, с вишенками наверху?
Доннини исполнил просьбу товарища – и результат был встречен одобрительными возгласами. Получился симпатичный торт, и для пущего эффекта Доннини пририсовал сверху надпись: «С возвращением, рядовой Коулмен!»
– А нарисуй-ка мне мою стопку блинов – двенадцать штук, – потребовал Нипташ. – Да-да, моя дорогая, вы не ослышались – двенадцать!
Доннини неодобрительно покачал головой, но принялся делать набросок.
– Сейчас покажу мою картинку Клайнхансу, – радостно заявил Коулмен, любовно держа свой торт «Леди Балтимор» на расстоянии вытянутой руки.
– И сметанки сверху, – попросил Нипташ, дыша Доннини в затылок.
– Ach! Mensch! – вскричал капрал Клайнханс, и книжечка Коулмена раненой птицей приземлилась на куче мусора у ближайшей двери. – Обед окончен! – Решительным шагом он подошел к Доннини и Нипташу, выхватил у них книжечки и засунул себе в нагрудный карман. – Теперь, значит, картинки рисуем? А ну, пошли работать! – Чтобы подкрепить слова делом, он прикрепил к своему ружью длиннющий штык. – Пошли! Los!
– Что это с ним? – удивился Нипташ.
– Я только и сделал, что нарисованный торт ему показал, а он давай психовать, – пожаловался Коулмен. – Одно слово – нацист, – буркнул он.
Доннини сунул карандаши в карман, держась подальше от разящего меча Клайнханса.
– В Женевской конвенции сказано: рядовые должны свой хлеб отрабатывать! – прорычал капрал Клайнханс. И задал им жару: целый день они трудились в поте лица своего. Как только кто-то из трех пытался открыть рот, он яростно выкрикивал какую-то команду. – Эй, ты! Доннини! А ну убери эту тарелку со спагетти! – распоряжался он, указывая носком ноги на здоровенный булыжник. Потом подходил к балкам двенадцать на двенадцать, лежавшим посреди улицы. – Нипташ и Коулмен, дети мои, – напевно гудел он, хлопая в ладоши, – вот шоколадные эклерчики, о которых вы так мечтали. Каждому по штучке. – Он чуть не протаранил своим лицом лицо Коулмена. – Со взбитыми сливками, – прошипел он.
Бригада, вернувшаяся вечером на территорию тюрьмы, представляла собой по-настоящему мрачное зрелище. Доннини, Нипташ и Коулмен давно взяли себе за правило возвращаться, чуть прихрамывая, словно тяжелые труды и жесточайшая дисциплина надломили их физически. Клайнханс, в свою очередь, прекрасно играл роль надсмотрщика, рычал на них, как своенравная овчарка, когда они, спотыкаясь, проходили через тюремные ворота. В этот вечер все было как обычно, но изображаемая ими трагедия была подлинной.
Клайнханс рванул дверь барака и властным жестом повелел своим подопечным входить.
– Achtung! – раздался пронзительный голос изнутри. Доннини, Коулмен и Нипташ замерли и неуклюже зависли в дверях, стараясь держать пятки вместе. Хрустнув кожей и щелкнув каблуками, капрал Клайнханс бухнул ложем своего ружья по полу и, дрожа, выпрямился – в той степени, в какой ему позволяла больная спина. Оказалось, нагрянула проверка – в бараке находился немецкий офицер. Раз в месяц такое бывало. Перед шеренгой заключенных, широко расставив ноги, в шинели с меховым воротником и черных сапогах, стоял коротышка полковник. Рядом с ним – толстяк сержант из охраны. Все смотрели на капрала Клайнханса и его команду.
– Так-так, – сказал полковник по-немецки, – что у нас здесь такое?
Сержант быстро, помогая себе жестами, объяснил, что к чему, его карие глаза лучились раболепием.
Сцепив руки за спиной, полковник неторопливо прошествовал по цементному полу барака и остановился перед Нипташем.
– Ти плоха сибя вель, малчик?
– Так точно, – не стал возражать Нипташ.
– Теперь сожалей?
– Так точно.
– Маладец. – Полковник несколько раз обошел жалкую группку, что-то бурча себе под нос, остановился перед Доннини и ощупал ткань его рубашки.
– Ти все панимаешь, когда я говорит на ангнлийски?
– Так точно, все очень понятно, – ответил Доннини.
– А мой агцент похож на какой штат Америка?
– Милуоки, сэр. Если бы не знал, кто вы, точно сказал бы: это парень из Милуоки.
– Вот, я могу быть шпиен в Милувоки, – с гордостью сообщил полковник сержанту. Внезапно взгляд его упал на капрала Клайнханса, чья грудь была чуть ниже уровня полковничьих глаз. Добродушие его вмиг исчезло. Он сделал несколько шагов и расположился непосредственно перед Клайнхансом. – Капрал! У вас расстегнут карман гимнастерки! – сказал он по-немецки.
Глаза Клайнханса едва не выкатились из орбит, а рука метнулась к карману-нарушителю. Он отчаянно пытался пропихнуть в клапан пуговицу, но ничего не получалось.
– У вас что-то лежит в кармане, – заявил полковник, наливаясь краской. – В этом все дело. Достаньте, что там у вас!
Клайнханс выдернул из кармана две записные книжки, тут же застегнул клапан и вздохнул с облегчением.
– И что же у вас в этих книжечках? Список заключенных? Взыскания? Покажите.
Полковник выхватил книжечки из ослабевших пальцев Клайнханса. Тот закатил глаза.
– Это еще что такое? – взвизгнул полковник, не веря своим глазам. Клайнханс попытался открыть рот. – Молчать, капрал! – Полковник вскинул брови и вытянул руку с книжечкой так, чтобы написанным в ней мог насладиться и сержант. – Што я съем первым делом, как попаду домой, – медленно прочитал он и покачал головой. – Ха! Тфенатцать плиноф, мешту ними клату класуньи. О-о! И корячие слифки сверху! – Он повернулся к Клайнхансу. – Тебе этого так хочется, бедненький? – спросил он по-немецки. – И картинку симпатичную нарисовал. М-м-м-м-м. – Он протянул руку к плечу Клайнханса. – Капралы должны думать о войне постоянно. Рядовые могут думать о чем хотят: девушки, еда и прочие радости, – если выполняют приказы капрала. – Ловко, словно он делал это много раз, ногтями больших пальцев полковник подцепил серебристые капральские звездочки на погонах Клайнханса. Мелкими камушками они стукнулись об пол и укатились в дальний конец барака. – Быть рядовым – это так здорово!
Клайнханс еще раз кашлянул в надежде высказаться.
– Молчать, рядовой!
3
На душе у Доннини было мерзко. Он знал – Нипташ и Коулмен чувствуют себя не лучше. Было первое утро после того, как Клайнханс лишился своих звездочек. Со стороны Клайнханс выглядел как обычно. Походка его, как всегда, была пружинистой, он не утратил способности получать удовольствие от свежего воздуха и проглядывавших сквозь развалины признаков весны.
Они прибыли на свою улицу – несмотря на их трехнедельную повинность, проехать по улице было все равно нельзя не только на машине, но и на велосипеде. Клайнханс не стал гонять их в хвост и в гриву, как день назад. Не сказал он и своих обычных слов: мол, делайте вид, что вкалываете. Он привел их прямо к развалинам, где они проводили время обеда, и жестом предложил сесть. Сам он тоже сел и прикрыл глаза. Так они сидели и молчали, американцев мучили угрызения совести.
– Ты извини, что из-за нас звездочек лишился, – выдавил наконец Доннини.
– Быть рядовым – это так здорово, – мрачно заметил Клайнханс. – Две войны я шел к званию капрала. И вот, – он прищелкнул пальцами, – все превратилось в пшик. Поваренные книги запрещены.
– Слушай, – обратился к Клайнхансу Нипташ, голос его слегка дрожал. – Курнуть хочешь? У меня есть венгерская сигарета.
И он вытянул ладонь, на которой лежала настоящая драгоценность.
Клайнханс печально улыбнулся:
– Пустим по кругу.
Он зажег сигарету, затянулся, потом передал Доннини.
– Где взял венгерскую сигарету? – спросил Коулмен.
– У венгра, – ответил Нипташ. Он подтянул брючины. – На носки выменял.
Они покурили и продолжали сидеть, откинувшись на кирпичную кладку. Насчет работы Клайнханс не обмолвился и словом. Казалось, мысли унесли его куда-то далеко.
– А вы, ребята, про харчи больше не говорите? – спросил Клайнханс после затянувшейся паузы.
– После того, как у тебя забрали звездочки? – угрюмо спросил Нипташ. – Что-то не хочется.
Клайнханс кивнул:
– Ничего страшного. Как пришло, так и ушло. – Он облизнул губы. – Скоро все это кончится. – Он откинулся назад, потянулся. – Знаете, парни, что я перво-наперво сделаю, когда все это кончится? – Рядовой Клайнханс мечтательно закрыл глаза. – Возьму говяжью лопатку, фунта три, нашпигую ее беконом. Натру чесноком, посолю, поперчу, положу в котелок, добавлю белого вина с водичкой, – голос словно дал трещину, – лука, лаврового листа, сахарку, – он поднялся, – и засыплю все это зернышками перца! Через десять дней, братцы, блюдо готово!