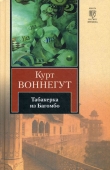Текст книги "Полное собрание рассказов"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 74 (всего у книги 84 страниц)
Раздел 7.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОРКЕСТРА
© Перевод. А. Комаринец, 2020
К счастью для меня, в парикмахерских журналы хранятся неделями после того, как номер увидел свет, а потому я смог наткнуться на рассказ Курта Воннегута «Второкурсник с амбициями» в «Сэтерди ивнинг пост» за 1 мая 1954 года, – это случилось через несколько недель после того, как я приехал домой из колледжа на летние каникулы. В ожидании, пока меня пострижет Билл Исбелл, я пролистывал лежащие на этажерке журналы и нашел рассказ, который привел меня в восторг. Там было про оркестр старшеклассников, руководителем оркестра в нем был некий «Джордж М. Гельмгольц», удивительно похожий на Роберта У. Шульца, руководителя оркестра в Шортридже, где я учился десять лет спустя после Курта Воннегута.
Мы оба были редакторами «Дэйли шортридж эхо», первой газеты старшеклассников в США. Парикмахерская, в которой я читал «Пост», находилась через улицу от «Скобяных изделий Воннегута», нашей местной разновидности универмагов хозяйственных товаров, и прошло много лет, прежде чем я сообразил, что семья «торговца гвоздями», как называл лавку один дальний родственник Курта, это и есть семья автора того рассказа – ведь в моем ограниченном воображении хозяйственные товары и написание художественных произведений плохо сочетались.
Гельмгольц описывается как «добрый толстяк» (в «Песне для Сельмы» он более доброжелательно назван не «толстым», а «дородным»), и хотя мистер Шульц толстяком не был (как напомнил мне один мой однокашник, он был просто «очень крупным» не в обхвате, а ростом и телосложением), персонаж Воннегута напомнил мне мистера Шульца чем-то более важным – своей преданностью оркестру и ученикам, своим желанием добиться максимума даже от самых бездарных музыкантов, своей гордостью за «Десять рядов» (как мистер Шульц по праву гордился нашим превосходным «Шортриджским маршевым оркестром»), и его гневом, когда нарушались правила приличия, особенно если к кому-то из учеников относились неуважительно. Эти достойные качества сохранились и были приумножены во всех рассказах про Гельмгольца.
Наш мистер Шульц был не только доброжелательным руководителем оркестра, но и отвечал за мероприятия в актовом зале школы – зале имени Калеба Силлса, где ставили драматические спектакли, мюзиклы, а также устраивали всевозможные шоу и дискуссии. Однажды мой одноклассник Дик Льюгар (которому было суждено отличиться на посту сенатора от штата Индиана) играл заглавную роль в театральной постановке под названием «Подсвечник епископа». Льюгару выпало произнести высокопарный монолог, что он и сделал с соответственно высокопарными интонациями, да еще почти нараспев. В зале послышались смешки, которые переросли в гогот, заглушивший голоса актеров. Мистер Шульц ворвался на сцену и остановил спектакль, ругая нас с такой яростью, что веселье стихло, – ни смешка не раздалось по ходу пьесы до самого занавеса. По счастью, мистер Шульц никогда не водил фонариком по затемненному зрительному залу во время дневных киносеансов, когда над зрительской аудиторией проносились звуки сдавленных страстей с задних рядов.
В историях про Гельмгольца не найдешь свидетельств подростковой похоти (или, насколько мне известно, вообще где бы то ни было на страницах «Сэтерди ивнинг пост»). Из четырех историй про Гельмгольца три могли родиться только в эпоху невинности, какую, вероятно, лучше всего подытожит высказывание Мадлен Пуф Дейвис, которая посещала клуб любителей литературы в Шортридже и позднее стала ведущей сценаристкой сериала «Я люблю Люси». Позднее миссис Дейвис вспоминала в разговоре с подругой Курта Маджи Фейли (мемуары вышли под названием «Мы никогда не танцевали щека к щеке»), что когда они с Воннегутом учились в старших классах (в 1940-х годах в Индиане), «это было, по сути, «Энди Харди»[57]57
Энди Харди – персонаж десятка сентиментальных комедий 1940-х гг., прославляющих жизнь среднего американца; все персонажи, живущие в вымышленном городе Карвел, богобоязненны, патриотичны, щедры и толерантны. Попадающий в мелкие неприятности идеальный Энди Харди всегда совершает правильные поступки после разговора – «как мужчина с мужчиной» – со своим отцом, местным судьей. – Примеч. пер.
[Закрыть] существование. Сейчас я вспоминаю о нем с искренним изумлением».
Единственный ученик, который не укладывается в образ «хорошего мальчика» в историях про Гельмгольца, появляется в рассказе «Мальчишка, с которым никто не мог сладить», опубликованном в сентябрьском номере «Пост» за 1955 год. В марте того года вышла экранизация бестселлера романа Эвана Хантера «Школьные джунгли», а в октябре «Бунтарь без причины». Подростковый мятеж стал вдруг «жареной» темой.
Джим Доннини происходит из неблагополучной семьи в Саут-Сайде, Чикаго, и после недолгого пребывания у разных приемных родителей оказывается в школе города Линкольн. Он приехал пожить у тетки, которая намерена не слезать с него, пока он не возьмется за ум или же не окажется до конца жизни за решеткой. Доннини носит черную кожаную куртку и черные ботинки с позвякивающими цепочками, он больше похож на ребят из «Школьных джунглей», чем на подростков из Линкольна.
И для руководителя оркестра идеальному миру тоже пришел конец: в начале рассказа Гельмгольц осознает, что его обманул высокомерный, алчный делец и что он потерял деньги на продаже дома – своего единственного наследства. В этой истории Гельмгольц женат (в других рассказах жены у него как будто нет). Во «Второкурснике с амбициями» Гельмгольц – персонаж немного не от мира сего: «Если любовь способна ослепить, одурманить, загнать человека в ловушку, словом, как утверждают многие, проделать с человеком тысячи разных самых ужасных и диких вещей, то тогда нет, такой любви он никогда не знал. Гельмгольц вздохнул. Наверное, он все же что-то упустил в этой жизни, так и не смог испытать истинно романтического и глубокого чувства».
В своих доблестных попытках спасти мальчишку в черных ботинках и кожаной куртке от безрадостного, бессмысленного будущего Гельмгольц предлагает ему свою драгоценную трубу и очарование музыки, но гневная апатия Доннини непробиваема. Гельмгольц так расстроен, что бьет трубой о вешалку для шляп. «Эта жизнь никуда не годится», – говорит он. Мы никогда не слышали подобных слов из уст Джорджа Гельмгольца – и никогда больше не услышим.
Гнев, с которым Гельмгольц уродует драгоценную трубу, наконец пробивает угрюмую враждебность «дурного мальчишки», и под конец читатель видит Доннини с починенной трубой на последнем стуле последнего ряда «оркестра С», но мы понимаем, что он на пути к спасению.
В эссе «Участи похуже смерти» Курт с гордостью писал, что, когда он рос в Индианаполисе, там был прекрасный симфонический оркестр, и он брал уроки у Эрнста Майклса, первого кларнетиста. Это заставляет вспомнить рассказ «Юный женоненавистник», где выясняется, что Берт Хиггинс внезапно утратил способность играть, когда оркестр идет маршем, и Гельмгольц начинает подозревать, что он перенес болезнь или получил какую-то травму. Мальчик отвечает, что ничего подобного с ним не случилось, и в свою очередь задает вопрос: «Может, это потому что я перестал брать уроки у вас?» Когда Берт поступил в оркестр, Гельмгольц передал его лучшему учителю, преподавателю трубы в городе, Ларри Финку – для оттачивания звука и колорита. И за этим тут же последовал упадок духа и координации. Сомневаюсь, что развившийся из этой посылки сюжет и возвращение мальчика в былую форму как-то связаны с событиями из жизни самого Воннегута (как иногда любят предполагать читатели и критики, соотнося жизнь и художественные произведения), но я считаю, что игра Курта в оркестре дала ему как писателю материал для рассказов, построенных вокруг руководителя школьного оркестра.
В автобиографичном эссе «Участи похуже смерти» Курт пишет: «когда я стал играть на кларнете, [мой отец] объявил этот черный, с серебряными клавишами инструмент истинным шедевром». В другом рассказе про Гельмгольца («Бездарь») мальчик, у которого нет таланта, зато есть огромное упорство и желание играть, раз за разом вызывает на состязание лучшего кларнетиста «оркестра А» в надежде занять его место. Когда он просит Гельмгольца дать ему еще один шанс, руководитель оркестра старается его разубедить, а самоуверенный мальчик отвечает: «“Вы не понимаете… Вы не заметили, у меня новый кларнет…” – Пламмер погладил блестящий как атлас, черный мундштук инструмента, точно это был меч короля Артура, дарующий волшебную силу своему владельцу. – “Он почти так же хорош, как у Флэммера… Даже лучше”».
Думается, каждый мальчишка, начинающий с металлического серебристого кларнета, знает, что инструмент из черного дерева с серебряными клавишами – для истинных профессионалов. В отличие от Пламмера я, занимавший последний стул в школе № 80, знал, что даже такой чудесный инструмент не наделит меня музыкальным талантом, и после целых двух лет бесплодных занятий разочарованно бросил оркестр. В отличие от Пламмера из рассказа, чьи амбиции перейти в лучшую группу сбываются, когда он отказывается от кларнета и берется за огромный басовый барабан, Воннегут остался при кларнете. Если верить школьному альбому, Воннегут, хотя за его плечами числятся и более впечатляющие достижения («член студенческого совета 1938 г.», «президент студенческого совета, 1940 г.», «Соредактор газеты «Эхо», 1940 г.»…), все же попал в «оркестр Б».
Позднее игра на кларнете дала ему повод еще больше гордиться собой. В эссе «Участи похуже смерти» он рассказывает: «несколько лет назад я оказался после вечеринки в чьей-то машине рядом с Бенни Гудменом. И я смог с чистым сердцем сказать ему, что когда-то и сам немного играл на кларнете».
Это было даже лучше, чем попасть в «оркестр А».
Дэн Уэйкфилд
Мальчишка, с которым никто не мог сладить
© Перевод. А. Криволапов, 2020
Дело было в половине восьмого утра. Раскоряченные, грохочущие грязные машины раздирали на части холм позади ресторана, а грузовики тут же увозили эти части прочь. Внутри ресторана в шкафах дребезжала посуда. Столы тряслись, и очень добрый толстяк, чья голова полнилась музыкой, пристально смотрел на дрожащие желтки своей утренней глазуньи. Его жена отправилась в гости к родным. Он был предоставлен самому себе.
Добрым толстяком был Джордж М. Гельмгольц, сорока лет, учитель музыки в средней школе города Линкольн и дирижер оркестра. Жизнь его баловала. Год за годом Гельмгольц лелеял одну и ту же великую мечту. Он мечтал дирижировать лучшим оркестром в мире. И каждый год его мечта исполнялась.
Она исполнялась потому, что Гельмгольц свято верил, что у человека не может быть более прекрасной мечты. Столкнувшись с этой непоколебимой уверенностью, «Киванианцы», «Ротарианцы» и «Львы» платили за форму оркестрантов вдвое больше, чем стоили их собственные лучшие костюмы; школьная администрация выделяла средства на дорогие инструменты, а юнцы играли ради Гельмгольца от всего сердца. А в случае, если юнцам не хватало таланта, Гельмгольц мог заставить играть их нутро.
В жизни Гельмгольца все было прекрасно, за исключением финансов. Он был так заворожен своей дивной мечтой, что в вопросах купли-продажи оказывался хуже младенца. Десять лет назад он продал холм за рестораном Берту Куинну, хозяину ресторана, за тысячу долларов. Теперь всем, в том числе и самому Гельмгольцу, стало ясно, что его облапошили.
Куинн подсел в кабинку дирижера. Маленький чернявый холостяк без чувства юмора. Все у него было не так. Он не мог спать, не мог оторваться от работы, не мог тепло улыбнуться. У него было только два настроения: либо подозрительность и жалость к себе, либо заносчивость и хвастливость. Первое настроение означало, что он теряет деньги. Второе – что он деньги делает.
Когда Куинн подсел к Гельмгольцу, он был заносчив и хвастлив. С присвистом посасывая зубочистку, он разглагольствовал о зрении – своем собственном зрении.
– Интересно, сколько глаз смотрели на этот холм до меня? – вопрошал Куинн. – Тысячи и тысячи, бьюсь об заклад, – и ни один из них не увидел того, что увидел я. Сколько глаз?
– Мои уж точно… – сказал Гельмгольц.
Для него холм означал утомительные подъемы, бесплатную смородину, налоги и пикники для оркестра.
– Вы унаследовали холм от своего старика – головная боль, да и только, – продолжал Куинн. – Вот и решили спихнуть его на меня.
– Я не собирался его на вас спихивать, – запротестовал Гельмгольц. – Бог свидетель – цена была более чем скромная.
– Это вы сейчас так говорите, – игриво заметил Куинн. – Ясное дело, Гельмгольц, вы говорите это сейчас. Теперь-то вы видите, какой торговый район здесь вырастет. Углядели то, что я сразу понял.
– Углядел, – сказал Гельмгольц. – Только поздно, слишком поздно. – Он осмотрелся, ища предлог, чтобы переменить тему, и увидел мальчишку лет пятнадцати, который приближался к ним, протирая шваброй проход между кабинками.
Ростом мальчишка был невелик, но с крепкими, узловатыми мышцами на руках и шее. Лицо его все еще оставалось детским, однако, остановившись передохнуть, мальчишка машинально провел пальцами по лицу, нащупывая пробивающиеся усики и бачки. Работал он как робот, ритмично, механически, однако очень старался не забрызгать носки своих черных башмаков.
– И что же я сделал, когда заполучил холм? – сказал Куинн. – Я его срыл начисто – и тут словно плотину прорвало. Каждый вдруг захотел построить на месте холма магазин.
– Угу, – сказал Гельмгольц. Он добродушно улыбнулся мальчишке. Тот смотрел сквозь него без всяких признаков узнавания.
– У каждого свои таланты, – талдычил свое Куинн. – У вас музыка; у меня – глаз. – Он расплылся в ухмылке: обоим было понятно, к кому денежки текут. – Думать надо по-крупному! – сказал Куинн. – Мечтать по-крупному! Вот что такое правильное видение. Раскрывай глаза пошире, чем другие-прочие.
– Этот мальчишка, – сказал Гельмгольц. – Я его встречаю в школе, а как зовут, не знаю.
Куинн мрачно хохотнул.
– Билли Кид? Рудольфо Валентино? Флэш Гордон? – Он окликнул мальчишку: – Эй, Джим, подойди-ка на минутку!
Гельмгольца поразили глаза мальчишки – равнодушные и холодные, как у устрицы.
– Сынок сестриного мужа, от первой жены – до того, как он женился на моей сестре, – сообщил Куинн. – Зовут его Джим Доннини, он из южного Чикаго, и он очень крут.
Пальцы Джима Доннини сжали ручку швабры.
– Добрый день, – сказал Гельмгольц.
– Привет, – без всякого выражения проговорил Джим.
– Он теперь живет у меня, – сказал Куинн. – Теперь это мой малыш.
– Подбросить тебя до школы, Джим?
– Да, он мечтает, чтобы его подбросили до школы, – фыркнул Куинн. – Посмотрим, что у вас получится. Со мной он не разговаривает. – Он повернулся к Джиму: – Давай, сынок, умойся и побрейся.
Джим, словно робот, пошел прочь.
– Что с его родителями?
– Мать умерла. Папаша женился на моей сестре, а потом бросил ее и его заодно. Потом суду не понравилось, как она его воспитывает, и парня какое-то время держали в приютах. А теперь решили сплавить его из Чикаго и повесили мне на шею. – Он покачал головой. – Жизнь – забавная штука, Гельмгольц.
– Временами не слишком-то она забавная. – Гельмгольц отодвинул глазунью.
– Похоже, какая-то новая порода людей нарождается, – задумчиво произнес Куинн. – Совсем не такие, как здешние мальчишки. Эти башмаки, черная куртка – и разговаривать не желает. С другими мальчишками водиться не желает. Учиться не желает. Не уверен, что он и читать и писать толком выучился.
– А музыку он любит? Или рисование? Или животных? – спросил Гельмгольц. – Может, он что-нибудь коллекционирует?
– Знаете, что он любит? – хмыкнул Куинн. – Он любит начищать свои башмаки. Сидеть в гордом одиночестве и драить башмаки. Для него самое счастье – сидеть у себя в одиночестве среди разбросанных по полу комиксов, драить башмаки да пялиться в телевизор. – Он криво усмехнулся. – И коллекция у него была, да только я ее отобрал и в речку выбросил.
– В речку? – переспросил Гельмгольц.
– Именно, – проговорил Куинн. – Восемь ножей – у некоторых клинки с вашу ладонь длиной.
Гельмгольц побледнел.
– О!.. – По загривку у него поползли мурашки. – Необычная проблема для линкольнской школы. Даже и не знаю, что думать. – Он собрал рассыпанную соль в аккуратную маленькую кучку, словно это могло помочь собраться с разбежавшимися мыслями. – Это своего рода болезнь, верно? Вот как к этому нужно относиться.
– Болезнь? – Куинн хлопнул ладонью по столу. – Скажите пожалуйста! – Он постучал по своей груди: – Уж доктор Куинн подыщет от этой болезни подходящее лекарство!
– О чем вы? – спросил Гельмгольц.
– Хватит с меня разговоров о бедном больном мальчике, – мрачно сказал Куинн. – Наслушался он этого от своих попечителей, на разных там ювенальных судах и еще бог знает где. С тех пор и стал никчемным бездельником. Я ему хвост накручу, я с него до тех пор не слезу, пока он не выправится или не засядет за решетку пожизненно. Либо так, либо эдак.
– Понятно, – пробормотал Гельмгольц.
– Любишь слушать музыку? – приветливо спросил он у Джима, когда они ехали в школу.
Джим ничего не сказал. Он поглаживал усики и бачки, которые и не подумал сбривать.
– Когда-нибудь отбивал такт пальцами или притопывал ногой под музыку? – спросил Гельмгольц. Он заметил, что на башмаках Джима красовались цепочки, у которых не было никакой полезной функции, кроме как позвякивать при движении.
Джим зевнул, всем видом демонстрируя, что умирает со скуки.
– А насвистывать любишь? – сказал Гельмгольц. – Когда делаешь что-нибудь такое, ты словно подбираешь ключи к двери в совершенно новый мир – и этот мир прекрасен.
Джим насмешливо присвистнул.
– Вот-вот! – обрадовался Гельмгольц. – Ты продемонстрировал основной принцип действия духовых инструментов. Их чудные звуки начинаются именно с вибрации губ.
Пружины сиденья в старом автомобиле Гельмгольца скрипнули от движения Джима. Гельмгольц счел это признаком заинтересованности и с дружеской улыбкой повернулся к нему. Оказалось, что Джим просто старается выудить сигареты из внутреннего кармана своей облегающей кожаной куртки.
Гельмгольц так расстроился, что даже не смог сразу отреагировать. Только когда уже подъехали к школе, он нашелся.
– Временами, – сказал Гельмгольц, – мне так одиноко и тошно, что, кажется, это невозможно вынести. Так и подмывает выкинуть какой-нибудь дурацкий фокус всем назло – даже если мне самому потом хуже будет.
Джим мастерски выпустил колечко дыма.
– А потом!.. – сказал Гельмгольц, щелкнул пальцами и просигналил в клаксон. – А потом, Джим, я вспоминаю, что у меня есть один крохотный уголок Вселенной, который я могу сделать таким, как хочу! Я могу отправиться туда и быть там ровно столько, чтобы опять стать счастливым.
– Да вы везунчик, – сказал Джим и зевнул.
– Так и есть, – согласился Гельмгольц. – Мой уголок Вселенной – это пространство вокруг моего оркестра. Я могу наполнить его музыкой. У нашего зоолога, мистера Билера, есть бабочки. У мистера Троттмана, физика, его маятники и камертоны. Добиться того, чтобы у каждого человека был такой уголок, – вот, пожалуй, самое главное для нас, учителей. Я…
Дверца машины открылась, хлопнула, и Джима как не бывало. Гельмгольц наступил на окурок и затолкал его поглубже в гравий парковки.
Первое занятие Гельмгольца в это утро начиналось в группе С, где новички барабанили, сипели и дудели кто во что горазд. Им предстоял еще долгий-долгий путь через группу В в группу А, в оркестр линкольнской средней школы – лучший оркестр в мире.
Гельмгольц взошел на подиум и поднял дирижерскую палочку.
– Вы лучше, чем вам кажется, – сказал он. – И-раз, и-два, и-три.
Палочка опустилась, и оркестр тронулся в поисках прекрасного – тронулся не спеша, словно ржавый механизм, у которого клапаны еле шевелятся, трубки забиты грязью, сочленения подтекают, смазка в подшипниках высохла.
К концу урока Гельмгольц по-прежнему улыбался, потому что в душе его музыка звучала именно так, как прозвучит однажды в реальности. В горле у него пересохло – он весь урок пел вместе с оркестром. Он вышел в коридор напиться из фонтанчика.
Гельмгольц припал к фонтанчику и услышал звяканье цепочек. Он поднял глаза на Джима Доннини. Толпа учеников ручейками выливалась из дверей классов, закручиваясь веселыми водоворотами, и устремлялась дальше. Джим был отдельно от всех. Если он и останавливался, то не чтобы с кем-то поздороваться, а чтобы обтереть башмак о штанину. Вид у него был как у шпиона в мелодраме – ничего не упускает, никого не любит и ждет не дождется дня, когда все полетит к чертям.
– Привет, Джим, – сказал Гельмгольц. – Слушай, я как раз думал о тебе. Тут у нас после уроков полно всяких клубов и кружков. Отличный способ познакомиться с новыми людьми.
Джим смерил Гельмгольца пристальным взглядом.
– А может, я не хочу знакомиться с новыми людьми, – проговорил он. – Не думали об этом?
Уходя, он печатал шаг, чтобы звенели цепочки на башмаках.
Когда Гельмгольц вернулся на подиум, чтобы репетировать с группой В, его ждала записка с просьбой срочно прибыть на собрание в учительской.
Собрание по поводу вандализма.
Кто-то вломился в школу и разнес кабинет мистера Крейна, преподавателя английского. Все сокровища бедняги: книги, дипломы, фотографии Англии, рукописи одиннадцати незаконченных романов, – все было изорвано и скомкано, свалено в кучу, растоптано и залито чернилами.
Гельмгольца замутило. Он не мог поверить глазам. Не мог заставить себя думать об этом кошмаре. Который стал реальностью поздно ночью, во сне. Во сне Гельмгольц увидел мальчишку со щучьими зубами, с когтями как мясницкие крючья. Это чудовище пролезло в окно школы и спрыгнуло на пол репетиционной комнаты. Чудовище в клочья изорвало самый большой барабан в штате. Гельмгольц проснулся в рыданиях. Ему ничего не оставалось, как только собраться и поспешить в школу.
В два часа ночи под пристальным взором ночного сторожа Гельмгольц ласково гладил тугую кожу барабана в репетиционной. Он так и сяк поворачивал барабан, зажигал лампочку внутри – зажигал и гасил, зажигал и гасил. Барабан был цел и невредим. Ночной сторож ушел продолжать обход.
Оркестровая сокровищница была в безопасности. С наслаждением пересчитывающего деньги скупца Гельмгольц ласкал все остальные инструменты по очереди, а потом начал полировать саксофоны. И, наводя на них блеск, он слышал рев огромных труб, видел, как они вспыхивают на солнце, а впереди несут звездно-полосатый флаг и знамя линкольнской средней школы.
– Ям-пам, тиддл-тиддл, ям-пам, тиддл-тиддл! – счастливо напевал Гельмгольц. – Ям-пам-пам, ра-а-а-а-а, ям-пам, ям-пам, бум!
Когда он на мгновение умолк, выбирая следующую пьесу для своего воображаемого оркестра, ему послышался приглушенный шум в химической лаборатории по соседству. Гельмгольц прокрался по коридору, рывком открыл дверь лаборатории и включил свет. Джим Доннини держал в каждой руке по бутылке с кислотой. Он поливал кислотой периодическую систему элементов, исписанные формулами доски, бюст Лавуазье. Самая омерзительная картина, какую Гельмгольцу когда-либо доводилось видеть.
Джим с напускной храбростью ухмыльнулся ему.
– Убирайся, – сказал Гельмгольц.
– Что вы собираетесь делать? – поинтересовался Джим.
– Убраться здесь. Спасти, что смогу, – потрясенно проговорил Гельмгольц. Он подобрал кусок ветоши и принялся вытирать кислоту.
– Вызовете копов?
– Я… не знаю. Не думал пока. Если бы ты ломал басовый барабан, наверное, я бы убил тебя на месте. И все равно никогда не понял бы, что ты сотворил… точнее, что, по-твоему, ты сотворил.
– Самое время поставить тут все на уши, – сказал Джим.
– Самое время? – переспросил Гельмгольц. – Что ж, должно быть, так и есть, раз это делает один из наших учеников.
– Чего хорошего в школе? – фыркнул Джим.
– Наверное, хорошего мало, – сказал Гельмгольц. – Просто это самая лучшая штука, которую удалось сделать людям.
Он чувствовал полную беспомощность. У него всегда было в запасе множество маленьких уловок, чтобы заставить мальчишек вести себя как мужчины, – уловок, при помощи которых можно играть на мальчишеских страхах, и мечтах, и любви. Но перед ним был мальчишка, не знающий ни страха, ни мечты, ни любви.
– Если ты разгромишь все школы, – проговорил Гельмгольц, – у нас больше не останется никакой надежды.
– Надежды на что?
– На то, что каждый человек сможет радоваться жизни. Даже ты.
– Смех, да и только, – сказал Джим. – У меня в вашей дыре тоска зеленая. Так что делать будете?
– Я что-то должен сделать, верно?
– Да мне плевать, – сказал Джим.
– Я знаю, – кивнул Гельмгольц. – Я знаю.
Он повел Джима в свой крохотный кабинетик позади репетиционной. Набрал телефонный номер директора и оцепенело ждал, пока звонок поднимет старика с постели.
Джим полировал тряпкой свои башмаки.
Гельмгольц вдруг бросил трубку на рычаг, не дожидаясь ответа.
– Да любишь ты на свете хоть что-то, кроме как рвать, ломать, разбивать, бить, лупить, колотить? – крикнул он. – Хоть что-то, кроме этих башмаков?
– Давайте звоните, кому вы там собирались, – сказал Джим.
Гельмгольц открыл шкаф и достал оттуда трубу. Он сунул трубу Джиму в руки.
– Вот! – проговорил он, задыхаясь от волнения. – Вот мое сокровище. Это самая драгоценная моя вещь. Можешь расколотить ее, я и пальцем не шевельну, чтоб тебя остановить. Можешь получить дополнительное удовольствие, глядя, как разбивается мое сердце.
Джим странно посмотрел на него. И положил трубу на стол.
– Давай! – сказал Гельмгольц. – Если уж мир так погано с тобой обошелся, он заслуживает того, чтобы эта труба была уничтожена.
– Я… – начал Джим.
Гельмгольц схватил его за ремень, дал подножку и повалил на пол.
Стянул с Джима башмаки и швырнул их в угол.
– Вот так! – прорычал он. Рывком поставил мальчишку на ноги и снова сунул ему в руки трубу.
Джим Доннини стоял босиком. Носки остались в башмаках. Он взглянул вниз. Его ноги, которые раньше казались надежными черными опорами, теперь были тощие, как цыплячьи крылышки, костлявые, синеватые, не слишком чистые.
Мальчишка поежился, потом его стала бить дрожь. И эта дрожь, казалось, что-то постепенно вытряхивала из него, пока наконец никакого мальчишки больше не осталось. Совсем никакого. Голова его повисла, словно Джим ждал только одного – смерти.
Гельмгольца захлестнуло раскаяние. Он обхватил мальчишку руками.
– Джим! Джим! Послушай меня, мой мальчик!
Джим перестал дрожать.
– Знаешь, что ты держишь в руках – что это за труба? – сказал Гельмгольц. – Знаешь, какая это особенная труба?
Джим только вздохнул.
– Она принадлежала Джону Филипу Сузе[58]58
Суза Джон Филип (1854–1932) – американский композитор и дирижер духовых оркестров, получивший неофициальный титул Короля маршей.
[Закрыть]! – сказал Гельмгольц. Он мягко покачивал и потряхивал Джима, пытаясь вернуть к жизни. – Я ее меняю, Джим, на твои башмаки. Она твоя, Джим! Труба Джона Филипа Сузы теперь твоя! Она стоит сотни долларов, Джим, тысячи!
Джим прижался головой к груди Гельмгольца.
– Она лучше твоих башмаков, Джим, – сказал Гельмгольц. – Ты можешь научиться играть на ней. Теперь ты не простой человек, Джим. Ты мальчик с трубой Джона Филипа Сузы!
Гельмгольц потихоньку отпустил Джима, опасаясь, что тот свалится. Джим не упал. Труба все еще была у него в руках.
– Я отвезу тебя домой, Джим, – проговорил Гельмгольц. – Будь человеком, и я им ни слова не пророню о том, что сегодня случилось. Полируй свою трубу и старайся стать человеком.
– Могу я взять свои башмаки? – пробормотал Джим.
– Нет, – сказал Гельмгольц. – Не думаю, что они тебе на пользу.
Он отвез Джима домой. Открыл все окна в машине, и воздух, казалось, немного освежил мальчишку. Гельмгольц высадил его возле ресторана Куинна. Шлепанье босых ступней Джима по асфальту эхом отдавалось на безлюдной улице. Мальчишка влез в окно и пробрался в свою комнату за кухней, где всегда ночевал. И все стало тихо.
На другое утро раскоряченные, грохочущие грязные машины воплощали в жизнь прекрасную мечту Берта Куинна. Они заравнивали то место позади ресторана, где раньше был холм. Они выглаживали его ровнее, чем бильярдный стол.
Гельмгольц снова сидел в кабинке. Снова к нему подсел Куинн. Джим опять мыл пол. Мальчишка не поднимал глаз, отказываясь замечать Гельмгольца. И совершенно не обращал внимания на мыльную воду, которая прибоем накатывалась на его маленькие узкие коричневые полуботинки.
– Два дня подряд не завтракаете дома, – сказал Куинн. – Что-нибудь случилось?
– Жена все еще в отъезде, – сказал Гельмгольц.
– Кот из дому… – Куинн подмигнул.
– Кот из дому, – сказал Гельмгольц, – а эта мышка уже истосковалась.
Куинн подался вперед.
– Так вот почему вы вылезли из постели среди ночи, Гельмгольц? От тоски? – Он мотнул головой в сторону Джима. – Парень! Ступай и принеси мистеру Гельмгольцу его рожок.
Джим поднял голову, и Гельмгольц увидел, что глаза у него опять как у устрицы. Печатая шаг, мальчик ушел за трубой.
Куинн уже не скрывал злобы и возмущения.
– Вы забираете у него башмаки и даете ему рожок, а я, по-вашему, не должен ничего знать? Я, по-вашему, не начну задавать вопросы? Не дознаюсь, что вы его изловили, когда он громил школу? Паршивый из вас преступник, Гельмгольц. Вы посеяли бы на месте преступления и свою палочку, и ноты, и водительские права.
– Я и не думал заметать следы, – проговорил Гельмгольц. – Просто я делаю то, что делаю. И собирался все рассказать вам.
Куинн приплясывал под столом ногами, и ботинки у него попискивали, словно мыши.
– Вот как? – сказал он. – Ну что ж, у меня для вас тоже есть кое-какие новости.
– Какие? – неуверенно спросил Гельмгольц.
– С Джимом у меня все кончено. Вчерашняя ночь переполнила чашу. Отправляю его туда, откуда он пришел.
– Опять скитаться по приютам? – нетвердым голосом спросил Гельмгольц.
– А это уж как там специалисты решат. – Куинн откинулся на спинку стула, шумно выдохнул и с явным облегчением развалился поудобнее.
– Вы не можете, – сказал Гельмгольц.
– Очень даже могу, – сказал Куинн.
– Это для него конец всему, – сказал Гельмгольц. – Он не выдержит, если его еще хоть раз вот так вышвырнут вон.
– Он ничего не чувствует, – сказал Куинн. – Я не могу помочь ему; я не могу достучаться до него. Никто не может. У него вообще нервов нет!
– Он весь один сплошной шрам, – сказал Гельмгольц.
«Сплошной шрам» вернулся и принес трубу. Бесстрастно положил ее на столик перед Гельмгольцем.
Гельмгольц выдавил улыбку.
– Она твоя, Джим. Я отдал ее тебе.
– Берите, пока не поздно, Гельмгольц, – сказал Куинн. – Она ему без надобности. Променяет на ножик или пачку сигарет, вот и все дела.
– Он пока не знает, что это за вещь, – промолвил Гельмгольц. – Нужно время, чтобы это понять.
– А чего в ней хорошего? – спросил Куинн.
– Чего хорошего? – повторил Гельмгольц, не веря ушам. – Чего хорошего? – Он не понимал, как можно смотреть на этот инструмент, не испытывая восторга. – Чего хорошего? – пробормотал он. – Это труба Джона Филипа Сузы.
– Это еще кто? – тупо моргнул Куинн.
Руки Гельмгольца затрепетали на столе, словно крылья умирающей птицы.
– Кто такой Джон Филип Суза? – сдавленно пискнул он.