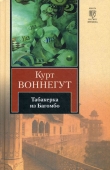Текст книги "Полное собрание рассказов"
Автор книги: Курт Воннегут-мл
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 84 страниц)
– Послушайте, – сказал он, – моя фамилия Дюран. Майор Нейтан Дюран, и один из моих лучших армейских друзей был родом отсюда. Джордж Пефко. Я точно знаю, что он отсюда. Он и сам так говорил, и в документах так было записано. Я абсолютно уверен.
– О-о-о-о! – воскликнула Энни. – Постойте-постойте. Ну да, конечно. Теперь я припоминаю.
– Вы его знали? – спросил Дюран.
– Я о нем знаю, – ответила Энни. – Теперь я понимаю, о ком вы говорите; это тот человек, который погиб на войне.
– Мы воевали вместе, – сказал Дюран.
– А я все равно не могу его вспомнить, – призналась почтмейстерша.
– Его вы, может, и не помните, но должны помнить его семью, – сказала Энни. – Они действительно жили там, в дюнах. Господи, это было так давно – лет десять-пятнадцать тому назад. Помните то большое семейство, которое уговорило Пола Элдриджа позволить им жить зимой в одном из его летних домиков? У них было детей человек шесть, а то и больше. Вот они-то и есть Пефко. Удивительно, что они не замерзли насмерть, ведь, кроме камина, топить там было нечем. Отец семейства приехал на сбор клюквы, и они застряли тут на всю зиму.
– Не сказала бы, что это можно назвать родным домом, – заметила почтмейстерша.
– Но Джордж его называл именно так, – возразил Дюран.
– Думаю, юному Джорджу любой временный дом казался родным, – согласилась Энни. – Эти Пефко были бродягами.
– Джорджа призвали именно отсюда, – объяснил Дюран. – Наверное, поэтому он считал это место своей родиной.
По той же причине сам Дюран считал своей малой родиной Питсбург, хотя еще дюжина других городов вполне могла претендовать на это звание.
– Он был одним из тех, для кого на самом деле родным домом стала армия, – сказала почтмейстерша. – Теперь припоминаю: тощий такой, но крепкий парнишка. Да, помню. Никто в его семье никогда не получал никакой корреспонденции. И в церковь они не ходили. Поэтому-то я их и забыла. Бродяги. Он был приблизительно ровесником твоего брата, Энни.
– Да. Но я-то тогда постоянно таскалась за братом, а вот Джордж Пефко не принадлежал к его компании. Они вообще держались сами по себе, эти Пефко.
– Но должен же быть кто-нибудь, кто хорошо его помнит, – сказал Дюран. – Кто-нибудь, кто… – Он оборвал себя на этой тревожной ноте. Ему было невыносимо думать, что Джордж исчез без следа и никто о нем не тоскует.
– Я вот сейчас, подумав, вспомнила… – сказала Энни. – Его именем названа площадь, я почти в этом уверена.
– Площадь? – удивился Дюран.
– Ну, не то чтобы настоящая площадь, – пояснила Энни. – Ее просто так называют. Когда уроженец нашего города погибает на войне, город присваивает его имя какому-нибудь своему закутку – хоть перекрестку – и вешает табличку с его именем. Треугольничек возле пристани назван именем вашего друга, я в этом почти уверена.
– В нынешние времена их, погибших, так много, что всех и не упомнишь, – вставила почтмейстерша.
– Хотите пойти посмотреть? – предложила Энни. – Я с удовольствием вас провожу.
– Табличку? – произнес Дюран, выходя из задумчивости. – Не стоит. – Он хлопнул в ладоши. – А где тут у вас ресторан – такой, чтобы с баром?
– После пятнадцатого июня – на каждом шагу, – ответила почтмейстерша. – А сейчас все закрыто. В аптеке можно купить сандвич.
– Да нет, лучше уж я отправлюсь дальше.
– Но раз уж вы проделали такой долгий путь, есть смысл посмотреть парад, – сказала Энни.
– После семнадцати лет службы в армии это было бы истинным удовольствием, – пошутил Дюран. – А что за парад?
– В честь Дня поминовения, – объяснила Энни.
– Но он же завтра, насколько я понимаю, – сказал Дюран.
– А сегодня – детское шествие. Потому что завтра школа будет закрыта. – Энни улыбнулась. – Боюсь, вам так или иначе придется выдержать зрелище еще одного парада, майор, потому что он уже начался.
Дюран безо всякого энтузиазма последовал за ней на улицу. Звуки оркестра уже были слышны, но участники парада еще не появились. На тротуаре их дожидалось не больше десяти-двенадцати человек.
– Они идут от одной площади к другой, – рассказывала Энни. – Давайте подождем их на площади Джорджа.
– Как скажете, – согласился Дюран. – Тем более, что там мне и к катеру ближе.
По улице, сбегавшей под уклон, они дошли до деревенской пристани, где стоял «Веселый Роджер».
– Город тщательно ухаживает за площадями, – сказала Энни.
– Ну да, ну да, – отозвался Дюран.
– Вы торопитесь? Вам сегодня нужно поспеть еще куда-то?
– Мне? – с горечью переспросил Дюран. – Меня нигде никто и ничто не ждет.
– Понимаю, – смутилась Энни. – Простите.
– Вашей вины в том нет.
– Не поняла.
– Я такой же армейский бродяга, как Джордж. Лучше бы меня пристрелили, а потом обессмертили в табличке. Никому я не нужен ни за грош.
– Ну, вот и наша площадь, – тихо сказала Энни.
– Где? Ах, это…
Площадь представляла собой заросший травой треугольник со сторонами футов по десять, образовавшийся в результате случайного пересечения улочек. В центре его лежал невысокий валун, к которому была прикреплена металлическая табличка, такая маленькая, что ее можно было и не заметить.
– «Мемориальная площадь Джорджа Пефко», – прочел Дюран. – Господи! Интересно, что бы сказал по этому поводу сам Джордж?
– Ему бы наверняка понравилось, – предположила Энни.
– Он наверняка бы посмеялся, – возразил Дюран.
– Не понимаю, над чем тут можно смеяться.
– Ни над чем, абсолютно ни над чем, если не считать того, что все это ни для кого ничего не значит. Кому есть дело до Джорджа? И почему кому-то должно быть до него дело? Просто считается, что люди должны так поступать – устанавливать памятные таблички.
В поле зрения показались оркестранты – восемь подростков, шагавших не в ногу, они вышли из-за угла с гордым, уверенным видом, производя нескладный шум, который, видимо, назывался у них музыкой.
Впереди ехал на мотоцикле городской полисмен, растолстевший от безделья, важный, весь в коже, с пистолетом на боку, наручниками и дубинкой на поясе и жетоном на груди. С величавым равнодушием к тому, сколько дыма выстреливает из выхлопной трубы его мотоцикл, он, то вырываясь вперед, то придерживая свое средство передвижения, возглавлял парад.
За оркестром следовало лиловое облако, которое парúло в нескольких футах над улицей. Это дети несли букеты сирени. Шествовавшие вдоль бордюра учителя, строгие, словно новоанглийские церкви, выкрикивали команды.
– В этом году сирень расцвела вовремя, – сказала Энни. – Иногда не успевает. Никогда не известно заранее.
– Правда? – равнодушно произнес Дюран.
Один из учителей дунул в свисток. Парад остановился, и Дюран увидел, что прямо на него, высоко поднимая колени, наступает дюжина ребятишек с расширившимися глазами и охапками сирени в руках. Он посторонился.
Горнист фальшиво протрубил церемониальный сигнал.
– Трогательно, правда? – прошептала Энни.
– Да, – ответил Дюран. – Это бы и у памятника слезу выдавило. Но значит ли это для них что-нибудь?
– Том! – окликнула Энни мальчика, который только что возложил цветы. – Почему ты это сделал?
Мальчик виновато оглянулся.
– Что сделал?
– Положил туда цветы, – сказала Энни.
– Скажи: чтобы отдать дань памяти доблестному воину, который пожертвовал своей жизнью, – подсказала учительница.
Том беспомощно посмотрел на учительницу, потом перевел взгляд на цветы.
– Разве ты не знаешь? – спросила его Энни.
– Знаю, конечно, – выдавил наконец Том. – Он умер, чтобы мы жили свободно и счастливо. И мы благодарим его, приносим цветы, потому что он совершил хороший поступок. – Мальчик посмотрел на Энни, недоумевая, почему она спрашивает. – Это все знают.
Полисмен завел мотоцикл. Учителя собрали подопечных и снова выстроили их в колонну. Парад двинулся дальше.
– Ну, майор, – сказала Энни, – не жалеете, что пришлось поприсутствовать еще на одном параде?
– Да, и вправду, – пробормотал Дюран. – Это же так просто, черт возьми, но это так легко забыть.
Глядя на этот простодушный парад под сиреневым цветочным облаком, он вдруг ощутил вкус жизни, красоту и значимость мирной деревни.
– Может, я никогда не осознавал… никогда не имел случая осознать… что войны ведутся ради этого. Вот этого сáмого. – Он рассмеялся. – Ну, Джордж, старый бродяга, – сказал он, обращаясь к мемориальной площади Джорджа Пефко, – разрази меня гром, если ты не стал святым.
Былая искра вспыхнула в нем вновь. Майор Дюран, вернувшийся с войны, почувствовал себя человеком.
– Могу я предложить вам, – обратился он к Энни, – пообедать со мной, а потом, может быть, совершить прогулку на моем катере?
Der Arme Dolmetscher
© Перевод. И. Доронина, 2021
В один из дней 1944 года, в разгар царившего на передовой хаоса, я был ошеломлен новостью: меня назначили батальонным переводчиком, Dolmetscher, так сказать, и определили на постой в дом бельгийского бургомистра, находившийся в пределах досягаемости артиллерийских орудий линии Зигфрида.
Прежде мне никогда и в голову не приходило, что я обладаю умениями, необходимыми для этой профессии. Идея сделать из меня толмача осенила мое начальство, пока я ждал перевода из Франции на фронт. В студенческие годы я механически заучил наизусть первую строфу «Лорелеи» Генриха Гейне, слыша, как ее повторяет мой сосед по комнате, и тупо твердил эти строчки, когда работал в границах слышимости своего батальонного командира. Полковник (гостиничный сыщик из Мобила) спросил своего заместителя (торговца мануфактурой из Ноксвилла), на каком языке написаны эти стихи. Заместитель не спешил с суждением, пока я не отбарабанил: «Der Gipfel des Berges foounk-kelt im Abendsonnenschein». Тогда он сказал:
– Кажись, фрицевский, ну, кислокапустников.
Единственное, что я мог кое-как перевести с немецкого, это: «Не знаю, отчего мне так грустно. Душа волнуется. Из головы не идет старинное предание. Подул прохладный ветер. В тишине течет река. Над Рейном в красных лучах заката горит гора»[10]10
Генрих Гейне. «Лорелея». «Не знаю, о чем я тоскую. Покоя душе моей нет. Забыть ни на миг не могу я преданье далеких лет. Дохнуло прохладой, темнеет. Струится река в тишине. Вершина горы пламенеет над Рейном в закатном огне». Перевод Самуила Маршака.
[Закрыть].
Полковник считал, что положение обязывает его принимать быстрые и жесткие решения. Перед тем как вермахту задали трепку, он принял несколько весьма удачных, но больше всего мне нравилось то, которое он принял в достопамятный день. Он пожелал узнать:
– Если это язык фрицев, какого лешего этот парень возится с ведрами?
Два часа спустя ротный писарь сказал, чтоб я бросал свои ведра, потому что с этого дня меня назначили батальонным переводчиком.
Вскоре после этого поступил приказ о передислокации. Начальство слишком спешило, чтобы выслушивать мои признания в некомпетентности.
– Да хватит нам твоего немецкого, – сказал заместитель командира. – Там, куда нас посылают, будет не до разговоров с фрицами. – Он ласково похлопал по моей винтовке и сказал: – Вот она тебе поможет переводить.
Заместитель, который всему, что умел, научился от полковника, вбил себе в голову, что, раз американская армия только что побила бельгийцев, меня следует поселить к бургомистру, чтобы тот не вздумал водить нас за нос.
– А потом, – заключил заместитель, – все равно ж нет никого, кто по-ихнему чешет.
Я ехал на ферму бургомистра в кузове грузовика с тремя обиженными пенсильванскими голландцами, которые несколькими месяцами раньше претендовали на должность переводчика. Когда я объяснил, что я им не конкурент и что меня вытурят с должности в двадцать четыре часа, они смягчились настолько, что поделились со мной интересной информацией: по-немецки я называюсь Dolmetscher, толмач то есть. Они также по моей просьбе дословно перевели мне «Лорелею». Теперь у меня в запасе было около сорока слов (словарь двухлетнего ребенка), но я совершенно не умел соединять их в предложения, так что не смог бы попросить и стакан холодной воды.
С каждым оборотом колеса я засыпáл их вопросами: «Как по-немецки “армия”?.. Как спросить, где туалет?.. Как сказать “мне плохо”?.. Хорошо?.. Брат?.. Туфля?..» Мои флегматичные наставники притомились, и один из них вручил мне брошюрку, призванную облегчить общение по-немецки солдату в окопе.
– Там в начале не хватает нескольких страниц, – предупредил он меня, когда я выпрыгивал из кузова у каменного дома бургомистра. – Я их на самокрутки пустил.
Стояло раннее утро, когда я, постучав в дверь бургомистра, стоял на пороге, как ждущий выхода на сцену статист, у которого в пустой голове вертится одна-единственная реплика. Дверь распахнулась.
– Dolmetscher, – выпалил я.
Бургомистр, старый, худой, в ночной рубашке, сам проводил меня в выделенную мне комнату на втором этаже. Жестами, мимикой и словами он выражал свое гостеприимство, так что мое вставляемое время от времени «danke schön[11]11
Большое спасибо (нем.).
[Закрыть]» пока казалось вполне адекватной реакцией переводчика. Я был готов продолжить беседу фразой: «Ich weiss nicht, was sol les bedeuten, dass ich so trauring bin[12]12
Я не знаю, что должна означать моя печаль (нем.).
[Закрыть]». После этого, как я полагал, он отправился бы обратно в постель, уверенный, что имеет дело с бегло говорящим по-немецки, хотя и исполненным Weltschmertz[13]13
Мировая скорбь (нем.).
[Закрыть] толмачом. Но моя военная хитрость не понадобилась. Он тут же покинул меня, предоставив в одиночестве аккумулировать свои ресурсы.
Главным моим подспорьем была дефектная брошюрка. Я изучил одну за другой все ее бесценные страницы, восхищаясь тем, как просто в сущности заменять английские слова немецкими. Единственное, что нужно было делать, это вести пальцем по левой колонке, пока не найдешь нужную английскую фразу, а потом воспроизвести набор бессмысленных трескучих слогов, написанный в правой колонке напротив. Например, «Сколько у вас гранатометов?» звучало так: «Вии филь гренада вэафэа хабен зи?» Безупречно правильная формулировка вопроса «Где ваши танковые колонны?» по-немецки оказалась не сложнее чем: «Во зинт ире панцер шпитцен?» Шевеля губами, я заучивал по-немецки фразы: «Где ваши гаубицы?», «Сколько у вас пулеметов?», «Сдавайтесь!», «Не стреляйте!», «Где вы спрятали свой мотоцикл?», «Руки вверх!», «Из какой вы военной части?»…
Внезапно брошюрка закончилась, и мое настроение от эйфории рухнуло в депрессию. Пенсильванские голландцы скурили все уместные в тылу любезности, содержавшиеся в ее первой половине, не оставив мне ничего, кроме реплик, уместных разве что в рукопашном бою.
Пока я без сна лежал в постели, в голове моей обретала отчетливую форму единственная драма, в которой я мог бы участвовать…
Толмач (обращаясь к дочери бургомистра): Не знаю, что со мной, но мне так грустно. (Обнимает ее.)
Дочь бургомистра (с застенчивой уступчивостью): Повеяло прохладой, темнеет, и Рейн тихо катит свои воды.
(Толмач подхватывает дочь бургомистра на руки и, прижимая к себе, несет в свою комнату.)
Толмач (мягко): Сдавайтесь.
Бургомистр (размахивая «люгером»): Ах так! Руки вверх!
Толмач и дочь бургомистра хором: Не стреляйте!
(Из нагрудного кармана бургомистра выпадает карта диспозиции Первой американской армии.)
Толмач (в сторону, по-английски): И зачем этому якобы сотрудничающему с союзниками бургомистру карта, показывающая расположение войск Первой американской армии? И почему мне предписано говорить с бельгийцем по-немецки? (Он выхватывает из-под подушки автоматический пистолет 45-го калибра и наставляет его на бургомистра.)
Бургомистр и дочь бургомистра: Не стреляйте!
(Бургомистр роняет свой «люгер» и съеживается, презрительно ухмыляясь.)
Толмач: Из какой вы военной части? (Бургомистр угрюмо молчит. Дочь бургомистра, стоя рядом с ним, тихо плачет.)
Толмач (останавливаясь напротив дочери бургомистра): Где вы спрятали свой мотоцикл? (Снова поворачивается к бургомистру.) Где ваши гаубицы, а? Где ваши танковые колонны? Сколько у вас гранатометов?
Бургомистр (раскалываясь под градом вопросов): Я… Я сдаюсь.
Дочь бургомистра: Мне так грустно.
(Входит патрульный наряд, состоящий из пенсильванских голландцев, который делает рутинный обход территории, и слышит, как бургомистр и дочь бургомистра признаются в том, что являются тайными агентами нацистов, сброшенными на парашютах в тыл американской армии.)
Располагая таким запасом слов, сам Иоганн Кристоф Фридрих фон Шиллер не сочинил бы лучше, а других слов у меня не было. Не было у меня и никаких шансов выпутаться, и я не испытывал ни малейшей радости от того, чтобы в декабре стать переводчиком для целого батальона солдат, не будучи в состоянии сказать даже: «Счастливого Рождества».
Я заправил постель, покрепче затянул шнур своего вещмешка и, откинув светомаскировочную штору, выскользнул в ночь.
Бдительные часовые направили меня в штаб батальона, где большинство офицеров либо склонялись над картами, либо заряжали оружие. В помещении царила праздничная атмосфера. Заместитель командира точил свой восемнадцатимиллиметровый охотничий нож и бубнил песенку «Вы из Дикси?».
– Разрази меня гром, – сказал он, заметив меня в дверях, – если это не наш Шпрехензидойч. Ну, парень, чо такое? Ты чо, разве не должен быть у мэра?
– Смысла нет, – ответил я. – Они все говорят на нижненемецком, а я – на верхненемецком.
Это произвело впечатление на заместителя.
– То есть, твой слишком хорош для них, да? – Он провел указательным пальцем по лезвию своего смертоносного ножа. – Ну, ничего, сдается мне, скоро мы стыкнемся кое с кем, кто чешет на энтом самом высококлассном фрицевом, – сказал он и добавил: – Окружены мы.
– Мы зададим им жару так же, как задали в Северной Каролине и Теннесси, – изрек полковник, который дома, на маневрах, никогда не проигрывал сражений. – Ты, сынок, тут останешься. Будешь моим личным толмачом.
Двадцать минут спустя я снова оказался в гуще событий, требовавших перевода. К штабу подъехали четыре немецких «тигра», две дюжины немецких пехотинцев с автоматами спрыгнули с брони и окружили нас.
– Ну, говори что-нибудь! – приказал полковник, до самого конца не терявший храбрости.
Я пробежал глазами левую колонку в своей брошюрке, пока не дошел до фразы, которая наиболее честно выражала наши чувства, и произнес:
– Не стреляйте!
Немецкий офицер-танкист с важным видом вошел в штаб, чтобы полюбоваться на свою добычу. В руке у него была брошюрка чуть поменьше моей.
– Где ваши гаубицы? – спросил он, заглянув в нее.
Табакерка из Багомбо
© Перевод. Н. Рейн, наследники, 2021
– Вроде бы новое местечко, да? – спросил Эдди Лэард.
Он сидел в баре, в самом центре города. Был единственным посетителем и разговаривал с барменом.
– Что-то не припоминаю я этого местечка, – добавил он. – А ведь когда-то знал каждый бар в городе.
Лэард был крупным мужчиной тридцати трех лет с нахальной, но не лишенной приятности круглой, как луна, физиономией. Одет он был в синий фланелевый костюм, судя по всему – недавнее приобретение. И, болтая с барменом, изредка косился на себя в зеркало. И, время от времени, рука его отпускала стакан и поглаживала мягкую ткань на лацкане.
– Да не такое уж и новое, – ответил бармен, сонный толстяк лет пятидесяти. – Когда вы были последний раз в городе?
– Во время войны, – сказал Лэард.
– Какой конкретно войны?
– Какой войны? – переспросил Лэард. – Да, дела… Боюсь, вам и впрямь приходится сейчас спрашивать об этом людей, когда речь заходит о войне. Второй. Второй мировой войны. Наши части дислоцировались тогда в Каннингем-Филд. Вот и вырывался в город, когда получалось, конечно.
И нежная грусть затеплилась в его сердце при воспоминании о том, как в те дни выглядело его отражение в зеркалах разных баров, о том, как сверкали в них капитанские пряжки на орденской ленте и серебряные крылышки на нашивках.
– А этот построен в сорок шестом, – сказал бармен, – и с тех пор его еще два раза перестраивали.
– Построен, и два раза перестраивали… – в голосе Лэарда слышалось неподдельное изумление. – В наши дни все изнашивается как-то особенно быстро, многие вещи устаревают, верно? Ну, скажите, можно сейчас съесть прилично прожаренный бифштекс за два доллара, ну, допустим, в стейк-хаусе «Чарли»?
– Сгорел, – коротко ответил бармен. – Там сейчас «Джей-Си Пенни»[14]14
«Джей-Си Пенни» – компания, владеющая сетью универмагов и аптек, ведет торговлю по каталогам, занимается страхованием.
[Закрыть].
– Так где ж теперь находят приют славные ВВС США? – спросил Лэард.
– Да нигде, – ответил бармен. – И этот ваш лагерь в Каннингем-Филд давным-давно закрыли.
Лэард взял свой бокал, подошел к окну и стал смотреть на прохожих.
– Почти был уверен, что здешние женщины до сих пор носят короткие юбочки, – пробормотал он. – Но где, где, скажите на милость, все эти хорошенькие розовые коленки? – Он постучал ногтями по стеклу. Проходившая мимо женщина взглянула на него и поспешила дальше.
– А у меня тут когда-то жена обреталась, – сказал Лэард. – Как считаете, что могло с ней случиться за одиннадцать лет?
– Жена?
– Бывшая. Ну, один из военных романов. Мне было двадцать два, ей – восемнадцать. И длилось все это с полгода.
– И почему разбежались?
– Разбежались?.. – протянул Лэард. – Просто не хотелось быть чьей-то там собственностью, вот и все. Хотел жить так – сунул зубную щетку в карман брюк, и прости-прощай. Чтоб чувствовать, что могу уйти в любой момент. А ей это не нравилось. Ну и вот… – Он усмехнулся. – Сделал ручкой. Adios. Без слез, без обид.
Он подошел к автомату-проигрывателю.
– Какая у нас сейчас самая популярная песня?
– Попробуйте номер семнадцать, – сказал бармен. – Полагаю, что смогу вынести это еще один раз. Но не больше.
Лэард поставил пластинку под номером семнадцать – это оказалась громкая слезливая баллада о потерянной любви. Он внимательно слушал. А в конце топнул ногой и поморщился.
– Налей-ка еще одну, – сказал он бармену, – и потом, клянусь богом, позвоню своей бывшенькой. – И вопросительно поднял глаза на бармена. – Ведь тут нет ничего такого особенного, верно? Почему бы не позвонить, раз вдруг захотелось? – Он расхохотался. – «Дорогая Эмили Пост[15]15
Пост, Эмили Прайс (1873–1960) – американская писательница, автор популярной книги «Этикет – Голубая книга хорошего тона».
[Закрыть], у меня тут возникла небольшая проблема этического характера. За одиннадцать лет я не перемолвился ни единым словом со своей бывшей женой. И вот теперь, оказавшись в одном городе с ней…»
– А откуда ты знаешь, что она до сих пор здесь? – заметил бармен.
– Звонил утром одному приятелю. Прямо как только прилетел. Он сказал, что она в порядке, получила все, что хотела: раба-мужа, из которого выкачивает всю зарплату, увитый диким виноградом коттедж с большой мансардой, пару ребятишек. И еще – лужайку в четверть акра, зеленую-презеленую, прямо как Арлингтонское кладбище.
И с этими словами Лэард зашагал к телефону. В четвертый раз за день нашел в телефонной книге номер своей бывшей жены, которая теперь носила фамилию второго мужа, достал двадцатицентовик и занес его над щелью. Но на сей раз позволил монете провалиться в нее. «Была – не была», – буркнул Лэард. И набрал номер.
Подошла женщина. В трубке было слышно, как визжат дети и бубнит радио.
– Эйми? – сказал Лэард.
– Да? – голос у нее был запыхавшийся.
Лицо Лэарда расплылось в глуповатой усмешке. «А ну догадайся, кто это?.. Эдди Лэард».
– Кто?
– Эдди Лэард. Эдди!
– Будьте добры, подождите минутку, ладно? – сказала Эйми. – Ребенок так ужасно верещит, и радио включено, и в духовке у меня шоколадные печенья с орехами, того гляди сгорят. Я ничего не слышу! Не вешайте трубку, ладно?
– Ладно.
– А ну-ка еще раз. – Она уже просто орала в трубку. – Как вы сказали ваше имя?
– Эдди Лэард.
Она так и ахнула:
– Нет, правда, что ли?
– Правда, – весело сказал Лэард. – Только что прилетел с Цейлона, через Багдад, Рим и Нью-Йорк.
– Господи боже ты мой! – пробормотала Эйми. – Вот это называется сюрприз. А я даже не знала, жив ты или уже умер.
Лэард усмехнулся в ответ. «Да нет, так и не прикончили меня. Хотя, бог свидетель, очень старались».
– Ну и чем теперь занимаешься?
– О-о-о, да так, всем понемножку. Последнее время работал по контракту с одной цейлонской фирмой. Разведывал для них береговую линию, в поисках жемчуга. Сейчас собираюсь создать собственную компанию. Есть хорошие перспективы по добыче урана в районе Клондайка. А до Цейлона охотился за алмазами в джунглях Амазонки, а до этого работал личным пилотом у одного иракского шейха.
– Господи, прямо голова закружилась, – воскликнула Эйми. – Прямо как в сказке из «Тысячи и одной ночи»!
– О нет, не хотелось бы, чтоб у тебя были иллюзии на сей счет, – сказал Лэард. – По большей части то была тяжелая, черная и опасная работа. – Он вздохнул. – Ну а как сама-то, а, Эйми?
– Я-то? – откликнулась Эйми. – Да как любая другая домохозяйка. Верчусь как белка в колесе.
Тут снова громко и надсадно заплакал младенец.
– Эйми, – поспешно начал Лэард, – скажи мне только одно. Между нами все о’кей? Без обид, да?
Голосок ее был еле слышен.
– Время лечит раны, – сказала она. – Нет, сперва мне, конечно, было очень больно… очень больно, Эдди. Но потом я пришла к пониманию, что все, что на свете ни делается, все, видно, к лучшему. Ты ведь все равно не смог бы усидеть на одном месте. Не из тех, уж таким уродился. Ты был бы как орел, запертый в клетке. Тосковал бы, рвался на волю, пока все перья не облезут.
– А ты, Эйми? Скажи, ты счастлива?
– Очень, – это прозвучало искренне, от всего сердца. – Правда, иногда так закрутишься с ребятишками, просто жуть! Но выдается свободная минутка, переведу дух и сразу понимаю, как все славно и хорошо. Именно этого я всегда и хотела. Так что, в конце концов, мы оба нашли свой путь, верно? И горный орел, и домашняя голубица.
– Эйми, – осторожно начал Лэард, – а нельзя ли приехать тебя повидать?
– Ох, Эдди, в доме жуткий бардак, а я выгляжу, как настоящая ведьма. Просто не вынесу, если ты увидишь меня в таком виде, особенно после того, как прилетел с Цейлона через Багдад, Рим и Нью-Йорк. Такой человек, как ты, будет глубоко разочарован. Стив на прошлой неделе болел корью, а малышка поднимает нас с Гарри по три раза за ночь и…
– Да будет тебе, не прибедняйся, – сказал Лэард. – Все равно, так и вижу, как ты вся светишься изнутри от счастья. Знаешь, давай я заеду в пять, только чтоб взглянуть на тебя, и тут же смоюсь? Ну пожалуйста!
Лэард ехал в такси к дому Эйми и, ввиду предстоящей встречи, силился настроиться на сентиментальный лад. Пытался представить лучшие дни, что они провели с Эйми, но перед глазами танцевали почему-то только какие-то старлетки или нимфетки с красными губами и пустыми глазами. Эта нехватка воображения, как и все остальное, что происходило с ним сегодня, объяснялось возвращением к дням зеленой юности, службы в ВВС, когда все хорошенькие женщины казались на одно лицо.
Лэард попросил водителя подождать его.
– Я быстро. Краткий визит вежливости.
Подходя к небольшому стандартному домику Эйми, он изобразил на губах печальную улыбку умудренности, улыбку мужчины, которому немало довелось испытать в этой жизни. Который был бит, но и сам наносил удары, который сумел извлечь из этого опыта немало полезного, и даже умудрился разбогатеть на всем своем долгом и трудном пути.
Он позвонил и, ожидая, пока ему откроют, отколупывал ногтем краску с дверного косяка.
Гарри, муж Эйми, низенький крепыш с добрым лицом, пригласил его войти.
– Сейчас, только сменю малышке пеленки, – донесся из глубины помещения голос Эйми, – и буду с вами!
На Гарри явно произвели впечатление рост и осанка, а также великолепный костюм гостя. Лэард посмотрел на него сверху вниз и дружески потрепал по плечу.
– Понимаю, многие восприняли бы это превратно, – сказал он. – Но то, что было у нас с Эйми, было давным-давно. Тогда мы вели себя, как пара одуревших от любви молокососов, но с тех пор повзрослели и поумнели. Надеюсь, все мы теперь будем добрыми друзьями.
Гарри кивнул.
– Да, конечно. Почему бы и нет? – сказал он. – Желаете что-нибудь выпить? Вот только выбор у меня, боюсь, небольшой. Виски или пиво?
– Да что угодно, Гарри, на твое усмотрение, – ответил Лэард. – На Майорке мне доводилось пивать каву. Пил виски с британцами, шампанское с французами, какао с племенем тупи. А с тобой готов выпить и виски, и пива. А когда я был в Риме… – Тут он опустил руку в карман пиджака и извлек оттуда табакерку, инкрустированную полудрагоценными камнями. – Вот, привез тут маленький сувенир для тебя и Эйми. – Он сунул коробочку в руку Гарри. – Это из Багомбо.
– Багомбо? – переспросил совершенно потрясенный Гарри.
– Есть такое местечко на Цейлоне, – небрежно объяснил Лэард. – Я там летал на разведку жемчужных месторождений. Платили – просто фантастика, средняя температура не ниже семидесяти пяти по Фаренгейту. А вот муссоны эти мне страшно не понравились. Просто невозможно торчать в комнате на протяжении нескольких недель и ждать, когда они наконец прекратятся, эти дожди. Мужчина должен иметь возможность выйти из дома, иначе ему не жить – разжиреет, станет толстым и вялым, как старая баба.
– Гм-м, – буркнул Гарри.
Этот маленький домик, запахи кухни, весь этот гам и суета семейной жизни уже начали действовать Лэарду на нервы – захотелось поскорее убраться отсюда. – А у вас здесь очень мило, – фальшивым голосом заметил он.
– Немножко тесновато, – сказал Гарри. – Но…
– Зато уютно, – перебил его Лэард. – Слишком большое пространство, это тоже, знаешь ли, сильно угнетает. Там, в Багомбо, у меня было целых двадцать шесть комнат и двенадцать слуг, и за каждым глаз да глаз. И знаешь, это как-то не слишком радовало. И еще все просто смеялись надо мной! Но дом сдавался всего за семь долларов в месяц! Ну скажи, разве можно было устоять?
Гарри направился было к кухне, но остановился в дверях, точно громом пораженный. «Семь долларов в месяц за двадцать шесть комнат?!»
– Причем учти, плата повысилась, когда меня взяли. Жилец, снимавший дом до меня, платил всего три.
– Три… – пробормотал Гарри. – А скажи-ка мне, приятель, – нерешительно начал он, – не найдется ли там для американцев какой другой работенки, а? Они ведь нанимают людей?
– Да, но ведь ты вряд ли захочешь расстаться с семьей, верно?
На лице Гарри возникло виноватое выражение.
– О нет! Нет, конечно. Просто подумал, можно забрать туда и их.
– Не выйдет, – сказал Лэард. – Они нанимают только холостяков. Да и потом, зачем тебе туда? Вы здесь очень славно устроились. К тому же у тебя должна быть специальность, пользующаяся там спросом. За что платят по-настоящему большие деньги. Надо уметь управлять самолетом, моторной лодкой, знать язык. Кроме того, наем рабочей силы обычно происходит в барах, в Сингапуре, Алжире, разных таких местах. Кстати, теперь собираюсь лететь на урановые рудники, надеюсь прибрать их к рукам и завести собственное дело. Это в Клондайке, и мне нужно пару хороших техников, умеющих управляться со счетчиками Гейгера. Ну, скажи, ты можешь починить счетчик Гейгера?
– Не-а, – ответил Гарри.
– В любом случае, я все равно буду брать мужчин, не обремененных семейством, – добавил Лэард. – Клондайк – просто замечательное местечко, там полным-полно лосей и семги. Но дикое. Не слишком подходящее для женщин или там детей. Ну, а ты чем промышляешь?