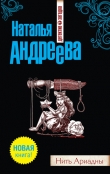Текст книги "Бородинское поле"
Автор книги: Иван Шевцов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 52 страниц)
народов. Теперь она строго, критически смотрела на эскизы и
пыталась как бы взглянуть на них глазами Олега: понравятся
ли они ему? Это было главное. Она боялась огорчить его. Он
строг, требователен, снисхождения от него не жди. Да она и не
хотела снисхождения. Речь идет не о каких-то сиюминутных
эстампах ширпотреба – это же на века.
Сознание того, что она творит на века, что это должно
остаться и тогда, когда уже не будет в живых и ее и Олега,
вызвало чувство ответственности и гордости, заставило
сосредоточиться и строже взглянуть на свой труд. Боязнь, что
эскизы не понравятся Олегу, бросала ее в состояние уныния и
страха. Нет, она не понесет эти эскизы завтра, они не готовы.
Предстоит еще большой труд, новые поиски. Она позвонит ему
утром, объяснит, и он поймет, он должен ее понять, он добрый,
он славный.
Поговорив с Валей по телефону, Олег тотчас же уснул:
сказывалась усталость, вызванная возбужденностью и
нервным напряжением. Когда Варя, разделавшись с посудой -
пришла в спальню, Олег уже видел первые сны. Снилось ему
совсем не то, что б он хотел, – снился ему Леонид Викторович
Брусничкин, сидящий на царском троне, в шапке Мономаха и в
парчовой одежде Годунова (перед этим Олег с Варей слушали
в Большом театре оперу Мусоргского, партию царя Бориса
великолепно исполнял Александр Огнивцев). Олег сначала
удивился, увидав Брусничкина в таком одеянии, спросил его:
"Что за клоунада? Цирк! Ты что, архитектуру забросил и в
театр перешел?" – но грозный царь – теперь он уже был похож
на Ивана Грозного – строго осадил его каким-то неестественно
визгливым, истеричным окриком: "Я государь! Ты что, ослеп,
не видишь? На мне шапка Мономаха!"
Олег присмотрелся – и действительно, та самая,
уникальная, знаменитая историческая реликвия, которую он
видел в Оружейной палате, торжественно покоилась сейчас на
голове Брусничкина. А все десять пальцев его рук сверкали
бриллиантами, сапфирами, рубинами, изумрудами. И на
каждом пальце по нескольку колец и перстней. "Да что ж это
такое, как могло случиться? Брусничкин – и вдруг на царском
троне?" – с досадой и негодованием подумал Олег.
Но ведь шапка Мономаха – это же историческая
реликвия, национальное достояние! И как он посмел,
Брусничкин, прикоснуться к ней, напялить на свою безголовую
башку! Ему вспомнилась смешная фраза, которую он слышал
на стройплощадке: бригадир, отчитывая нерадивого рабочего,
говорил: "Безголовая твоя башка". И вот теперь Брусничкин
напялил корону русских царей на свою безголовую башку.
Значит, он ее выкрал из Оружейной палаты, проник в Кремль и
выкрал. Надо позвать милицию, а то, чего доброго, уплывет
эта бесценная реликвия за рубеж, как многое уплывало.
Он проснулся, так и не позвонив в милицию. И уже долго
не мог уснуть. Нелепый сон и Брусничкин в шапке Мономаха в
тот же миг растаяли, хотя реальный Леонид Викторович в это
время без всяких сновидений храпел в соседней комнате и
храп его пронизывал тесовую перегородку и доносился до
слуха Олега. Подумалось: наверное, его храп и навеял этот
странный сон.
Олег вспомнил прошедший день, гостей, споры и Валю
Макарову. Ему вдруг показалось кощунством думать о Вале,
слушая ровное дыхание жены – Варя спала, подложив под
щеку ладонь, крепким сном, даже храп Брусничкина ее не
беспокоил. И Олег начал вспоминать предыдущий день, когда
они вдвоем с Варей в субботу, накануне дня его рождения,
решили отметить пятидесятилетие ужином в ресторане
"Будапешт". Они шли по улице Горького не спеша, просто
гуляли, вспоминая далекие годы юности. "Может, сходим на
концерт?" – предложила Варя. "Куда – вот вопрос", – ответил
Олег без особого энтузиазма. Но на всякий случай читали
афиши концертов. Вот метровые буквы зазывали на концерт
Иосифа Кобзона, красочный, со вкусом сделанный плакат
оповещал столицу о выступлении Елизаветы Авербах.
"Может, сходим?" – сказала Варя. "Зачем? – вяло
отозвался Олег.
Была еще афиша, скорее, объявление, оповещавшее о
выступлении в заводском клубе русского оркестра "Боян" под
управлением Анатолия Полетаева. "На этот бы я сходил, да
далеко добираться: клуб-то на окраине города", – сказал Олег.
"В клуб я не хочу, – отозвалась Варя и напомнила: – Мы же
решили в "Будапешт". После концерта не успеем: рестораны
до одиннадцати часов".
"Будапешт", расположенный в самом центре Москвы,
между Неглинкой и Петровкой, когда-то назывался "Аврора".
Просторный зал с мраморными колоннами, хорошая кухня,
какая-то слоя, особая атмосфера – все это когда-то, еще до
войны и в первые послевоенные годы, привлекало Олега и
Варю.
На этот раз свободных столиков не оказалось, и они сели
за стол, за которым сидели двое уже немолодых мужчин, как
потом выяснилось, приезжих, проживающих здесь же, в
гостинице "Будапешт". Они спустились поужинать. На эстраде
оглушительно играл джаз, и чернобородый откормленный
юнец, похожий на библейского апостола, гнусаво шептал в
микрофон стихи Есенина на невообразимый мотив.
– Жаль, что Есенин не слышит, как над ним измываются
благодарные потомки! – явно негодуя, сказал
командированный.
– А может, напротив, хорошо, что не слышит? -
поддержал реплику Олег. – А то перестал бы писать стихи или
вторично ушел бы в мир иной от такого зрелища.
Потом начались танцы уже под какой-то бешеный рев
джаза. Выходили пары, молодые и пожилые, с осоловелыми
глазами, раскрасневшимися лицами. Одни томно прижимались
друг к другу, точно хотели навеки слиться воедино, другие,
напротив, отойдя друг от друга и извиваясь корпусом,
выделывали умопомрачительные па. Особенно запомнилась
одна тощая, плоскогрудая, жилистая девица. В ней столько
было нерастраченной энергии, азарта и огня, что казалось, в
какой-то критический миг ее тело не выдержит такого бешеного
темпа – разлетится на части.
Она высоко, до уровня плеч, подбрасывала тонкие
смуглые ноги, выкидывала в стороны руки-плети, с такой силой
отбрасывала голову, что казалось, та вот-вот оторвется.
– Во дает, во выкаблучивается! – с убийственным смехом
говорил один из командированных. И добавил: – Как в кино,
когда времена нэпа показывают.
Варя глядела на эти танцы негодующими глазами, и Олег,
чувствуя отвращение к этой, как он выразился, мерзости,
быстро рассчитался с официантом.
На улицу вышли с чувством горечи и досады. И тогда в
них пробудились воспоминания, как осенью сорок первого,
перед уходом Олега на фронт, они с Варей в Колонном зале
Дома Союзов слушали симфонический концерт. Дирижировал
тогда выдающийся музыкант Николай Семенович Голованов. И
пожалели, что пошли в ресторан, – лучше бы в Колонный зал
на концерт. Олег посмотрел на часы и сказал: "А мы еще
успеем. Пошли". Они успели. В кассе были билеты, играл
Большой симфонический оркестр. За дирижерским пультом
стоял невысокий, коренастый человек с гривой Бетховена -
Константин Константинович Иванов, воспитанник Буденного,
бывший трубач Первой Конной армии. Исполнялись
Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов. После ресторана
с невероятным джазом и безголосым певцом, после
сексуальных танцев атмосфера Колонного зала показалась до
боли родной, точно они с дикой планеты вернулись в отчие
края. И снова они были молодыми, красивыми и гордыми.
Олегу казалось, что внешне Варя мало изменилась за
эти прошедшие тридцать лет. Но вместе с тем в характере ее
произошли какие-то серьезные перемены. Не было прежнего
душевного тепла и нежности, а его ласки она грубо отвергала.
Все куда-то улетучилось, растаяло. Он не заметил, когда это
произошло, лишь подозревал, что Варя кем-то увлеклась, так
как другого объяснения ее черствости он не находил, хотя для
подобных подозрений не было никаких оснований. Варя
внушала ему мысль, что такова природа человеческих
взаимоотношений: любовь, мол, проходит, остается чувство
уважения. Олег не желал с этим мириться, решительно
отвергал, как он говорил, подобные доморощенные теории, но
взаимности не получил. Постепенно, год за годом, их чувства
черствели, холодок между ними усиливался, появились
раздражительность и недовольство с обеих сторон, взаимные
компромиссы, которые прежде рассеивали недоразумения,
были позабыты. А внешне, для постороннего глаза, все,
казалось, как надо: хорошая, благополучная семья.
И вот концерт в Колонном зале обрадовал их и вместе с
тем напомнил о чем-то далеком и прекрасном, что незаметно
ушло от них, навсегда потеряно. "Навсегда ли? А может,
временно? – с надеждой спрашивал себя Олег и отвечал: – От
меня это не зависит, и не по моей вине потеряно".
Варя слушала музыку с большим волнением. Она словно
погрузилась в неожиданно новую сферу, найдя там праздник
души. Музыка очаровывала и в то же время тревожила, больно
задевала сокровенные струны, порождала воспоминания. Но
Варя была далека от признания собственных ошибок и вины.
Она просто тосковала о чем-то несбывшемся, прошедшем
мимо....Голова была тяжелая, свинцом налитая, во рту
пересохло. Олег встал, направился в кухню, чтобы выпить
стакан минеральной. На террасе столкнулся лоб в лоб с
Брусничкиным. Вид у Леонида Викторовича был какой-то
жалкий, растерянный.
– Что не спится? – спросил Олег первое, что пришло на
ум.
– Хотел выйти, но там собака на крыльце лежит и рычит. -
Слова свои он дополнил жестом.
– Должно быть, отец спустил его, – сказал Олег, зевая. -
Пойдем, он не тронет.
Во дворе было свежо и сыро. Темно-серое небо без
звезд не предвещало ясной погоды. Здоровенный мохнатый
Дон нехотя встал с крыльца, отошел к калитке и лег, загородив
своей глыбой выход на улицу. Брусничкин уныло взглянул на
собаку и спросил:
– А моя машина? Ариадна, должно быть, в машине спит?
– Она уехала. Еще вечером, пожалуй засветло.
– Одна? – почему-то настороженно спросил Брусничкин.
– Возможно. Впрочем, я не обратил внимания.
– А Павел Павлович с ней уехал?
– Нет, он с Орловыми.
– Как так, почему? – В голосе Брусничкина звучали
раздражение и тревога.
– Не знаю, – нехотя буркнул Олег.
Брусничкин был явно возмущен и растерян.
– Черт знает что! Почему меня не разбудила?
– Должно быть, пожалела тревожить сладкий сон,
проявила заботу, – с едва скрытой иронией ответил Олег, но
чувствительный к определенной теме Брусничкин понял
иронию и продолжал вслух возмущаться:
– Позаботилась... Только о ком? – И, махнув рукой,
удалился в глубь сада, спросив из темноты: – Так он меня не
тронет?
Олег не ответил. Он ушел на кухню и, не найдя там воды,
утолил жажду пивом. Тотчас же появился на кухне и
Брусничкин. Извиняющимся тоном проговорил:
– Я, кажется, вчера перебрал – голова трещит, а во рту как
в свинарнике. Хорошо бы дезинфекцию произвести. – Влажные
глаза его скользнули по бутылкам пива.
Олег налил ему стакан. Брусничкин выпил залпом и
наполнил еще стакан, но пить сразу не стал. Закусил
малосольным огурцом. И заговорил дружелюбно, со вздохом, и
вздох этот означал раскаяние и примирение:
– У вас симпатичная сестра. Умница. Она кто, врач? -
Олег кивнул, и Брусничкин, выпив еще стакан пива, продолжал:
– А муж ее, кем он вам доводится – свояк, если не ошибаюсь, -
человек видный и, знаете, большой эрудит.
– Я бы не сказал, – выпалил как-то машинально Олег и
пожалел. На всякий случай прибавил: – Эрудит-дилетант.
– Это ничего не значит. В конце концов мы все дилетанты.
В наш век энциклопедистов нет и быть не может.
Уловив в его словах лицемерие, Олег еще раз, теперь
уже демонстративно, зевнул и, делая усилие над собой,
сказал:
– Пиво на сон клонит. Еще часа три можно подремать.
Брусничкин взглянул на две еще не откупоренные
бутылки пива, сказал, изображая на лице растерянность:
– А я еще посижу. Я выспался. Посижу до рассвета – и на
электричку.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
В части подполковника Шпакова с утра ждали генерала
Думчева. Накануне его приезда Шпаков – бритоголовый,
полный, на вид даже рыхловатый, и добродушный – обошел
подразделения и службы, все дотошно проверил и просмотрел
и остался доволен. Везде нашел он полный порядок, все
сверкало строгой праздничной чистотой. Только на одном
агрегате не хватало щитка-указателя. Собственно, щиток
приготовили, оставалось только прикрепить его к
металлической стенке.
– Это мы мигом, товарищ подполковник, – пообещал
старший лейтенант Геннадий Федоров и, весело сверкнув
черными озорными глазами, молодцевато прищелкнул
каблуком. В части Федоров слыл лихим офицером, для
которого все нипочем и нет для него ничего невозможного и
даже запретного. "Стоит только захотеть, и все будет в
аккурат", – любил он щегольнуть этой фразой и считал ее
своим девизом. Смекалистый и находчивый, Федоров верил в
свое везение, как в божий дар, и полагал, что сама природа
предназначила ему большое будущее, в которое он мчался
очертя голову. Его необузданная самоуверенность всегда
граничила с риском, часто безрассудным, но и тут он придумал
для себя формулу: "Без риска не бывает удачи, риск -
благородное дело".
Как бы то ни было, а Федорову везло: он быстро и легко
продвигался по службе, благодаря не столько своему
характеру, сколько природному уму, сообразительности и
особому пристрастию к технике. В технике он хорошо
разбирался, тут он умел проявить себя с блеском, как
говорится, показать товар лицом Его отмечали, поощряли.
Самовлюбленный и заносчивый, Федоров задирал нос, после
каждого поощрения ходил этаким гоголем, ног под собой не
чуя. И тогда в него вселялся какой-то бесенок, лукавый,
озорной о коварный, кружил ему голову дурным хмелем и
толкал совершить что-нибудь такое, что не дозволено другим.
Бесенок этот шептал ему: "Ну давай, давай, покажи, что тебе
это раз плюнуть. Ты ж Федоров". И Федоров "показывал":
выкидывал такие коленца, за которые с него строго
взыскивали – его наказывали. Но, как это ни странно, и
поощрения и наказания он принимал как должное, как
совершенно естественное и даже необходимое. "Одно другому
не мешает. Не ошибается тот, кто не рискует. А риск -
благородное дело, следовательно, и сопутствующие риску
ошибки тоже дело благородное", – шутя, оправдывался он и
продолжал
no-прежнему держаться своих принципов,
усвоенных им еще в школе.
После окончания школы он поступил в высшее военное
училище и уже на последнем курсе мысленно начал готовить
себя в военную академию. Училище окончил успешно, но был
случай, когда его едва не отчислили за
недисциплинированность. Одно дело школа, другое – военная
служба с четким регламентом и дисциплиной. В школе учителя
называли Геннадия Федорова анархистом, в военном училище
его окрестили партизаном. И эти юношеские "анархизм" и
"партизанщину" он сохранил в себе в несколько измененном
виде, надев офицерские погоны. Внешне симпатичный -
крутые черные брови, черные глаза и бледное лицо, -
стройный и рослый, он имел к тому же общительный и
веселый характер, что позволяло ему быстро сходиться с
людьми. Правда, не всем нравилась его самоуверенность,
граничащая с высокомерием и заносчивостью, однако
эрудиция, хотя и поверхностная, показная, но густо
приправленная апломбом, несколько смягчала дурные черты
характера и вызывала снисхождение. Словом, и в хорошем и в
плохом он всегда оставался на виду.
Федоров был начальником младшего сержанта Игоря
Остапова. По характеру это были две крайние
противоположности, что, впрочем, не мешало им
симпатизировать друг другу. Сам недисциплинированный,
Федоров ценил в Остапове неукоснительную четкость,
дисциплинированность и выдержку, и если не отличное, то, во
всяком случае, хорошее знание техники. Остапов же видел в
своем командире прежде всего искусного техника, прекрасно
разбирающегося в сложной аппаратуре.
– Остапов, – позвал Федоров Игоря, как только
подполковник Шпаков ушел, – эту штуковину нужно приделать
вот сюда. Понял? – И подал Игорю металлический щиток-
указатель.
– Не совсем, товарищ старший лейтенант, – как всегда
спокойно, ответил Остапов, и большие серые глаза его
излучали тихую, едва уловимую улыбку.
– Что тебе непонятно? – Быстрый,– резкий взгляд
Федорова вонзился в младшего сержанта.
– Каким образом прикрепить металл к металлу?
Припаять, приварить?..
– Приклеить. Пластилином, крахмалом, хлебным
мякишем, а можешь слюной. В зависимости от соображения, -
съязвил Федоров и, довольный собой, добродушно
рассмеялся.
– Можно и слюной, только едва ли будет держать, – с
нарочитой серьезностью парировал Игорь и прибавил: – А
может, лучше канцелярским клеем? – Он стоял перед
офицером вытянувшись в струнку, долговязый, худой, и с
деланной готовностью моргал густыми ресницами.
Федоров, сам шутник, понимал и умел ценить юмор
подчиненных. Сказал серьезно:
– Привинтить. Двумя шурупами. Разве не видишь
отверстий? Соображать надо.
– Стараюсь, товарищ старший лейтенант. Только в таком
случае придется стенку сверлить. Дрелью.
– Правильно, сообразил. Именно дрелью, а не шилом.
– Но там, внутри, проводка и ток высокого напряжения.
– Знаю. Ну и что? Как же быть? Что ты предлагаешь?
– Вот я и соображаю, товарищ старший лейтенант.
Опасно. Большой риск.
– Риск – благородное дело. Ты это знаешь, Остапов?
Игорь смолчал, не решаясь, однако, сверлить стенку, за
которой были провода под высоким напряжением. Разумеется,
об этом знал и Федоров. Но он считал, что можно просверлить
отверстия для шурупов именно в стороне от проводов. А кто
знает, где они проходят: выше, ниже, правее пли левее, – не
видно же. Федоров доверился своей интуиции и, отдавая
дрель Остапову, сказал:
– Сверли вот здесь.
Игорь дрель взял, но сверлить не спешил, всем своим
видом он выказывал нерешительность и сомнение.
– Ну ты что? Боишься? Давай!
Федоров решительно взял у него дрель и, напрягшись,
просверлил в металлической стенке дыру. Раскрасневшийся и
довольный, передал дрель Остапову:
– Вот так-то. А ты боялся. Сверли вторую и прикрепляй
щиток.С этими словами, довольный собой, Федоров ушел.
Игорь приложил к стенке металлическую пластинку с
табличкой, поставил метку второй дырки и включил дрель.
Металлическая стенка сопротивлялась, сверло шло туго,
вгрызаясь миллиметр за миллиметром, и Остапов подумал:
как это ловко и легко получилось у старшего лейтенанта! Со
стороны казалось, что Федоров особенно и не напрягался.
Теперь, оставшись здесь один, Игорь почувствовал какую-то
неловкость перед командиром за нерешительность и
излишнюю предосторожность. Ведь старший лейтенант, чего
доброго, подумал, что он, Остапов, струсил, и доказал ему
личным примером, что опасения были напрасны: дырка
просверлена. С этими мыслями он, упрекая самого себя, все
сильнее нажимал на дрель и чувствовал, как хотя и медленно,
но все же уверенно углубляется сверло в металл стенки,
утопая в ней все больше и больше. Наконец и совсем
провалилось, легко пошло и погрузилось на всю глубину. Игорь
хотел облегченно вздохнуть по поводу окончания, но не успел.
Вообще он ничего не успел сообразить: в одно мгновение
раздался оглушительно трескучий взрыв, отбросивший его в
противоположный угол. Игорь не почувствовал ни крепкого
удара о стенку – а ударился он, к счастью, не головой, а
плечом, – ни самого звука, оглушившего его. На какие-то
минуты он потерял сознание. И когда очнулся, то увидел
склонившегося над собой старшего лейтенанта Федорова,
вернее, только его бледное, как бумага, лицо и глаза, черные,
растопыренные в испуге. Федоров почему-то беззвучно шавкал
ртом, как рыба, выброшенная на берег, и чего-то умоляюще
ждал от него, Игоря Остапова. Игорь не понимал, что именно
хочет от него командир. Он не ощущал боли, он вообще ничего
не ощущал. Он только глядел, медленно и устало, и видел, как
появились другие лица – товарищи по подразделению – и затем
стремительно ввалился запыхавшийся и взволнованный
подполковник Шпаков и тоже, как и Федоров, беззвучно шавкал
ртом. Тогда только Игорь обратил внимание на совершенное
отсутствие звуков. Это была не тишина, а что-то другое,
незнакомое ему, когда есть движения, энергичные, резкие,
когда люди пытаются говорить, а звуков и слов нет.
Потом его уложили на носилки, унесли, и он,
почувствовав слабость во всем теле, какую-то невесомость,
уснул. Проснулся в санчасти. В палате он был один. Прежде
всего, пожалуй, инстинктивно, чем осознанно, прощупал
самого себя. Все было на месте, при нем: руки, ноги целы. И
никаких болей. Лишь сухость во рту и монотонный шум в ушах.
Он напряг память и начал припоминать все по порядку.
Дрель... Сначала сверло шло туго, а под конец сразу легко,
провалилось. И взрыв. Значит, угодил в провода, замкнул. Но
почему же это не произошло раньше, когда старший лейтенант
сверлил первое отверстие? Просто ему повезло, Федоров
вообще везучий. Сам об этом говорил, даже хвастался. А ведь
могло и его вот так же. Могло быть хуже. А что хуже?
Этот неожиданный вопрос прозвучал в нем тревожно.
Игорь вспомнил: взрыв произошел как раз накануне
инспекторской проверки. Выходит, вся кропотливая работа
целого подразделения пошла насмарку. Ну конечно же:
выведен из строя агрегат – шуточное ли дело! Он представил
себе: приехала комиссия с генералом Думчевым во главе – и
вот вам сюрприз: сожгли дорогостоящий агрегат. И кто
виноват? Конечно же он, Игорь Остапов. Он сверлил, не
рассчитал, допустил небрежность. Поругают и старшего
лейтенанта, это естественно, но главным виновником будет он,
младший сержант Остапов. Не Федоров же. У Федорова
взрыва не произошло. Хотя, в сущности, старшему лейтенанту
просто повезло. "Повезло", – горько подумал он. Какое уж тут к
черту везение – все подразделение теперь на последнем
месте. Да что подразделение! Пятно на всю часть. А что
подумает генерал о нем, об Игоре? От такой мысли
становилось муторно, нестерпимо – хоть сквозь землю
провались. Только б родителям не сообщили. И как он теперь
будет смотреть в глаза товарищам, подполковнику Шпакову. . А
Думчев с ним и разговаривать не станет. И будет прав.
Немного успокоившись, Игорь стал заново вспоминать и
анализировать каждый свой шаг, начиная с того момента, когда
в его руках оказалась эта злосчастная дрель. И выходило, что
опасения его не были безосновательны, он не хотел сверлить.
В сущности, он выполнял приказ командира...
В коридоре послышались твердые шаги и негромкие
голоса. Собственно, он слышал лишь один голос – мужской, и
кажется, знакомый, кого-то напоминающий. Широко
отворилась дверь палаты, и следом за сестрой в белом халате
вошел Федоров. Вид у него был какой-то растерянный и
виноватый, словом непонятный, странный вид.
– Тебя пришли навестить, Остапов, – сказала сестра и,
словно спохватившись, спросила: – Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо, – кивнул Игорь, настороженно глядя не на
сестру, а на старшего лейтенанта Сестра повернулась и ушла,
оставив их вдвоем. Федоров воровато посмотрел на
закрывшуюся за сестрой дверь и, неловко присев на табуретку
возле койки, спросил:
– Ну как ты? Что болит?
Игорь обратил внимание, что и у Федорова, как и у
медсестры, голос далекий и слова невнятные. Догадался: со
слухом не в порядке. Ответил негромко, без показного
бодрячества:
– Нормально. Тут мне делать нечего. Я сказал врачу, чтоб
выписывали.
– "Сказал", "сказал"! Ты не спеши. Врачи сами знают,
когда выписывать. Ты, Остапов, счастливый, в сорочке
родился.
– Как там у нас? – нетерпеливо перебил его Игорь. -
Приезжал генерал?
– У нас полный порядок. Представляешь – за ночь мы все
исправили, как ни в чем не бывало. И никаких следов. Комар
носу не подточит. Подполковник наш не ожидал такого,
растрогался старик, молодцы, говорит, ребята, не подкачали.
Генералу он, как и положено, доложил о происшествии. Не
знаю, какой у них разговор произошел, но, кажется, и генерал
остался доволен. Я сужу по тому, как он со мной разговаривал.
– Кто он?
– Ну, естественно, генерал Думчев. Целый час со мной
говорил. Я сразу всю вину взял на себя. Сказал: наказывайте
меня, потому как я приказал Остапову сверлить. Я доложил,
что ты не хотел, сомневался. Я честно доложил. Ты ведь
предчувствовал. А? Знаешь, говорят, есть такое предчувствие.
Или сон дурной перед этим видел? А? Признайся, Остапов!
Ты, конечно, прости меня. Я виноват перед тобой. Это счастье
твое, что все так обошлось. Малость оглушило. Но это ерунда,
доктора говорят, что все пройдет и слух твой восстановится
полностью. Главное, что жив, цел и невредим. А могло... Ты
представляешь, что могло? Жуть, кошмар! Представляешь:
был человек – и нет человека.
– Мы солдаты. Всякое может случиться. На войне сколько
погибло, – ответил Игорь.
– То на войне. Там другое дело. А жертвы в мирных
условиях – непростительная роскошь. Какая там роскошь -
преступление. Генерал так и сказал мне. Конечно, академия
моя на этот раз накрылась. Но я не печалюсь. Все равно от
меня она никуда не уйдет. Время еще есть. Я своего добьюсь.
Думчев вспомнил и тот случай, когда я от поезда отстал.
Говорит: "Тебя судил суд офицерской чести". Ну и что? Судил.
Но после того у меня две благодарности. А стрельбы?
Помнишь, Остапов, как мы тогда стреляли? Первое место на
блюдечке. Это он не учитывает, говорит, Федоров заслуживает
наказания. Возможно, я заслуживаю. Но за то, как быстро мы
все исправили, за это мне опять же полагается приз. А в итоге?
А в итоге нуль, все остаются при своих.
– Это вам нуль, а мне? Что мне причитается? Главный
виновник чепе все-таки я.
– Ты? А при чем тут ты? Ты приказ выполнял. Ты
действовал в соответствии с уставом. Ты, если по совести
рассудить, благодарности заслуживаешь. И генерал Думчев
так и сказал: Остапов – герой.
Генерал Думчев этого не говорил – Федоров приврал.
Вообще он имел нехорошую привычку все приукрашивать,
переиначивать, прибавлять от себя. Да и Думчев разговаривал
с ним не целый час, а всего пятнадцать минут. Ругал его,
мальчишкой назвал, распущенным, недисциплинированным.
Припомнил и случай, когда Федорова судил суд чести. В
прошлом году это было. Подразделение ехало в командировку.
На одной из станций, во время стоянки поезда, Федоров зашел
в вокзальный ресторан. Пообедал с вином, засиделся, когда
вышел на перрон, оказалось, что поезд ушел. Следующий
поезд ровно через сутки. Захмелевший Федоров особенно не
огорчился, пожалуй, даже обрадовался. "Ну отстал и отстал, с
человеком всякое может случиться", – легкомысленно
рассуждал он. Но сутки надо было как-то коротать. Не
болтаться же на вокзале. Вышел в город, потолкался в
магазинах. Время тянулось непростительно медленно.
Случайно забрел в кино. И там встретил девушку, которая, как
он мгновенно решил – а он всегда все решал мгновенно, -
послана ему самой судьбой. Это была стройная, рослая, как и
сам Федоров, шатенка с растрепанными волосами, небрежно
падающими на покатые обнаженные плечи. Легкое пестрое
платьице, очень коротенькое, что называется, на пределе,
обнажало упругие, кофейные от загара ноги.
Познакомились. Девушку звали Новеллой. Он был в
восторге и от девушки, и от ее необычного имени, и от ярко-
пестрого коротенького платьица. Между прочим, восторгался
он всегда искренне, как все увлекающиеся, легкомысленные
натуры. После сеанса они ужинали в ресторане – выпили две
бутылки шампанского, ели окрошку, шампиньоны и фрукты.
Потом, уже вечером, гуляли в городском парке, ели
мороженое, целовались в темных аллеях. Федоров страстно
объяснялся в любви, благодарил судьбу и машиниста поезда,
от которого он отстал, хотя машинист тот был совсем ни при
чем. Все было в розовом тумане, настоящее и будущее. Он
рассказывал Новелле о Москве, где жили его родители, о
военной академии, которая ждет не дождется, когда
осчастливит ее старший лейтенант Федоров. На другой день
они снова побывали в городском парке, и он называл Новеллу
своей невестой, а затем, в ожидании поезда, сидели в
вокзальном ресторане.
К месту командировки Федоров прибыл лишь на третьи
сутки, и его одиссея закончилась судом, чести.
Когда подполковник Шпаков доложил генералу Думчеву о
взрыве и о том, что авария была быстро ликвидирована,
Николай Александрович, вспомнив суд чести, сердито
проворчал:
– Опять Федоров!.. Что ж, урок не пошел впрок. Это его
рапорт вы мне препроводили?
– Так точно, товарищ генерал. Хочет в академию.
– Он хочет – это понятно. А то, что вы считаете Федорова
достойным академии, – это мне совершенно непонятно,
подполковник Шпаков.
– Он первоклассный специалист, товарищ генерал.
– И разболтанный зазнайка. Его бы в детский сад, а, не в
академию.
– Конечно, мальчишество есть. С возрастом пройдет, я
так думаю.
– А я так не думаю, – решительно сказал генерал. -
Мальчишки в Отечественную подвиги совершали. Именно
мальчишки – в пятнадцать – семнадцать лет. Ответственные
задания выполняли. А вашему Федорову нельзя поручить
серьезного дела, хотя он давно уже вышел из мальчишеского
возраста. Нет, для академии он еще не созрел. Пусть
дозревает, а там посмотрим.
Разговор этот происходил в январе. А в апреле и
Шпакову, и тем более Думчеву стало ясно, что Федоров не
"созрел" и уже не "созреет" никогда.
2
Удивительный это месяц – апрель, ни на какой другой не
похожий. Скажем, декабрь мало чем отличается от января и
февраля. Природа спит, укрывшись теплым снежным одеялом,
кругом белым-бело и морозно. Или зеленый июль и его
ближайшие соседи справа и слева, июнь и август, – зеленое
море, зреют плоды. Тепло. Апрель не то. Наши предки
называли его соковиком – так в старом славянском календаре.
Белорусский язык и доныне сохранил это название – соковик.
Идет сок, соки земли поднимаются кверху, и все живое
оживает, пробуждается; соки бродят, как молодое вино. Соками
жизни наполняются природа и люди – пьянящим эликсиром
весны и молодости. Тянется сердце к сердцу, уста к устам.
Апрель – месяц любви и светлых надежд. Апрельский
благовест светлый и чистый, как утренние зори, звонкий и
радостный, как первые трели прилетевших птиц.
В апреле Геннадий Федоров получил пылкое и нежное
письмо от Новеллы. Она тоскует, она места себе не находит,
она грезит им, таким необыкновенным, возвышенным и
умным. Им нужно встретиться непременно. О как она ждет
этой встречи! Кстати, ее посылают на несколько дней в
командировку в небольшой городишко Энск, в тот самый Энск,
в районе которого служит он, старший лейтенант Федоров.
Счастливый случай, сама судьба протягивает им руку. Хорошо
бы там и встретиться. О дне и месте свидания она сообщит.
Апрель бродил в крови Геннадия Федорова. Письмо
Новеллы не просто взволновало и обрадовало – оно лишило
покоя. А ива-бредина, выпустившая на своих, еще безлистых
ветках золотистых мохнатых "цыплят", над которыми
солнечным днем роятся пчелы и поет-заливается зяблик, – как
пьянит и туманит она молодую душу! И зовет, зовет в
неведомое и прекрасное. Звучными сиреневыми вечерами,