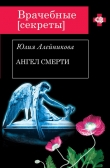Текст книги "Ангел-наблюдатель (СИ)"
Автор книги: Ирина Буря
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 53 страниц)
– И она тоже? – выдохнул он.
– А что, и Игорь…? – догадался я.
Ну, кто бы сомневался! Я даже голову готов был дать на отсечение, что у Игоря такой интерес чуть-чуть раньше проснулся! У его родителей, правда, нужная история уже давно готова была… И вдруг я увидел в ней огромный, зияющий пробел. Который кому угодно с первого взгляда в глаза бросится. И о котором Анатолий, похоже, еще даже не подозревает. И устранить который только я, похоже, могу. Без всяких просьб с его стороны. Хотя они пришлись бы весьма кстати. Чтобы он прекратил воображать, что один только я постоянно в посторонней помощи нуждаюсь.
– Ну вот, видишь! – продолжил я. – Я только потому тебя и побеспокоил. Чтобы, если у вас уже какая-то версия есть, моя с ней не разошлась. Еще ведь и вещественными доказательствами нужно будет заняться…
– Какими доказательствами? – Голос у него многообещающе дрогнул.
– Как какими? – старательно удивился я. – Люди столько лет на земле прожили – и никакого следа от них не осталось? Даже фотографий?
– Да где же их взять? – сорвался он на отчаянный стон.
– Вот сам думаю… – тяжело вздохнул я. – Ладно, я пошел, а то действительно времени в обрез. Спасибо, что определил, в каком направлении мыслить.
Оставив его побарахтаться, как следует, в болоте беспомощности, сам я пошел, естественно, не думать, а работать. Идея скомпилировать в Фотошопе фотографии своих родителей родилась у меня уже давно, а сейчас я с ее помощью мог сразу двух зайцев убить. В результате я оказался точной копией своего отца, а вот мать у меня получилась очень симпатичной брюнеткой – чтобы у Дары больше не было никаких сомнений, в кого она пошла.
Но состарить эти фотографии! Три ночи провозился. Не переставая удивляться, как мне раньше удавалось вообще не спать. Потом, правда, дело быстрее пошло, и я, выполняя данное самому себе слово, взялся за семейный архив Анатолия. Я-то, по моей версии, вышел из семьи не очень обеспеченной и работящей, так что некогда моим родителям было перед камерой позировать, а с его благородным происхождением и над счастливым детством, и над отрочеством пришлось потрудиться.
Честно признаюсь, создание его фотографий принесло мне просто невероятное удовольствие. Младенца на руках у родителей трудно от другого такого же отличить, а вот годам к пяти он превратился у меня в лопоухого толстопуза, очумело, с отвисшей нижней губой, пялящегося в объектив. Потом – в перепуганного первоклассника, вцепившегося обеими руками в букет хризантем и вытянувшегося по стойке «Смирно» в полной готовности исполнить первую же услышанную команду. Эта фотография мне особо понравилась. Потом – в нескладного подростка с непомерно длинными руками и ногами, явно не знающего, куда их девать, и мрачно, исподлобья косящегося на мир. Потом – в прилизанного старшеклассника, явно отличника и любимчика учителей, с ясно читающимся на лице твердым намерением оправдать надежды старшего поколения. Потом… Потом он поступил в университет и, вдали от родителей, к вопросу хранения фотографий отнесся, как все молодые, спустя рукава.
Самое приятное, что он не мог ни заполучить эти фотографии ниоткуда, кроме как из моих рук, ни сделать с ними ничего впоследствии. Спасибо я от него дождался – небрежно вручив ему их в предусмотрительно запечатанном конверте – но на следующий день он опять со мной разговаривать перестал. Татьяна, правда, поглядывала на меня в офисе, усиленно прикусывая нижнюю губу – хоть ей, похоже, мое творение понравилось.
Даре тоже. Дней через десять, на протяжении которых я категорически велел всем дома не отвлекать меня, апеллируя к срочной и серьезной работе (в чем, между прочим, не было ни слова неправды!), я оказался в полной готовности посвятить ее в историю своей жизни. И Галю с Аленкой заодно. Чтобы не выдать Марину. И не выделять Дару и дальше из круга семьи. И одним махом отделаться.
Мое счастливое, безоблачное детство в любящей семье закончилось в тот день, когда мои родители впервые в жизни поехали в отпуск заграницу – на десятилетний юбилей собственной свадьбы. Им хотелось побыть вдвоем, поездка планировалась недолгой – они летели в Египет на несчастные пять дней – и меня оставили на дружественных соседей. Вот только не долетели они до места назначения – рухнул их самолет прямо в море, его даже поднять потом не смогли из-за кишевших на месте катастрофы акул.
Никаких других родственников у осиротевшего меня не оказалось (ваять фотографии каких-то бабушек и тетушек, да еще и запоминать, кто кем кому приходится, у меня уже просто сил не было), и я отправился прямиком в детский дом (здесь мне рассказы Анатолия очень помогли, да и с групповыми снимками намного меньше возни было – там все равно без объяснений одного от другого не отличишь). Никаких особо теплых воспоминаний от него у меня не осталось (а значит, и связей с учителями и соучениками), и воистину настоящая жизнь у меня началась лишь с поступлением в университет, где я и встретил своего единственного близкого друга Анатолия.
Он, кстати, меня потом плагиатором обзывал, хотя в наших историях ничего общего, кроме трагического осиротения, не было. Не говоря уже о том, что я, в отличие от него, всю историю авиакатастроф за добрые двадцать лет перелопатил, чтобы найти подходящую по времени и месту. И никакого наследства не стал себе придумывать, чтобы не выпрашивать потом у наших его материального подтверждения.
Мои женщины отнеслись к моему рассказу по-разному. Галя расплакалась, у Аленки мысли в панике заметались, как только она попыталась представить саму себя, оставшуюся без нас троих, а Дара… Внешне она никак не отреагировала – не вздыхала, не ахала, взглядом сочувствие не выражала. Но одно я знаю точно – никогда прежде не было у меня с ней таких теплых отношений, как в то время. Я все ее настроения чувствовал, когда она совсем маленькой была, а тогда нам обоим вдруг слова перестали требоваться, чтобы понимать друг друга. Я даже подумал, что мне удалось как-то незаметно для себя к ее мыслям пробиться. И с трудом подавил в себе желание при первой же ближайшей встрече ткнуть Анатолия с Татьяной носом в то, как легко добиться открытости и взаимопонимания с ребенком – если говорить с ним искренне и как с равным себе.
Сейчас те с небольшим полгода кажутся мне особо яркими, поскольку обернулись они короткой передышкой перед настоящими неприятностями. Я честно заработал ее напряжением всех своих умственных способностей и приобретенных на земле навыков, но оказалось, что ударные темпы годятся только для сооружения декораций, в которых хорошо короткую сцену из фильма снять, а не жизнь жить. Мой же шаткий, сооруженный на скорую руку, шалаш укрыл меня от палящего жара Дариного любопытства и легкого дождика недоумевающих взглядов в ответ на мое упорное молчание о своей семье. А вот когда тот превратился в неистовый ураган с громами и молниями…
Осенью Дара взломала-таки мой наиболее тщательно оберегаемый сайт. Когда именно, не знаю. Но точно после дня рождения Игоря. Я почти уверен, что он похвастался ей семейным альбомом Анатолия (и зачем только я ему столько фотографий соорудил!), вольно и невольно заставив ее задуматься, почему у меня их так мало оказалось. После чего она, разумеется, принялась их искать. У меня, естественно, в столе и в редчайшие моменты моего отсутствия. Черт меня дернул с машиной на диагностику сунуться – стучать что-то, понимаешь, начало!
Вместо фотографий она нашла там документы. Все наши документы – я их у себя хранил, потому что Галя вечно сунет куда-то что-то важное, а потом, когда оно срочно понадобится, днями может искать. Вот так и наткнулась Дара на наши паспорта, свидетельство о браке, мой диплом и Аленкино свидетельство о рождении. И, как нетрудно догадаться, на свое собственное тоже. В котором стояла дата, прилично опережающая дату нашей свадьбы, а в графе «Отец» красовался жирный прочерк.
Я не знаю, что сделал бы обычный ребенок на ее месте, но Дара никому и словом о своей находке не обмолвилась. Кроме Игоря, конечно. Я, правда, заметил, что она опять как-то в себе замкнулась, но списал это на то, что после поступления Олега они с Игорем стали намного реже его видеть и наверняка скучали по нему. Аленка заменить им его не могла, поскольку ровней себе они ее все еще не считали – Дара даже ее сторониться начала, заявив вдруг, что ей пора учиться самой уроки делать.
Начался тот устрашающе длительный ураган, кардинально изменивший всю нашу жизнь и чуть до конца ее не разрушивший, с двух ударов грома. Последовавших один за другим и лично меня полностью оглушивших.
Первой в тот вечер позвонила мне Марина.
– Тоша, Дара сегодня спросила меня, отец ли ты ей, – как обычно без вступительной анестезии приступила она к делу. – Прямо в лоб спросила.
Мне показалось, что у меня земля из-под ног уходит.
– А ты что? – невнятно промямлил я ставшими вдруг непослушными губами.
– Я сказала ей, что такие вопросы, – ответила Марина с нажимом, – можно задавать лишь тем, кого они касаются.
– Спасибо, – не нашел я никаких других слов для ответа.
– Что ты собираешься делать? – ни на йоту не ослабила она напор.
– Не знаю, – признался я. – Мне нужно подумать.
Не прощаясь, я повесил трубку. Еще пару настойчивых вопросов, и она окончательно загнала бы меня в полный ступор. Мне нужно было переварить услышанное и продумать план действий. Хоть какой-то. Хоть первые шаги. Хоть с какой стороны подступиться…
Когда снова зазвонил телефон, я впервые всеми внутренностями понял, почему Анатолий так скалится при одном упоминании Марининого имени. Сказал же, чтобы не мешала!
– Тоша, Игорь только что поинтересовался у нас с Татьяной… – также без вступления произнес Анатолий тоном, который я от него еще ни разу не слышал – так передают сводки о последствиях стихийного бедствия в штаб по его ликвидации.
– Отец ли я Даре? – глухо спросил я.
– А ты откуда знаешь? – Он даже удивился собранно и сдержанно.
– Дара о том же сегодня Марину спрашивала, – ухватился я за возможность хоть на какой-то вопрос внятно ответить.
– Лихо! – присвистнул он, и, помолчав, добавил: – Мы ему ничего не сказали – кроме того, что у тебя за спиной такие разговоры вести просто непорядочно…
– … за чем он сразу вашу уклончивость учуял, – продолжил за него я, – и, в крайнем случае, завтра о ней и Дара узнает.
– И что…? – начал он.
– Потом, – оборвал его я, и он, слава Богу, понял и оставил меня в покое.
Не стану скрывать – выбрался я из своего рабочего места в тот день только после того, как девочки уже легли спать. Я просто не мог встретиться лицом к лицу с Дарой. Сколько я за ту ночь кругов по кухне намотал – даже примерно не могу себе представить. Но к утру голова как-то прояснилась, и я понял, что пора Дарин квест на финишную прямую выводить – ей сколько преград ни поставь, она их все равно обходит.
Ни на какой откровенный разговор утром я даже не рассчитывал – мы в школу, как всегда, опаздывали, да и Аленка с нами ехала. Но и после школы, вечером, она, как ни в чем ни бывало, уткнулась в свои дела и не замечала… или делала вид, что не замечает моих постоянных заходов в их с Аленкой комнату. И на следующий день тоже, и еще на следующий – словно вся та куча вопросов, которые у нее наверняка возникли, вовсе и не требовала ответов.
Я занервничал – как бы она эти ответы где-то в другом месте не нашла – и к концу недели, устав гадать, что происходит, позвонил Максу. Трубку он снял мгновенно.
– Ты давно Дару видел? – начал я, не здороваясь.
– Что случилось? – резко спросил он.
– Я тебя спрашиваю, когда ты ее в последний раз видел? – процедил я сквозь зубы.
– Во вторник, – рявкнул он. – Что с ней?
– А ты не знаешь? – ответил я ему тем же. Именно во вторник мне и звонили Марина с Анатолием.
– А-а, – явно спокойнее протянул он. – Ну, рано или поздно это должно было случиться…
– Да ну?! – От внезапно возникшего подозрения меня прямо затрясло. – А не подскажешь, каким образом? Тебе-то, с твоим опытом, наверняка виднее, откуда всякие непредвиденные повороты событий берутся.
– Если тебя интересует, не я ли ей об этом рассказал, – холодно произнес он, – то нет, не я. Перед тем как двойную жизнь вести, нужно узнать, как это делается – хотя бы у тех, кто этому обучен. Элементарная азбука – хранить любые документы в недоступном для окружающих месте, а при отсутствии его всегда держать их при себе.
Вот тогда-то я и вспомнил и свой никогда не закрывающийся стол, и Дарино свидетельство о рождении на самом виду в верхнем его ящике, и свою злополучную поездку на СТО в воскресенье.
– И что у нее сейчас на уме? – поняв, что кроме, как себя самого, пинать ногами мне некого, мрачно поинтересовался я.
– Что значит – на уме? – медленно, с расстановкой произнес он. – Вы что, не говорили с ней об этом?
– Нет еще, – нехотя признался я. – Галя еще вообще ничего не знает, а Дара… как-то не идет на разговор.
– Интересно… – В голосе у него послышалось радостное возбуждение, тут же взятое под контроль.
– Мне не нравится то, что я слышу, – отчетливо, по слогам, произнес я.
– Что именно? – Он уже вернулся к своему обычному, ровному тону.
– Если ты решил воспользоваться ситуацией, – едва сдерживаясь, продолжил я, – даже если не ты ее создал… Ты, кажется, отказался от нее? Даже дважды, насколько я помню? Даже письменно, если память мне все еще не изменяет? Я тебя в порошок сотру, если ты теперь только попробуешь…
– Попробую что? – перебил он меня отнюдь не бесстрастным тоном. – Отказался не я от нее, а ее мать от меня – в твоем присутствии. Перед возвращением на землю меня вынудили подписать официальный отказ от прав на нее – по требованию Стаса и Марины, о чем они сами тебе поведали. И я, если память не только тебе не изменяет, до сих пор ни на какие права не претендовал. Наоборот, всякий раз, когда бы ты ни упирался в свое полное ее непонимание, по первому твоему свистку являлся…
– Да не о тебе речь! – рявкнул я, поскольку крыть его аргументы мне было особо нечем. – Ко всем тем необъяснимым загадкам, которые ее с рождения окружают, теперь еще и твои добавить? Как ты ей объяснишь, куда пропал и почему вернулся? Как ты ей объяснишь, почему тебя никто не узнал? Как ты ей объяснишь, что молчал столько времени?
– Я не собираюсь устраивать вечер откровений, – натянуто ответил он. – Запрет на разглашение их природы не только вам поступил. Категорический. Но я тебя предупреждаю – не вздумай из своего собственного прокола устроить повод ограничить мое с ней общение. Особенно сейчас, когда я ей больше вас всех вместе взятых нужен. И интересен, как последнее время показывает. Я про порошок говорить не буду… раз за разом – я его из тебя просто сделаю.
Не успел я поинтересоваться, где и когда, собственно, приступим к тщательному измельчению друг друга, как он повесил трубку. Я понял, что разговор с Дарой откладывать больше нельзя – пусть даже не хочет она меня больше слышать, я просто обязан пресечь любые ее возможные поползновения к расшатыванию намерений Макса сохранить свое инкогнито. Они, вроде, бетоном приказа его руководства залиты (не менее крепким, похоже, чем тот, которым наше нас сковывает), но мне ли не знать, как Дара умеет своего добиваться!
О разговоре том я не хочу вспоминать. Тем более что мало что и помню. У меня тогда одна мысль в голове набатом гудела: обойти по возможности любые высказывания о ее отце, чтобы ни одно из них у нее в сознании не задержалось. Макс ведь наверняка их оттуда в считанные секунды выудит и, того и гляди, разнесет в пух и прах ту бетонную смирительную рубашку, которая только и поддерживала мои надежды на мирное развитие событий.
Дара выслушала меня без какого бы то ни было внешнего проявления эмоций. Никаких истерик с рыданиями я от нее, конечно, не ожидал, но она словно прогноз погоды на завтра к сведению приняла – подняла на меня прохладный взгляд, кивнула и коротко бросила: «Я поняла, а сейчас мне заниматься нужно».
В тот же день, поздно вечером, я и Гале сообщил о Дарином открытии. Вот тут слезы оказались более чем предсказуемыми – не таким водопадом, правда. Но чего я уж никак не предвидел, так это того, что у Гали вдруг комплекс вины перед Дарой образуется. Прямо начиная со следующего дня она словно в кающуюся грешницу перед лицом невинной жертвы превратилась. Стоило Даре у нее перед глазами оказаться, как те сразу же опять слезами наливались, она даже разговаривать с ней едва слышным шепотом начала, а большей частью молча ставила перед ней тарелку на кухне, глядя себе под ноги, или, заходя на цыпочках в спальню, клала на кровать выстиранные и выглаженные вещи.
Дара тоже не делала никаких попыток разрядить обстановку – куда только подевалось ее ни с чем не сравнимое умение сглаживать любые конфликты. Сначала она с удивлением поглядывала на всякий раз съеживающуюся под ее взглядом Галю, а вскоре и сама стала говорить с ней, упорно не поднимая глаз и как можно короче. Даже все наши на новогодней встрече это заметили. И нужно сказать, их приглушенные, как у постели тяжелобольного, разговоры и сочувственные взгляды на все мое семейство никак не способствовали восстановлению в нем мира и покоя.
Даже в обществе Игоря и Олега к ней никак не возвращалась ее обычная живость. Они в то время, кстати, стали вновь нарочито уединяться, словно отгораживаясь от мира взрослых. И я заметил, что Игорь с Дарой словно ролями поменялись – весь разговор у них вел Игорь, большей частью с Олегом, а Дара помалкивала, глядя куда-то в сторону и то и дело хмурясь. Лишь изредка она вставляла фразу-другую, после чего Игорь вспыхивал и принимался горячо говорить что-то, раздувая ноздри и глядя на нее в упор.
Мне очень хотелось верить, что он убеждает ее прекратить дурацкий бойкот, но выяснить это я не мог даже косвенно. Расспрашивать Анатолия мне не хотелось – заведи он очередную нравоучительную лекцию, поручиться за последствия я бы не решился. Они с Татьяной явно были в курсе происходящего у нас – Татьяна с Галей каждый день шушукалась, вздыхая и недоверчиво покачивая головой – и наверняка поставили бы меня в известность, если бы в мыслях Игоря то ли тревожные, то ли обнадеживающие сигналы объявились. Встречи с Мариной и Максом Дара с Игорем тоже вдруг резко оборвали, а Аленку они на свои совещания с Олегом не допускали.
После зимних каникул Дара окончательно замкнулась в себе, с каждым днем все больше отдаляясь от нас. Она даже завтракала и ужинала так, словно в кафе, за неимением свободных мест, к незнакомым людям подсела – быстро, молча и не отрывая глаз от стола. После еды она вставала, коротко бросала: «Спасибо», мыла свою тарелку с чашкой, вытирала их и ставила на место. Она и вещи свои перестала в корзину для грязного белья бросать – прятала их где-то, пока их не набиралось на полную стирку, и включала стиральную машину, когда Гали дома не было. Та в последнее время стала все чаще в магазин выходить – Дара и гладила себе все сама, в ее отсутствие.
О Галином самочувствии я могу только догадываться, но я уверен, что хуже всех нас в то время было Аленке. О причине холодной войны в доме прямо ей никто не говорил, но она ее, вне всякого сомнения, то ли в Дариной, то ли в моей голове отыскала – и стала льнуть к ней еще сильнее, постоянно мысленно показывая ей картины их неразделимости. Что Дара, похоже, приняла за жалость. К которой она не привыкла. Она ни разу не оттолкнула Аленку (слава Богу, до этого не дошло!), но инициатором их общения быть перестала, и, когда таковое случалось, откровенно дожидалась его окончания.
Я не знаю, говорила ли Аленка о Даре с Галей – она вдруг начала за ней увязываться всякий раз, когда Галя из дома отлучалась. Думаю, что нет – я и сам после двух-трех раз, когда та полночи прорыдала, тихо уткнувшись в подушку и лишь под утро заснув в полном изнеможении, перестал пытаться обсудить с ней, что нам теперь делать. Но меня Аленка постоянно спрашивала – мысленно, конечно – что случилось с Дарой, кто ее подменил и как ее назад расколдовать. А я ей повторял раз за разом, упрямо убеждая то ли ее, то ли себя самого: «Даре сейчас трудно, на нее злое заклинание случайно свалилось, и сбросить его может только она сама. Поэтому ей нужно подумать, а нам подождать – ее никакие чары не осилят, и скоро она к нам вернется».
Но ближе к весне на меня, по крайней мере, эта мантра уже больше не действовала. Как-то в субботу, в начале марта выдался первый, неожиданный, по-настоящему весенний день – яркий, солнечный, когда капель звенит и воробьи почти орут – прямо подарок природы к наступающему 8 Марта. Галя вдруг оживилась, разулыбалась и предложила всем нам после завтрака пойти и прогуляться, как следует, после долгого зимнего сидения в четырех стенах.
Аленка тут же загорелась, но Дара вскинула глаза, быстро обвела ими всех нас и снова опустила их с непроницаемым видом.
– Мне заниматься нужно, – произнесла она ровным тоном и вышла из кухни.
Во мне словно пружина лопнула. Видя, как быстро и привычно опустились уголки Галиных губ и как испуганно притихла Аленка – словно воздушный шарик от прокола сдулся – я понял, что вместе с зимой пришло к концу и мое терпеливое ожидание скорых перемен к лучшему. Терпеливое и безучастное.
Выпроводив на улицу Галю с Аленкой, чтобы хоть они солнцу порадовались, я решительно зашел в спальню.
– Дара, зачем ты это делаешь? – прямо спросил я, усаживаясь на Аленкин стул у письменного стола, чтобы наши с Дарой глаза на одном уровне оказались.
– Что я делаю? – с вызовом глянула она на меня.
– Мать обижаешь, – уточнил я, внимательно следя за выражением ее лица. – И Аленку.
– Аленку я не обижаю, – быстро отвела она глаза в сторону, – она и без меня прекрасно погуляет.
– Напрасно ты в этом так уверена… – начал я, и тут же прикусил язык, чтобы не вступать в опасное обсуждение мысленных контактов. – Но пусть даже так. Но матери ты за что бойкот объявила?
– Бойкот? – вскинула она надменно бровь. – Ничего я ей не объявляла, мне просто не о чем с ней разговаривать.
– Опять позволь с тобой не согласиться, – на остатках терпения спокойно продолжил я. – Мне кажется, что как раз с ней тебе очень даже есть, о чем поговорить. Именно с ней – и ни с кем другим, – добавил я с нажимом.
– А-а, – откинулась она на спинку своего стула и в упор уставилась на меня, прищурившись. – Только Марина – или о ком ты там говоришь – почему-то не ей, а тебе о моих вопросах сообщила. Я уже давно заметила, что вы все ей слово даете, только когда речь о тряпках или рецептах идет. Так что не вам, которые сами ее ни к каким серьезным делам не подпускают, рассказывать, с кем и о чем мне говорить. – Помолчав, она вдруг добавила, словно не сдержавшись: – Меня вообще не удивляет, что ее все бросают.
– Что? – Я резко выпрямился, с трудом веря своим ушам.
– А то! – Ее как будто прорвало. – С ней всем не о чем разговаривать! Ее ничего в жизни не интересует: на работу ходит, потому что так надо, а после нее высшее удовольствие – дурацкую мелодраму по телевизору посмотреть. Что она кому-то рассказать может? Как котлеты в тысячный раз пожарила? Или как еще одна, сотая, парочка влюбленных в мыльной опере друг друга нашла вопреки всем и вся? Жалкая она какая-то! Лишь бы слезы лить – неважно, по какому поводу. Вот от нее и стараются все избавиться.
– Все? – коротко поинтересовался я, чтобы прервать эту тираду. Глубоко внедряются нам в сознание профессиональные обязанности – даже моя привязанность к Даре, как выяснилось, не смогла их пересилить. Я почувствовал, что еще пару таких фраз – и я перейду к защите хранимого объекта. Активному и решительному. На что я не имею никакого права. И о чем Дара уже прекрасно знает.
– Ну, допустим не все, – небрежно отмахнулась от моего вопроса она. – Но ты – просто такой человек… привязчивый. То, что вы с ней как-то ужились, скорее о тебе хорошо говорит, чем о ней. А Аленка, – быстро добавила она, как только я снова открыл рот, – просто маленькая еще. Вырастет – тоже увидит, что ей с ней скучно.
До меня вдруг дошло, что в Дариных словах задело меня больше всего – она повторяла, буквально слово в слово, все те мысли, которые крутились у меня в голове в то первое время, когда меня только-только к Гале направили. Мне тоже понадобилось время – и приличная встряска в лице тогдашней ипостаси Макса – чтобы разглядеть в ней того замечательного человека, который до сих пор, как видно, прятался под внешне неброским образом. Ладно, подумал я, сделаем скидку на то, что Дара еще моложе, чем я тогда был. А встряску я ей сейчас обеспечу.
– А как насчет наших друзей? – решил я дать ей высказаться до конца, чтобы уж одним разом весь этот бред скосить, спалить и пепел по ветру…
– Ну да! – презрительно фыркнула она. – Пару раз в год что угодно можно вытерпеть. Только и они-то всякий раз ее с рук на руки передают, когда она очередному уже до смерти надоела, а сами куда-нибудь в сторону бросаются, чтобы о чем-то более интересном поболтать. Ты тоже, со всем своим терпением, по вечерам почему-то возле компьютера сидеть предпочитаешь, – победоносно глянула она на меня. – А вот ее собственный отец и тот… не знаю, первый муж, что ли, вообще на край света от нее сбежали.
– И ты, значит, решила пополнить этот список? – подхватил я. – Собой и в будущем, желательно, Аленкой?
– Я… – К моему удовлетворению, она впервые как будто растерялась – Анатолий, по-моему, мог бы в тот момент мной гордиться. – Да нет. – Она неловко дернула плечом и нахмурилась. – Просто ей один мой вид неприятен – теперь я понимаю, почему! – и она совсем не против, чтобы я ей глаза не мозолила. А я не хочу, – снова упрямо вскинула она голову, – чтобы ко мне эта… приземленность пристала, которая ей от ее матери досталась и даже с ней не сроднила. И к Аленке тоже, – сверкнула она глазами, – она и так больше в нее пошла…
– А теперь послушай меня, – резко хлопнул я ладонью по столу при повторном упоминании Аленки. – Я очень надеюсь, что ты от Гали хоть немного ее доброты и терпимости взяла – если да, то не один раз в жизни об этом вспомнишь. С благодарностью. Ты у нас, конечно, девица умная и образованная получилась, но только у тебя есть время интересоваться многими вещами. Поскольку перед тобой всегда на столе горячая еда стоит, все твои вещи в чистоте содержатся и домашними делами тебе заниматься не нужно.
– Я ее ни о чем не прошу, – натянуто произнесла Дара. – Я уже два месяца сама себе все делаю.
– Да неужели? – хмыкнул я. – Вот видишь, какой ты молодец! А мы вот с нашими друзьями уже сколько лет никак не можем без твоей матери обойтись. Потому что мы при встрече не только новостями и увлекательными рассказами обмениваемся, но и радостями делимся и в неприятностях друг друга подбадриваем. И в этом равных твоей матери я лично не знаю. Да, ты правильно заметила – мы стараемся не посвящать ее в особо сложные перипетии, но только потому, что она наши огорчения намного ближе к сердцу принимает, чем мы сами. И опять-таки ты права – неприятен ей сейчас твой вид, но не потому, что он твой, а потому, что она не может понять, отчего ты вдруг ее врагом считать начала.
– Я этого не говорила! – попыталась возмутиться Дара.
– Вот и хорошо, что не говорила, – не дал я ей такой возможности. – Потому что иначе это бы уже настоящим свинством было. Ты уже давно не младенец и прекрасно понимаешь, что твоя мать могла… отказаться от тебя, – еле выговорил я, похолодев при одной только мысли о такой возможности. – А ей даже в голову такое не пришло, и взялась она и растить тебя, и воспитывать, хоть и осталась одна. Она тогда в мою сторону и не смотрела – никого, кроме тебя, видеть не видела – и даже простую помощь от меня приняла только после того, как убедилась, что к тебе я ничуть не хуже, чем к ней самой, отношусь.
Дара заерзала на стуле, разглядывая сложенные у себя на коленях руки. Получилась, похоже, встряска – осталось последний слежавшийся комок ее умозаключений разбить.
– Что же до того, кто от кого на какой край света сбежал… – заговорил я медленнее, тщательно подбирая слова.
Дара вдруг подалась вперед, уставившись на меня напряженным взглядом исподлобья.
– Насчет Галиного отца я не знаю, – взял я разбег из менее опасной местности, – но твой ее не бросал. Это она его прогнала, когда узнала, что он… какими-то нехорошими делами занимается. Именно прогнала – несмотря на то, что уже тебя ждала.
– А ты его знал? – вдруг спросила она.
– Не могу сказать, что знал, – осторожно ответил я и поморщился, потому что тогдашнего Макса мне не то, что знать – вспоминать не хотелось, – но пару раз видел.
– А какой он был? – тут же последовал совершенно естественный, в целом, вопрос.
– Обаятельный и привлекательный, – неохотно признал я, впервые пожалев, что Дара не переняла от Макса умение маскировать свои мысли. – Что не имеет ничего общего с порядочностью. Судьбой твоей матери он с тех пор ни разу не поинтересовался, – с удовольствием добавил я, зная, что этот факт Максу просто нечем крыть.
– А что ты имел в виду, – продолжала допытываться Дара, напряженно хмурясь, – когда говорил, что он чем-то нехорошим занимался?
– Галя мне ничего об этом не говорила, – опять ответил я чистейшей правдой. – Мы тогда просто знакомыми были, а потом… сама понимаешь, что спрашивать ее об этом у меня язык не поворачивался.
Дара снова открыла было рот, но я предупреждающе поднял руку. Кто его знает, куда она меня своими вопросами загонит. В свете нашего с Максом противоестественного, но неизбежного сосуществования мне хотелось иметь полные основания – в случае чего – твердо и уверенно заявить ему, что к открытию Дариных глаз на гнусную сущность ее родителя я лично не имею никакого отношения.
– Дара, я не хочу о нем говорить, – решил потренироваться я в уверенности голоса. – С моей стороны это было бы просто некрасиво. Есть только один человек, который может ответить на твои вопросы. Но только имей в виду – ей об этом вспоминать тяжелее всех, так что не вздумай выдавливать из нее больше того, чем она сможет или захочет поделиться.
После этого нашего разговора Дара снова надолго замкнулась в себе. Но уже явно иначе. Она все также молча сидела с нами на кухне во время еды, сосредоточенно уставившись в свою тарелку, но впечатления ощетинившегося зверька уже не оставляла. Я даже заметил, что стоило Гале отвернуться к плите или холодильнику, она то и дело бросала на нее искоса короткие взгляды, то выпячивая, то поджимая губы. Похоже, ей уже действительно не терпелось поговорить с матерью, но пересилить свое подростковое самолюбие она никак не могла. Или просто не знала, как подступиться к ней с такими болезненными вопросами. По крайней мере, мне хотелось думать именно так.