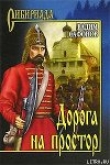Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 64 страниц)
В нем говорилось: «Всякий негодяй, который будет подговаривать к отступлению, дезертирству, невыполнению боевого приказа, будет РАССТРЕЛЯН. Всякий солдат Красной Армии, который самовольно покинет боевой пост, будет РАССТРЕЛЯН. Всякий солдат, который бросит винтовку или продаст часть обмундирования, будет РАССТРЕЛЯН. Во всякой прифронтовой полосе распределены заградительные отряды для ловли дезертиров. Всякий солдат, который попытается оказать этим отрядам сопротивление, должен быть РАССТРЕЛЯН на месте. Все местные советы и комитеты обязуются со своей стороны принимать все меры к ловле дезертиров, дважды в сутки устраивая облавы: в 8 часов утра и 8 часов вечера. Пойманных доставлять в штаб ближайшей части и в ближайший военный комиссариат.
За укрывательство дезертиров виновные подлежат РАССТРЕЛУ.
Дома, в которых будут скрыты дезертиры, будут подвергнуты сожжению.
Смерть шкурникам и предателям! Смерть дезертирам и красновским агентам!»
С величайшей жестокостью Троцкий подавил и восстание кронштадтских моряков в марте 1921 года, которые 28 февраля на собрании, проходившем на линкоре «Петропавловск» выступили с заявлением, что необходимо переизбрать Советы, поскольку «настоящие Советы не выражают волю рабочих и крестьян». Кроме того, они требовали свободы слова и печати, ликвидации продразверстки и продотрядов, свободы торговли, власти Советам, а не партиям. 5 марта Троцкий передал морякам ультиматум: «Только безусловно сдавшиеся могут рассчитывать на милость Советской республики». В противном случае «мятеж будет разгромлен вооруженной рукой». Кронштадт на ультиматум не ответил, и, как обещал Троцкий, началось подавление восстания «вооруженной рукой». 18 марта Кронштадт прекратил сопротивление. Около восьми тысяч матросов ушло в Финляндию, две с половиной тысячи – взяты в плен. Можно только догадываться, какие муки им пришлось испытать, и вряд ли кто выжил после того.
Впрочем, как иначе мог относиться к простому народу Лев Давыдович Троцкий (Лейба Бронштейн), выходец из богатой еврейской семьи на Херсонщине? Человек, который любил себя безмерно, считал себя самым лучшим оратором и занимался постоянным самолюбованием? Но судьбы Троцкого и других видных революционеров будут рассматриваться много позднее в ракурсе новых взглядов на революцию, советскую власть. Будут рушиться авторитеты, и выворачиваться на изнанку жизнь людей, кому хотелось подражать.
Как отнесся бы к тому Николай Константинович, дожив до кардинальных изменений в истории страны Советов, неизвестно. Но тогда, в 1928 году, Николай смотрел в будущее с надеждой, он хотел быть полезным Советской республике, и считал, что будущее будет светлым и прекрасным.
Глава III – Вятская сибирячка
«Боже, милостив буде мне,
грешнику…»
Молитва мытаря
*****
«Хорошо, светло
в мире божием,
хорошо, легко,
ясно на сердце»
Н. Некрасов
Летом 1586 года, спустя два лета после гибели Ермака, великого покорителя сибирских ханов, на берег реки Туры у слияния ее с рекой Тюменкой ступили московские стрельцы и казаки. На том месте стоял татарский город Чинги-Тур, Ермак город тот завоевал в 1581 году, и еще тогда обратил внимание, что это место – весьма подходящее для строительства русской военной крепости: просторный мыс, ограниченный с запада овражными берегами Тюменки, а с восточной стороны крутым берегом Туры. Мыс господствовал над окружающей местностью и легко мог быть укреплен.
За неделю служилые люди соорудили острог – вертикально вкопали в землю плотно пригнанные друг к другу заостренные бревна. Работали ратники споро: до начала суровой сибирской зимы, о которой некоторые казаки знали не понаслышке – бывали уже здесь с Ермаком – следовало построить крепкие теплые жилища. Потому до конца лета выкопали ров, с южной, полевой, стороны насыпали земляной вал, а внутри острога поставили съезжую избу, жилые дома, продовольственные амбары и церковь.
Так начинала расти Тюмень, и до сих пор неизвестно, почему она так называется, потому что схожие слова обнаружились позднее и в алтайском, и татарском языках.
Военно-административная функция наложила печать на ее население: на протяжении столетия большинство горожан были служилые люди.
Строилась Тюмень чрезвычайно быстро, культурные традиции принесли с собой стрельцы из Холмогор, ямщики тоже были выходцами из Руси, потому в строительстве угадывались явно российские мотивы. Стрельцы-ратники были свободными гражданами, а вот ямщики, как правило, крепостные крестьяне, потому их жизнь отличалась значительно от жизни стрельцов – ямщиков наказывали за все: за опоздания, даже если было ненастье, за падеж лошадей, которых ямщики должны были содержать сами, по навету седоков… Потому ямщики часто бежали из Тюмени на Русь, однако их возвращали обратно – путь туда, за Каменный пояс, лежал один: вверх по Туре к Верхотурью и Соликамску. Иной раз беглецов перехватывали на реке Чусовой.
Первые сто лет существования Тюмени главным направлением развития были ремесло и торговля. Мастера, прибывшие из-за Камня, так назывались тогда Уральские горы, занимались выделкой кож, шитьем обуви, кузнечным делом. Юфть, тюменская мягкая кожа, находила сбыт далеко за пределами города. В начале XIX века Тюмень по выделке кож вышла на одно из первых мест в России. Однако ткани – льняные и шелковые, сукна, слесарные изделия, украшения доставляли в город купцы.
Город расположен был на бойком месте – на берегу реки, по которой можно добраться и до севера, и до юга. От Тюмени также был налаженный путь на Русь. Потому и процветала торговля с Казахстаном, откуда поставлялись кожи, а сбывались кожи и обувь, как правило, на Ирбитской ярмарке.
Кожевенники снабжали сырьем сапожников и шорников, большинство которых занималось этими ремеслами зимой, летом же они кормились кирпичным или гончарным делом, потому что в окрестностях в изобилии была глина. Изделия тюменских гончаров славились прочностью и чистотой отделки – глазурь не трескалась от жары и дольше сохранялась.
Из Бухары, с которой наладились связи еще со времен Ермака, шли товары с Востока, а в Бухару – товары из Тюмени. Связи двух городов были столь прочными, что в Тюмени за рекой Турой даже слобода такая появилась – Бухарская.
В двадцатый век Тюмень вошла крупным промышленным и торговым центром Сибири. Перед Первой мировой войной Тюмень по численности была пятым городом в Сибири. Кроме многочисленных лесопилок в городе были уже судостроительный и чугунолитейный заводы, чугунолитейный, спичечная фабрика, своя типография, в которой выпускались «Тобольские губернские новости» и «Сибирский голос». По правому берегу Туры – пристани, кожевенные, мукомольные и лесопильные заводы. По левому – судостроительные, фанерная и спичечная фабрики. Рядом с ними быстро вырастали жилые районы – частные домишки, заводские казармы, где обретался рабочий люд.
А центральные улицы, Царская и Спасская, застроены добротными каменными особняками, где жили самые богатые люди города. На этих же улицах и самые большие магазины, банки, почта, телеграф. Был в Тюмени театр, построенный купцом Текутьевым, но купец – он всегда купец, потому театральное дело в Тюмени было поставлено на солидную коммерческую базу, и в городе частенько бывали гастроли других театров, что, впрочем, радовало интеллигенцию города.
В начале марта 1917 года на первой странице губернских газет появилось, подобно грому среди ясного неба, заявление о том, что 2 марта царь Николай II отрекся от престола в пользу брата Михаила Александровича, а также, что «тотчас по получению известия об отречении царя совет министров в полном составе поехал к Михаилу Александровичу просить его, чтобы он отрекся от престола сам, и тем дал возможность Учредительному собранию свободно вынести свое решение». И великий князь Михаил, поразмыслив, решил «дать возможность». В самом деле, стоило ли цепляться за престол страны, где все трещало по швам, рушилось, армия отказывалась воевать, дезертиры сотнями уходили с фронта, голод косил мирных россиян, а фабрики работали только те, где имелись военные заказы. А ошибки царя бывшего легли бы тяжким бременем на плечи царя будущего. Князь Михаил не захотел себя обременять, и его отказ от престола стал не только поворотной вехой дальнейшего пути России, но, вероятно, и одной из причин гибели рода Романовых.
Советская власть в Тюмени установилась совершенно мирно – в январе 1918 года. Но в июне к городу подступили белогвардейские части. Они старались взять Тюмень в клещи. Враг двигался с востока от Омска и с юга от Кургана. 8 июня в городе было введено военное положение, а в «Тюменских известиях» напечатано воззвание: «Ко всем, кому дороги завоевания Октябрьской революции, в ком кипит горячая кровь революционера, обращаемся мы с призывом и призываем всех вас, старых, испытанных бойцов, вступить в ряды вновь формируемой Вольной рабочей дружины».
Рабочие отряды сдерживали белогвардейцев на подступах к городу. Вместе с ними Тюмень защищала Иртышская речная флотилия, а также отряд уральцев, который возглавлял Павел Хохряков. Военно-революционным штабом Западной Сибири руководил Григорий Усиевич.
Понимая, что некуда отступать, бойцы сражались отчаянно. Экипаж броневика «Рабочий», расстреляв снаряды, окруженный со всех сторон колчаковцами, взорвал себя на станции Вагай. А на подступах к самой Тюмени у села Богандинки погиб весь отряд уральских рабочих и матросов-балтийцев. И все-таки, несмотря на самоотверженность и героизм защитников Тюмени, Красная армия вынуждена была в июле отступить, а город заняли белочехи. Бойцы покидали город с тяжелым сердцем и верой, что вернутся.
Прошли осень, зима, весна, наступил август. Дождливый и холодный. В городе было пусто, голодно, бессоло. И страшно, потому что белые, спешно покидая Тюмень под натиском красных, вывозили заводское оборудование, грабили жителей, а если кто из горожан сопротивлялся, того или убивали на месте, или отправляли на «баржи смерти» – плавучие казематы, которые покачивались у пристанских причалов. Темной ночью тюремный караван отплыл из Тюмени вниз по Туре и обнаружен потом в Томске, когда город освободили от колчаковцев. Из трех с половиной тысяч несчастных выжили только сто сорок человек, и то все они были покалечены, больны тифом.
Вместе с белыми ушли и десять тысяч тюменцев, напуганных пропагандой о зверствах красноармейцев, а кого-то увезли насильно. И когда части красных вступили в город, он выглядел нежилым – по улицам гулял свободно ветер, редкие прохожие при виде военных прятались. Дома с закрытыми наглухо ставнями казались убогими слепцами.
Освободив Тюмень от колчаковцев, Красная армия продолжала наступать, и в начале ноября освободила Голышманово, Ишим, Викулово – наиболее крупные населенные пункты на том направлении. А в Тюмени ревком сразу же взялся за восстановление города и налаживание нормальной жизни. Сразу же были изданы приказы о создании отдела народного образования, об обеспечении города продовольствием, о пуске разрушенных заводов и о создании в городе народной милиции, ибо мало было людей накормить, дать им работу, следовало еще защитить от многочисленных преступников, которые остались в городе или бродили по лесам вокруг Тюмени.
Бандитам было все равно, какая власть – белая или красная, в разрушенном городе им живется вольготнее: легче грабить до смерти перепуганных людей. Бандитского беспредела ревком допустить не мог, поэтому коммунистов-тюменцев отозвали из армии, и многих из них направили для работы в милицию. И это была нелегкая служба.
Егор Ермолаев, служивший в Зареченском отделении милиции, изредка, когда выдавалось свободное время, ходил мыться в Громовские бани, хоть и были они на другом конце города. Ходил скорее по привычке, чем по необходимости: он бывал в тех банях вместе с покойной женой.
Ермолаев вдовствовал уже несколько лет, вновь не женился, хотя женщины заглядывались на него. А Егор словно забыл о существовании прекрасного пола. Да и когда было время помнить, если всю гражданскую провоевал в отряде Вячеслава Злобина, а затем его направили, как коммуниста, на работу в милицию. А там и вовсе не до женщин – частые разъезды по деревням в погоне за бандитами, облавы в городе, который кишел человеческими отбросами. Случались всякие страшные происшествия: то голову человеческую найдут без тела и зубов, знать, были они у владельца золотые, то пронесется слух, что пропал мужик, приехавший в Тюмень торговать – видели его, как ехал к Угрюмовским либо Копыловским сараям, а потом – сгинул: ни пены, ни пузыря, пропал человек.
Сараи – огромная пустошь возле старых заброшенных зданий бывшего когда-то там кирпичного завода. Рабочие-кирпичники, не имея средств на постройку домов, рыли возле завода землянки, жили в сырых вонючих ямах подобно кротам. Постепенно встали в ряд у кирпичного завода справные дома, однако в землянках все равно жили какие-то подозрительные личности, день-деньской проводящие за картами в развалинах. Часто в таких компаниях вспыхивали драки, и нередко кто-нибудь из бродяг погибал от ножа своего же приятеля. Так что в Сараях и днем оказаться – мало хорошего, а ночью и подавно.
Сараи – самая большая забота тюменской милиции, чирей на мягком месте да и только: как ни усаживайся, а всё больно. Не хватало ни людей, ни времени, ни опыта, чтобы распутать клубки темных дел, что творились в Сараях: всякий раз попытки разузнать что-либо наталкивались на глухую стену молчания. Там сосед боялся соседа, и если кто-то видел нечто преступное, то сразу заставлял себя забыть об этом: попробуй сообщи в милицию – наутро пройдет по Тюмени слух, что в Сараях вырезали целую семью.
В такое суровое и беспокойное время не только холостые парни, а и женатые милиционеры забывали о женщинах, лишь бы добраться до постели, чтобы хоть часок-другой чутко вздремнуть, не выпуская из рук рукоятку пистолета, лежавшего под подушкой. А порой, едва уставшее тело коснется постели, как стучится уж нарочный: «Подъем! Вызывают!» – и опять милиционеры на ногах.
Служили милиционеры не за страх, а на совесть, искренне мечтали о светлом будущем России, где не будет ни воров, ни мошенников, а только честные и порядочные люди. Фантазеры они были, первые тюменские милиционеры, как их кумир – «кремлевский мечтатель» Владимир Ленин…
О том беспокойном времени много лет спустя первый начальник Тюменской губернской милиции Ксенофонт Георгиевич Желтовский скажет: «Служба в органах внутренних дел – это не только напряженный, порой круглосуточный труд, не только поединок с правонарушителями, это и вооруженные схватки, и боевые потери – во имя благополучия граждан, во имя их спокойного труда и отдыха».
Какие замечательные слова! Их бы наизусть выучить всем поколениям работников правоохранительных органов, особенно последние – «труд во имя благополучия граждан».
Егор Ермолаев как раз и был из таких, кто трудился во имя благополучия, спокойного труда и отдыха граждан. А когда наступало затишье, что случалось крайне редко, Егор в награду себе устраивал поход в баню. Он с наслаждением плескался в воде, смывая грязь и усталость. В одно из таких посещений заметил, что номера, где обычно мылся, обслуживаются новой банщицей. Женщина, вероятно, работала в бане недавно, иначе не залилось бы стыдливой краской ее лицо, когда Егор подал ей жетон: новые банщицы всегда смущались, если в обслуживаемые им номера приходили мужчины. Но потом они привыкали к своей работе, и уже ничто не могло их удивить.
Егор долго и восторженно, покряхтывая и охая, бултыхался в ванне, улыбаясь и похрюкивая от удовольствия, радуясь горячей воде и ощущению свежести, новизны, легкости в теле. Необычайно довольный вышел из номера и весело сказал банщице:
– Ну, молодушка, знатно же я помылся!
Женщина подняла на него серые глаза, отчего ее грустное лицо стало милым и помолодевшим. Егор прикинул, что женщине, наверное, и тридцати-то нет. Вновь покраснев, она произнесла чуть слышно:
– С легким паром, барин. На доброе здоровьиче.
– Это я-то барин? – расхохотался Ермолаев, окончательно смутив женщину. – Я человек простой, про-ле-та-рий… – по слогам произнес, чтобы женщине понятнее было слово.
– Одеты вы справно, – сказала она, не поднимая глаз, – и наган при вас. Ну, думатча, вы – важный человек, вроде – барин.
– Ну что с того, что справно? Я, молодушка, аккуратность люблю. А ты, однако, вятская?
– Вячкая, вячкая… – закивала женщина.
На том разговор и завершился.
Ермолаев шел к себе в Зареку в самом прекрасном расположении духа. И странное дело: впервые за много лет он вдруг задумался о своей судьбе. Вот ему за сорок уже перевалило, а семьи настоящей, чтоб жена, детушки – до сих пор нет.
…Первый раз Ермолаев женился по любви. Настенька, жена, была тихой и ласковой. Егор не мог на нее наглядеться, да и не могла успеть притушиться их любовь: грянула война с японцами. Ермолаев тогда работал на лесопильном заводе Кноха и был связан с рабочими-социалистами. Они-то и посоветовали скрываться от мобилизации. Егор так и сделал: уволился с завода, а кормился с поденщины на пристани – купцам все равно, кто работает в артели грузчиков, лишь бы товар был вовремя погружен-разгружен. Все так и шло бы своим чередом, да природная непоседливость подвела Егора. Трудно было ему высидеть в халупе долгий вечер в Угрюмовских сараях, где прятался, да и по жене молодой соскучился, вот и решил однажды наведаться к ней.
Пока шел к заводским казармам, где жил с женой в крохотной комнатенке, повстречался с компанией грузчиков возле трактира. Те позвали Ермолаева к себе. Слово за слово, стопка за стопкой – и поспорили, осилит ли он четверть водки, не свалится ли с ног. Егору – двадцать шесть, силушка гуляет по жилушкам, он ли не выспорит? Лишь одно условие поставил: к водке добавить еще хлеба да шмат сала. Ахали грузчики, глядя, как Егор выпивал стакан за стаканом, закусывая хлебом с салом. Но спор выиграл, правда, запошатывался, когда направлялся к выходу.
– Эй, Егорша, ты куда? – окликнули его приятели.
– А, – беспечно махнул парень рукой, – водка на волю просится.
Вышел Егор, пристроился к заборчику, а уж рядом – жандарм:
– Ты чего, пьяная харя, делаешь?
– А то сам не видишь? Отливаю! – ухмыльнулся Егор. – Хошь – вставай рядом!
– Ах, ты… – задохнулся от этакого нахальства жандарм, выматерился, но с места не сдернул, дал завершить начатое. А потом засвистел оглушительно, уцепился за рукав Егора и потащил за собой. Егор вмиг протрезвел, дернулся из рук жандарма, но поздно: налетели со всех сторон на свист «фараоны», скрутили, сволокли в околоток.
Утром в камеру заглянул старый седой жандармский офицер и сразу обратил внимание на молодого статного парня:
– Ты, почему, свинья, не мобилизован? Год твой давно уж воюет за царя-отца, а ты?
– Никак нет, вашбродь! – выпятил грудь колесом Егор. – Год мой еще не призывался! А то бы я со всей душой, как не повоевать за царя, нашего благодетеля и защитника! – и лукаво усмехнулся.
– Молчать! – взревел жандарм, уловив усмешку. И двинул Ермолаева кулаком в челюсть.
Карие глаза Егора бешено сверкнули, и он мгновенно припечатал свой кулак к скуле офицера. Тот, нелепо взмахнув кулаками, рухнул на пол, заюзил к стене, и остался лежать, вытянувшись во весь рост, с удивленной гримасой на чисто выбритом лице. Таким он и запомнился Егору на всю жизнь. Потом не раз жалел Егор о своей несдержанности, потому что без долгих проволочек в тот же вечер Ермолаев оказался в толпе новобранцев на вокзале: война – настоящая обжора, ей только подавай пушечное мясо, она его заглатывает с превеликим удовольствием. Егор стоял прямо и только морщился, когда кто-нибудь толкал его в исполосованную нагайкой спину.
Так бы и уехал Ермолаев, не сообщив семье о случившемся, да на его счастье проходил мимо знакомый железнодорожник. Егор окликнул его и попросил:
– Матвеич, скажи Настюше, что забрили меня – нечаянно, вишь, вышло. Пусть не печалится обо мне, – и сбивчиво, торопясь, рассказал, как оказался мобилизованным.
– Ай-яй-яй, – покачал головой Матвеич. – Все то вы, молодые, лезете поперёк батьки в пекло, молодо-зелено… Ну не тужи, все будет в полном ажуре. Приглядим за женой.
– Все б ничо, – смущенно потупился Егор, – да ведь на сносях моя Настенька. Родить скоро должна.
Матвеич при этом крякнул, однако ничего поделать не мог: Егор сам виноват, что попался жандармам. Хорошо, хоть в каталажку не засадили да на каторгу не спровадили, впрочем, в армии во время войны оказаться: хрен редьки – не слаще.
Вернулся Егор в Тюмень через несколько лет, испытав ужасы дикой войны, унижение плена. Вернулся полным Георгиевским кавалером – с тремя солдатскими медалями в чине фельдфебеля. Но в его казарменной комнатке жили чужие люди, и они не знали, где Настя с ребенком.
Пришибленный горем, Егор разыскал Матвеича. А более никого Егор не смог разыскать: кто в тюрьме умер, кто на войне сгинул – дорого девятьсот пятый год обошелся российскому пролетариату.
Январское «кровавое» воскресение в Петербурге, крестьянское выступление в Курской и Орловской губерниях в феврале. В июне восстали матросы-черноморцы на броненосце «Князь Потемкин Таврический». В октябре начались волнения солдат в Харькове, Киеве, Варшаве, вспыхнули восстания матросов в Кронштадте, Севастополе, Владивостоке. В Москве началась стачка рабочих промышленных предприятий, к ней присоединились московские железнодорожники, а затем стачечные волнения со скоростью курьерских поездов понеслись по железнодорожным дорогам страны. Рабочие бастовали в 120 городах, к ним примкнули и служащие. Не работали железные дороги, аптеки, почта, водопровод, освещение и даже Государственный банк – положение в стране стало столь критическим, что в некоторых городах и посёлках были созданы Советы рабочих депутатов, которые стали не только организаторами революционной борьбы, но и органами местной власти.
Революционная ситуация в стране заставила царя Николая II, хотя он и был склонен подавить восстания с помощью войск, 17 октября 1905 года всё же издал Манифест, в котором он «даровал» населению гражданские права и свободы и Государственную думу, наделённую законодательными полномочиями. Но выборы, согласно специальному указу, не были всеобщими и равными: в них не имели права участвовать женщины, военнослужащие и молодые люди до 25 лет, кроме того, один голос помещика приравнивался к трём голосам буржуазии, пятнадцати голосам крестьян и сорока пяти голосам рабочих. Выборы в думу также не были и прямыми. Конечно, политические уступки были значительным достижением осенней всероссийскоой стачки, но они не оправдали ожиданий забастовщиков, поэтому про Манифест тут же сочинили частушку: «Царь испугался, издал Манифест: мёртвым свободу, живых – под арест!» Революционные организации продолжали призывать к борьбе за расширение прав народа, за улучшение экономического положения, и в декабре началось вооруженное восстание в Москве, которое, как и хотел царь, было жестоко подавлено правительственными войсками, а баррикады на Пресне разбили только с помощью артиллерии…
Не отстала от других городов в том грозном девятьсот пятом и Тюмень, где не было крепкой объединенной организации, все агитаторы (в основном ссыльные студенты) работали разрозненно. И все-таки 28 мая началась первая в истории Тюмени забастовка.
Инициаторами забастовки стали всё те же буйные грузчики, которые немало доставляли хлопот жандармам и раньше. Грузчики, привыкшие работать артелями, оказались наиболее сплоченными и организованными, потому сразу три тысячи пристанских рабочих рано утром забастовали, выставив экономические требования, и как ни упрашивало их начальство начать работу – срывались выгодные военные транспортные подряды – грузчики стояли на своём. Более того – двинулись в город. На Царской улице их встретила полиция, однако, уездный полицейский исправник не решился применить силу: выглядели дюжие грузчики решительно и грозно. На свой страх и риск исправник ввязался с демонстрантами в переговоры, убедил их вернуться на пристань, дав слово, что пропустит к пароходству делегатов.
Но взбудораженные первой победой рабочие – «фараоны» уступили! – решили совершить рейд по берегу Туры от завода к заводу. Многочисленная толпа покатилась к лесопилкам Ромашева, Агафонцева, Кыркалова, обрастая по пути новыми демонстрантами. К колокольному заводу Гилева, мельнице Текутьева, чугунолитейному заводу Машарова подошла уже стройная организованная колонна. Рабочие всех заводов прекратили работу и тоже предъявили свои требования хозяевам.
Бездействие заводчиков окончательно раззадорило забастовщиков, и грозная колонна с песнями двинулась в город, закрывая самочинно кожевенные заводы и торговые конторы.
Три дня город жил непонятной, взбудораженной жизнью: выступили против заводчиков, против власти, а им – никакого отпора, жандармы никого не сажают в кутузку. А в это время заводчики лихорадочно соображали, что выгоднее в настоящий момент: вызвать войска, подавить жестоко и безжалостно забастовку, чтобы неповадно было «хвост подымать», или всё-таки уступить в малом – удовлетворить требования забастовщиков, зато выиграть в большом – в точном и своевременном выполнении военных заказов. Перевесила предстоящая прибыль от военных заказов, поэтому заводчики, кроме хозяев лесопилок, выполнили все требования рабочих. И теперь, хотя и остался двенадцатичасовой рабочий день, зато с трехчасовыми перерывами, приказчики не смели никого бить, выросла немного и зарплата. Рабочие были довольны и этими уступками, поэтому заводы заработали вновь.
Поведав о событиях в городе, Матвеич рассказал Егору, что Настасья умерла при родах.
– А ребенок? – заволновался Ермолаев. – Где ребенок, кто родился?
– Дитё? Дитё живо, девочка родилась… – что-то уж очень подозрительно мялся Матвеич, бросая жалобные взгляды на жену. А старуха омертвело, изменившись в лице, застыла у печи.
– Ну, Матвеич, не томи душу! – поторопил его Ермолаев. – Где ребёнок?
– Понимаешь, Егор Корнилыч, какое дело… – старик неожиданно завеличал Ермолаева по отчеству. – Девочку Варей звать…
– Да где же она? Матвеич, не тяни, говори! – взмолился Ермолаев.
– Понимаешь, у нас живет Варя-то…
И Егор сразу вспомнил, что видел во дворе девочку-малютку, поразившись, что лицо девочки показалось почему-то родным и знакомым, а теперь понял, почему так показалось: девочка похожа на мать, его жену Настеньку.
– Дак позови её! – вскричал Егор, вскочив с табурета.
– Сядь, Егор Корнилыч. Сядь. Тут, вишь, какое дело… – все не мог никак что-то выговорить старик, но жена его, Мироновна, неожиданно рухнула перед Ермолаевым на колени.
– Егорушка, милый, – по лицу Мироновны струились слезы. – Да ведь девочку мы на свою фамилью записали, по деду она сейчас Петровна. Она нас тятькой да мамкой зовет, я её вынянчила, выпестовала, Егорушка!
Ермолаев закаменел. Пусто и грустно стало на душе. Поднял старуху с колен, а перед глазами – туман, разум не воспринимал её причитания:
– Оставь ее нам, Егорушка, ты ведь молодой, родятся у тебя ишшо детки, а нам она на старость – радость. Будет кому глаза нам со стариком закрыть да на погост свезти, одни ведь мы на свете.
Егор молчал, а старуха все говорила и говорила, с надеждой заглядывая ему в глаза.
Распахнулась дверь, и вместе с клубами морозного пара в комнату вошла девочка в овчинной шубке, в новеньких валеночках-катанках. Она доверчиво смотрела на Егора его, ермолаевскими, карими глазами.
– Варенька, – сказал Матвеич, – гость у нас издалека. Он на войне был. И зовут его… – он помолчал, словно спрашивая у гостя, как его величать, не услышав ответа, произнес: – А зовут его дядя Гоша.
От слов Матвеича ударила кровь в голову Егора, но стиснул зубы, чтобы не произнести ругательство и сдержать стон, рвущийся из груди.
«Матвеич прав, – подумал Егор. – Я ей действительно только дядя. Куда я с ней сейчас пойду? Ни кола, ни двора, а она здесь живет в радости да любви». Егор ласково погладил девочку по голове, на глаза навернулись непрошенные слезы.
– Дядя Гоша! – звонкий голосок дочери заставил Егора вздрогнуть. – Почему ты плачешь?
– Соринка, видно, попала, – и он для правдоподобия потер глаза. – А я тебе, Варенька, подарок привез, – Ермолаев развязал свой дорожный мешок, торопливо вытащил цветастую шаль, которую берег для Настеньки-жены, и накинул на плечи дочке прямо поверх шубейки, укутал её с ног до головы. И не выдержал, обнял девочку, спрятав лицо в складках шали за её плечами.
Допоздна засиделись хозяева с гостем: Егор про жизнь в плену рассказывал. Уж и Варенька на коленях у «мамы» заснула, а они не прерывали разговар.
– Иди, мать, укладывай спать ребёнка, – распорядился Матвеич. – Да и сама ложись, а мы посидим ишшо маненько.
Мироновна ушла с девочкой в другую комнату, где спали старики, а Матвеич, закурив, спросил прямо у Егора:
– Ну что же ты решил, Корнилыч, с дочкой?
Егор долго молчал, думал, спросил, наконец, глухо:
– Про жену и дочку все узнал, а вот где мои тесть с тещей, почему девочка не у них? Не знаешь ли?
– Как не знать? – тяжело вздохнул старик. – Очень даже хорошо знаю. Вишь, милок, тебя как в солдаты взяли, Антипыч, тесть твой, Настю к себе забрал, а сам на пристань грузчиком пошел. Довелось ему какие-то чижолые ящики таскать. А вдвоем по сходням, сам поди-ка знаешь, несподручно бегать, да и силенок у старика уж маловато стало. Не донес Антипыч груз до места, упал, ящиком его придавило, и ахнуть не успел. Сразу отошел, земля ему пухом, сердешному. А Петровна, теща твоя, тоже недолго протянула, хворая была после смерти Настасьи, а тут еще и кормильца лишилась, да девчонка малая на руках. Ну, пришли мы как-то к ним с Мироновной, харчишек принесли, да поздно уж пришли: Петровна так на руках моей старухи и преставилась. Похоронили мы ее, Корнилыч, честь по чести, не сумлевайся в том. А Варю к себе взяли. Выходили мы её, подкормили, она – что твоя хворостиночка: тонкая да хрупкая росла. Лучший кусочек ей отдавали: я-то до днесь роблю, паровозы не вожу, стрелочником стою на станции, так что не особо бедствуем, кусок хлеба имеем, – он помолчал и вновь спросил. – Ну, как ты с девочкой поступить решил? – голос его дрогнул, и Матвеич, словно невзначай, мазнул по лицу ладонью, сгоняя слезу со щеки. – Мы ведь к ней сердцем приросли. Ты поживи у нас, покуда к месту не пристроишься, а девочку оставь, не тревожь её, она родителями считает нас, а у тебя свои еще дитёнки будут, молодой ты, Мироновна верно сказала.