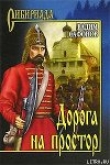Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 41 (всего у книги 64 страниц)
Последние слова как иглой ткнули Павлу Федоровну в самое сердце.
– Ты прости меня, Рая, это я, наверное, виновата, что у тебя так неладно жизнь сложилась.
– Нет-нет, Павла Федоровна, не казните себя. На вас я не обижаюсь. Все равно Максим Егорович не стал бы с Ефросиньей жить: она жадная. Сколько всего в сундуках набито было, а ей все мало. Максим Егорович простой был, мог все другим отдать. Ефросинью он не любил. А вас любил, я знаю. Он, когда уходил к вам, все мне объяснил, я хоть и маленькая была, а его поняла, потому что и сама не любила Ефросинью, хотя и должна была ее любить, все-таки она была жена папы Максима, – она рассмеялась тихонько. – Ох, как Ефросинья злилась на вас, проклинала, даже хотела к колдунье сходить да наговор на вас сделать. А дедушка Артемий вас очень уважал, и дедушка Егор тоже. И вообще вас все наши любили. Жаль только, что папа Максим не взял меня с собой…
– Рая, Рая! – слезы набежали на глаза Павлы Федоровны.
– Нет-нет! Я не обижаюсь на вас! – поспешила уверить ее Рая. – Я просто так сказала.
Но все равно нерадостно стало на душе у Павлы Федоровны от неожиданной встречи, ощущение вины перед своей бывшей ученицей, всегда такой ласковой и доверчивой девчушкой, не проходило. Ей вспомнилось, как Раечка всегда радостно бросалась навстречу Максиму, когда он приезжал, чтобы забрать детей из школы. Может, как раз она да Максим виноваты, что Раечка стала неприкаянной, никому ненужной горемыкой. Да всякий ли сможет пустить в сердце любовь к чужому ребенку, когда рядом растут дети свои, кровные? Павла не смогла…
– Ну, девочки, ну, голубушки, вы уж постарайтесь! – приговаривал Владимир Дмитриевич, в последний раз осматривая лыжи, крепления. Все было в порядке, все готово к старту. А бежать предстояло десять километров.
Одна за другой уходили на дистанцию подруги по команде, вот и Шура встала на старт, на ее плечо легла рука стартового судьи. Толчок в плечо, и она ринулась вперед.
Бежалось сначала легко: лыжи новые, легкие, Дмитрич точно подобрал мазь, хорошо растер. Но начался первый длинный и пологий подъем-тягун, и Шура, как предрекал тренер, стала задыхаться: не отрегулирована «дыхалка», прав Дмитрич, да еще, бестолочь этакая, сдуру накануне лузгала семечки с девчонками за компанию, а ведь знала – нельзя, семечки лыжнику вредны, они, как и певцу, дыхание сбивают. Однако Шура тягун преодолела благополучно, в хорошем темпе, и на спуске кто-то крикнул вслед: «Осторожно, впереди поворот!» А это значит, что трасса разбита до безобразия, потому что каждый старается вписаться в поворот, коротко переступает лыжами, чтобы не съехать с лыжни на целину.
На второй тягун Шура шла с трудом. Будь проклят этот лыжный спорт! Бежишь по трассе, как загнанная лошадь! Нет, чтобы заняться, как в школе, спортивными играми, да захотелось испытать себя на лыжах. Как же – с Урала, самая стать лыжами заниматься. «Дурында», – выругала опять себя Шура.
Небольшой спуск… Только бы не упасть… Опять тягун… И сколько их на трассе?! Дмитрич говорил – пять! А-а! Мешать мне на лыжне? Брысь! На пятки наступлю! Что?! Не хочешь уступать?
– Лыжню! Кому говорю! – рявкнула изо всех сил Шура, но голос-то, мамочка моя, хриплый, словно у пропойцы, однако до предела злобный. – Лыжню-ю!!!
Ага-а, уступила! Так мы вас…
Дмитрич говорил, что лучше всего на обгон идти на подъеме. Пока соперница переживает, ты уже на спуске отдыхаешь, спохватится она – ты уже далеко. Господи!.. Опять тягун!! Самый длинный и тяжелый… Ох уж эта «десятка», судьи, наверное, специально так дистанцию проложили, ничуть им нас не жаль. А кто сзади напирает?! Не уступлю лыжню, из последних сил побегу, но не уступлю! А, это ты, Дмитрич… Миленький, отстань, не могу я быстрее… Да не наступай ты на лыжи, упаду ведь, чурбан бесчувственный, упаду!!! И не встану. Будешь знать. Фу-у, отстал. А вот это ты, Дмитрич, молодец, дал на ходу глоток чая. Здорово! И сил стало больше! Хорошо! И спуск – совсем отлично! Еще пара километров осталась? Я не ослышалась, Дмитрич, точно – пара километров? Да это ж пара пустяков. Нам эти два километра, что пара метров, и тягун нипочем, за ним – финиш, конец мучениям…
– А ну-у! Лыжню-у-у!!!
Финиш!!!
– Милые вы мои, выступили хорошо, – Владимир Дмитриевич доволен. – Ты, Шурка, больше всех молодец. На профсоюзном первенстве в первую десятку попасть, это ж – класс! Да я тебя скоро в мастера выведу. Техники у тебя, конечно, никакой, но как замашешь своими длинными ходулями – и пошла, и пошла! Вот если Ленку через две недели обштопаешь, то тебе и зональные гонки не страшны.
Девчонки валялись на лавках в раздевалке, а Дмитрич поил их чаем из своего заслуженного трехлитрового термоса, приговаривал: «Лежите, отдыхайте, девчоночки мои золотые…» Чай у него особенный: с вареньем, с травами. Чаек тот волшебный им сил прибавлял.
Как-то пришли девчонки навестить заболевшего Дмитрича, а жена его, смеясь, сказала:
– Вот попробуйте только гонки проиграть – он все варенье вам перетаскал, я его за это загрызу, житья не дам. Не подведите!
В раздевалку, гремя лыжами, вломилась Лена Разухина – она уходила на трассу последней в команде, тоже упала на свободное местечко: девчонки отрабатывали заботу тренера о себе добросовестно.
– Ага, вот и Ленка пришла! – заворковал Дмитрич. – Ну, Ленка, ну молодец! Время у тебя будет лучше Шуркиного, но финиш так сделать, как она, ни в жисть не сможешь! Шурка у нас на финиш идет, как из катапульты выстреленная. Так рванет, что чуть из креплений не выскакивает. Обойдет она тебя, Ленка, на зональных, ох, обойдет…
Владимир Дмитриевич беззлобно подзуживал, задевал самолюбие, но девчата не обижались, потому что тренер нянчился с ними, как с маленькими. Команда их всегда прекрасно экипирована, потому что иногда выступает на соревнованиях за честь одного из куйбышевских заводов. Дмитричу и талоны на дополнительное питание удается выбить, и путевки на турбазу добыть. Вот и сейчас они отдыхают на турбазе, там и тренируются, а не будь этого, может быть, так успешно и не выступили бы на соревнованиях. И зональные гонки тоже одолеют.
Когда все собрались, прибежал Рудольф Давыдович, второй тренер, и весело объявил, что команда заняла на соревнованиях второе место. Владимир Дмитриевич радостно хлопнул в ладоши и полез в свой необъятный рюкзак, достал оттуда пластиковый пакет и всем девчонкам торжественно вручил по коробке шоколадных конфет – приближался новый год.
– Владимир Дмитриевич, я, наверное, не смогу на зональных выступать, – отдышавшись, сказала Шура.
– Это почему же? – нахмурился тренер.
– Да у меня зимняя практика.
– Ну и что? Практикуйся, сколько хочешь, в наших мастерских. Или в областном полиграфкомбинате. Вот и Лена там же работать будет. А жить будем опять на турбазе, я вам сборы перед зональными соревнованиями пробил.
– Я, Владимир Дмитриевич, домой еду, заявку на меня прислали, – сообщила Шура, не глядя ему в глаза.
Тренер онемел. Обретя дар речи, заявил:
– Никакого – «домой». Здесь будешь! Ты соображаешь, что говоришь? Не выступать на зональных соревнованиях! Вот еще новое дело! Да если вы там хорошо выступите, то, может, и на республиканское первенство поедем, а ты – «не буду», – передразнил девушку тренер, все еще не веря, что та говорит серьезно.
– Да не могу я не ехать! – воскликнула Шура. – Родители у меня болеют!
– Родители, родители… А кто «десятку» бежать будет? Одна Лена? Ведь остальных я только на пятикилометровку могу поставить, сама же знаешь. А эстафета «три по пять» как же? Ты, Лена да Катя… Шурка, да ты что? – неожиданно понял тренер, что Дружникова не шутит.
– Я лыжи с собой возьму, дома буду тренироваться. Вернусь как раз к соревнованиям, – пообещала Шура, сама не веря своим словам.
– Тренироваться дома? – Дмитрич опять онемел на несколько секунд, затем возмутился – Дома? Там танцы-шманцы будут, а не тренировки, а на турбазе питание хорошее и отдых по режиму, тренировки полноценные.
– И все-таки уеду, – Шура смотрела упрямо.
Не скажешь же Дмитричу, что болезнь – это одно, а вот, что отец опять начал пить – другое дело, причем стал пить не запоями, а постоянно. И буянить стал не просто для шума. Напившись, выгонял мать на улицу. И той приходилось идти на поклон к старой знакомой Нинке-Бродне, потому что на своей улице она ни к кому за помощью обратиться не могла – стыдно, хоть и знали все про смирновские запои; родни же в Тавде не было. Изгомова, которая давно уже вдовствовала – свела все же Антона в могилу – помогала Павле Федоровне не без корысти: по рублику вытягивала у нее всю пенсию, потому что по-прежнему, как и в молодые годы, любила выпить. Шура, пользуясь студенческой льготой на билеты, ездила в Тавду чуть не каждый месяц, приводила мать домой, восстанавливала мир между родителями. Отец каждый раз клялся Шуре, что больше так делать не будет, однако история повторялась после каждой получки.
Последний раз Шура заявила отцу:
– Смотри, – глаза девушки сверкнули угрожающе, – если с мамой что-нибудь случится… Или кончай дурить, или… – что «или» Шура не знала, но как ни странно, ее слова отрезвили отца. Он плакал и каялся в содеянном, обещал не «дурить». После отъезда Шуры признался Павле Федоровне:
– Боюсь я ее, взгляд у нее бандитский.
Все у Шуры с отцом выходило по пословице: вместе тесно, а врозь – хоть брось. Утешало лишь одно: неожиданно отец и впрямь бросил пить – у него стали белеть и неметь фаланги пальцев на руках, и юморист-невропатолог напугал, что ежели он и дальше будет злоупотреблять спиртным, то руки побелеют до локтей, и тогда их оттяпают по самые плечи, поскольку только так можно остановить онемение. И все-таки Шура, несмотря на временное затишье, решила зимнюю практику отработать дома, и, как потом оказалось, не зря.
И еще один камешек лежал на душе у Шуры: она рассорилась с Лидой. Мать написала, что Лида приезжала повидаться и попала как раз в очередной запой Смирнова. Рассерженная сестра заявила матери, что та, мол, бесхарактерная, живет-мается с пьяницей, потому больше никогда не приедет к ней, и, завернувшись от порога, в тот же день уехала обратно.
Шура обозлилась: какое право сестра имеет так разговаривать с матерью? И со свойственной ей прямотой написала сестре гневное письмо с требованием оставить, наконец, мать в покое и не лезть к ней с поучениями, и жестко заключила: «Вы что ли помогаете мне учиться? Отец пьяница, да каждый месяц мне деньги высылает, а от вас я еще и ни рубля не получила». Пожалела потом Шура об этом письме, да слово – не воробей, а написанное пером…
Поезд из Симферополя, на котором ехала Шура, прибыл в Свердловск с большим опозданием, и потому она сумела купить билет до Тавды только в общий вагон. А что такое общий вагон, известно всем. Это духота, столпотворение, сидение впритирку на нижних полках, если повезет, а нет – стойте в проходе несколько часов, пока не освободится местечко на середине пути в Ирбите либо в Туринске. А поспать можно только в том случае, если вы сильны, как тяжеловес Жаботинский, потому что сумеете тогда отвоевать вторую полку, но зато и спуститься с нее сможете тоже лишь в середине пути. Но это все потом, сперва надо прорваться в вагон сквозь орущую, прущую напролом толпу.
Короче говоря, когда Шура, обремененная чемоданом и лыжами, вошла в вагон, то свободного места уже не нашлось. Девушка забросила вещи на третью полку и сумела умоститься на краешке нижней полки. Поезд вздрогнул раз, другой и медленно пополз от вокзала в темноту ночи, раскачиваясь, как большая лодка. Это мерное покачивание, перестук колес на стыках вскоре убаюкали девушку, и она «заклевала» носом, всякий раз вскидываясь испуганно при каждом толчке. Но прошел час, другой, Шуре это надоело, и она полезла на верхнюю багажную полку, где лежали вещи. Чемодан и пальто уложила в голове, а лыжи обняла и тут же заснула крепким сном.
Родной город встретил Шуру легким морозцем. «Эх, отличная погодка для тренировок!» – подумалось, но благие намерения, конечно, не воплотились в дело: лыжи так и простояли все три месяца зимней практики в углу. Зато…
Об этом «зато» Шура с родителями мечтала более десяти лет: им, наконец, дали квартиру.
– Как переезжать будем? – заохали старики. – Откажемся от ордера.
– Вы что? – изумилась Шура. – К вам аж домой пришли, пригласили ордер получить, а вы – откажемся!
– Да как переезжать будем, на чем? – продолжались дружные стенания. – Привыкли мы к этой улице, магазин здесь есть, что нам еще надо? Огород у нас здесь. Баня под боком…
Отец добавил:
– Речка рядом, летом на рыбалку ходить близко.
– Получите ордер, а переезд – мое дело.
Весь вечер Шура уговаривала родителей не глупить, и согласились они на переезд лишь тогда, когда дочь рассерженно закричала:
– А до меня вам дело есть? Вы о моем будущем думаете? Что, мне всю жить в коммуналке, бревна с реки на дрова таскать на своих плечах, под коромыслом горбатиться, да? Если так, то распределюсь куда-нибудь подальше, сама себе квартиру заработаю, а вы живите в этой дыре! – хлопнув с треском дверь, Шура вылетела на улицу. Такая привычка отходить от ссор на улице возникла у нее давно, с самых первых драк с отцом. Она уходила из дома и подолгу бездумно бродила по городу, и тогда казалось, что раздражение словно уходит в землю с каждым ее шагом.
Родители вняли разуму, отец получил ордер на новую двухкомнатную квартиру, лишь в одном не удалось Шуре уговорить стариков: из двух квартир – на первом и на третьем этаже – они выбрали первый этаж. Переезд был совершен стремительно и без участия в нем стариков. Шура договорилась со знакомым парнем насчет машины, тот согласился помочь, и привел двоих приятелей, чтобы вещи грузить-разгружать. Пожитки у Дружниковых были скромные, к тому же Шура накануне все упаковала в мешки, ящики, чемоданы, потому вещи сметали в машину за полчаса, и пока старики потихоньку шли к своему новому жилищу, Шура с ребятами мебель расставила по местам, осталось только распаковать чемоданы да развязать узлы.
Дом стоял на улице Ленина в удобном месте. Перед ним пока еще много строительного мусора, не росли деревья, но подъездная дорога уже заасфальтирована. По ней лихо подкатывали к дому один за другим грузовики, забитые до упора модной мебелью, ведь ордера в новый дом получили горкомовские да исполкомовские работники, не зря его окрестили Белым не столь за белые кирпичные стены, сколько из-за тех, кому там предстояло жить. Впрочем, переселялись туда учителя, врачи, пенсионеры, как Павла Федоровна и Николай Константинович, у этих мебель была поскромнее, но все же лучше, чем у Дружниковых. На душе стало нехорошо: в ее семье с первого взгляда ощущалась нищета – мать едва сводила концы с концами, потому что отец пил. И тогда Шура сказала себе: «Нет, я так жить не буду. В доме должен быть достаток, тогда в нем хорошо будет взрослым, а детям не стыдно за родителей. В доме должен быть мир и согласие, в доме должно быть понимание и счастье. Это – мой дом, а дом родителей на Лесопильщиков канул в бездну, и я все сделаю для того, чтобы жить мы стали лучше».
– Ну, парни, давайте по рюмочке, – предложил Смирнов, едва переступил порог новой квартиры, – за новоселье выпьем, да и вы заслужили.
– Коль, может, не надо? – робко возразила Павла Федоровна.
Но Смирнов расхрабрился: он почувствовал себя хозяином квартиры, ведь ордер выписан на его имя, а то, что туда вписаны жена и дочь – мелочь, он – главный квартиросъемщик, значит, и хозяин в доме.
Шурины помощники пить в доме не стали, однако бутылку приянть согласились, потому отец тут же отправился в магазин. Он шел по улице с гордо поднятой головой, даже палочку оставил дома. Ему на миг вдруг показалось, что молод и красив, а карманы набиты деньгами – и в самом деле накануне получили пенсию, что дом его – полная чаша, как, например, в Хабаровске.
Отец вернулся с полной сумкой и, окинув орлиным взглядом жену и дочь, стал выкладывать на стол покупки. Шура поморщилась, глядя, как он выставляет бутылки на стол, но промолчала, надеясь, что эти бутылки – последние в их новом доме. Она принялась готовить ужин, а старики ходили по комнатам, прикладывали ладони к теплым батареям отопления, открывали краны на кухне и в ванной, любовно оглаживали гладкие прохладные стены, обсуждали колер покраски панелей и стен. Павла Федоровна даже всплакнула: умерла Ефимовна, не дождалась их новой квартиры, а то взяли бы ее к себе – уж очень она жаловалась в письмах на сестер, все им, дескать, не так – не там села, не так встала, не то сделала, и таблеток-то много пьет…
Старики радовались, как дети, но больше их, пожалуй, радовалась Шура: у нее теперь отдельная комната, где можно помечтать, послушать музыку, куда можно пригласить гостей или просто посидеть у окна. И девушка мысленно видела свою комнату красивой, обставленной удобной мебелью. Но это было в будущем, а пока требовалось устранить мелкие недоделки после строителей, и Шура принялась за дело: достала ящик с инструментами, которые оставил ей Геннадий, уезжая из Тавды, начала отчищать окна, мастерить книжные полки, перекрашивать стены на кухне и в коридоре в светлые тона. Все получалось ладно, и душа Шуры оттого звенела и пела.
Павла Федоровна, глядя на дочь, не переставала удивляться ее расторопности, хвалила себя, что согласилась на переезд: и впрямь – не жить же Шурочке всю жизнь на улице Лесопильщиков. Рабочая окраина – она и есть окраина, неуютная, заброшенная.
Лишь одно омрачало их радость: на отца вдруг напала мания главного квартиросъемщика. Все ходил-пыжился: он главный здесь, бурчал на Шуру, что «развела грязь» в доме своими переделками. Но это можно было бы и стерпеть: отец всегда злился, когда Шура ремонтировала прежнюю квартиру. Беда была в том, что Николай Константинович опять начал выпивать. Выпьет рюмку и сидит, руки разглядывает, вертит перед глазами – не белеют ли, видимо, здорово его напугал невропатолог своей шуткой насчет ампутации рук до плеч. Пальцы не белели.
Получив очередную пенсию, отец не отдал ее Павле Федоровне, пропил за неделю, и если бы не деньги, заработанные Шурой на практике в типографии, впору было голодать. Опьянев, отец вел себя смирно, не буянил. Но по-прежнему ночами не спал, сидел на кухне в полудреме, свесив голову на грудь, и беспрестанно курил. У Шуры сердце разрывалось, так ей было жалко белоснежных стен и потолка – закоптятся, попробуй забели их потом: сколько раз белила потолки в прежнем их жилище, а все равно многолетняя дымная копоть проглядывала. Однако Шура молчала, но в отместку за пьянку жалобно, с надрывом, пела любимую отцом «Землянку», доводя его до рыданий. Отец плакал настоящими крупными слезами, размазывал их по щекам, умоляя дочь прекратить пение, но Шура в ответ на это голосила еще громче. А в сердце заползала холодной гадюкой тревога: за время ее учебы и мать тоже стала прикладываться к рюмочке, и все чаще усаживалась за стол вместе с отцом, наливая вина в стакан столько же, сколько наливал себе и отец.
– Мама, ты что? Зачем пьешь? – спросила ее однажды Шура.
– А чтобы ему досталось меньше, – кивнула мать на отца и усмехнулась. – А еще, когда выпью, смелее становлюсь, уж тут он меня не смеет ударить: сама, что под руку попадет, тем и шандарахну по башке. Как-то раз сковородкой голову ему расшибла, так что он теперь не трогает меня. Да и вообще, за всю жизнь достаточно меня клевали всякие вороны, пора и сдачи дать.
И это было правдой: жизнь так согнула Павлу Федоровну, что трудно было найти женщину тише и покладистей. Но что-то случилось, какой-то перелом произошел в ее душе, и теперь уж никто не мог впереди нее нахально втиснуться в очередь в магазине, никто не мог толкнуть в автобусе – для всякого обидчика находила она хлесткое насмешливое слово. И как ни странно, «сталинские» Павлу Федоровну зауважали еще больше, выбрали в уличный комитет самоуправления, а соседи по дому свергли с поста самозванного домоуправа Лильку Забелову, забубенную хамоватую бабенку, и вручили бразды правления Павле Федоровне. Где бы ни случался скандал, бежали к ней за помощью, и она, маленькая, худенькая, со спины до сих пор похожая на девчонку, бесстрашно усмиряла буянов. И ее слушались, называли народным судом. Да и отец стал меньше махать кулаками, видимо возымели действие слова одного из собутыльников в пивнушке:
– Ты, Инженер, не очень-то забижай Павлу Федоровну, она у нас тут на улице – главная справедливая женщина, народный судья, одним словом. Если б не она, меня бы с завода вытурили, а она вступилась. Зато на уличном товарищеском суде так чехвостила, что я, брат, взопрел с ног до головы.
– Взопрел, а в пивнушке все равно околачиваешься, – съехидничал Смирнов.
– Не каждый же день, а только в выходные, – хитро подмигнул приятель Смирнову. – Мне Павла Федоровна разрешила, потому что я, дескать, могу и в ящик сыграть, если резко брошу пить. Так что я ее очень уважаю, и если обидишь – получишь по кумполу.
Шура посмеивалась над неожиданной лихостью матери, и все-таки ей стало страшно: борьба матери с пьянством отца обернулась для нее худом, видимо, не видела уже мать иного способа борьбы, как напиться и дать отпор отцу, когда тот начинал хулиганить. Горькое недоумение наполнило сердце Шуры: почему мать до сих пор живет с отцом, за что так любит его, что готова и сама упасть на дно? И много-много лет спустя поняла – извечная бабья жалость и самоуверенность, что именно ей удастся побороть отцовский порок, держали ее рядом со Смирновым, а потом, наверное, появилась привычка и сознание того, что в своей семье даже рядом с пьющим мужем она – хозяйка, а в других, у детей – только гостья. Поняла, что женщине иной раз просто необходимо хотя бы голову склонить на мужское плечо, ощутить, что рядом защитник, не зря мать любила повторять: «Худой забор, да свой». Да и любила, наверное, мать отца, который в трезвом состоянии понимал ее с полуслова, и был на голову выше интеллектом, и тогда мать отдыхала душой, разговаривая с ним.
Практика в типографии завершалась в марте. Все шло хорошо. Мастер Алина Степановна, убедившись, что практикантка понимает в наборе не меньше опытных рабочих, уступая им лишь в скорости, вскоре начала поручать ей и сложную акцидентную работу. И Шура стояла за своим реалом – рабочим местом наборщика – мурлыкая какую-нибудь песенку, выполняла порученное задание весело и споро, тем более что за работу ей платили.
Рабочие тоже нравились Шуре, а больше всех – ее сверстник наладчик Стас Нетин, тихий, спокойный, молчаливый парень. В разговоры Стас не вступал, над шутками улыбался стеснительно уголками губ. Девчонки по нему сохли – парень видный, высокий, светловолосый и голубоглазый, как скандинав, причем глаза обрамлены пушистыми длинными ресницами.
Шура несколько дней наблюдала за Стасом, и вдруг ей в голову пришла шальная мысль расшевелить парня, может, даже и влюбить в себя. В сердце девушки еще не померк образ Антона Букарова, но Антон далеко, скорее всего, никогда они не встретятся, ведь даже не переписываются. Антон учился в военном училище, наверняка будет служить далеко от Тавды, о том, что Шура любит его, знал – школьные подружки проболтались, знал и ее адрес, но не пытался наладить связь, выходит, равнодушен к Шуре, а раз так, то, наверное, надо постараться забыть его. Вот и решила Шура забыть Антона с помощью Нетина, потому и стала оказывать ему знаки внимания: то заговаривала с ним, то обращалась с пустяшной просьбой, а тот пыхтел, супил брови и молчал. Шура даже рассердилась: ну и пень! И в последний день практики, обходя все цеха, даже не заглянула в механическую мастерскую, чтобы с ним попрощаться.
Вторая Шурина весна в Куйбышеве началась с отвратительной погоды. Дул резкий пронизывающий ветер, бесновался и скакал так, что невозможно было определить его направление. Однако в конце апреля Волга и Самарка окончательно освободились ото льда.
Волга была обычная, величавая, отсвечивала свинцовым блеском, а Самарка искрилась и переливалась. На ее середине, словно стайки серебряных рыбок резвились, плясали солнечные искорки. Небо очистилось от туч, и солнце стало его полновластным хозяином. Правда, случилось это после изуверского – иначе и не назовешь – дождя. Он низвергался с небес как водопад, струи были столь тяжелы, что обламывали мелкие веточки деревьев. Вода не успевала стекать по водостокам и переливалась через оградительные желобки сплошным потоком. Сильнейший ветер ломал сучья деревьев, распахивал самовольно двери и окна, метался угорело по коридорам техникума. К таким «вывертам» природы Шура была привычна: они в Тавде – не редкость. Однажды на Первомай наступила удивительно теплая погода, люди переоделись в модные плащи из болоньи, зимнюю обувь заменили легкими туфлями. Вдруг пошел снег, деревья запорошило, а потом снег начал таять, побежала с веток капель, но неожиданно ударил мороз, и капельки замерзли, стали сосульками. Солнышко выглянуло из-за туч, и все ледяные «сережки» брызнули во все стороны яркими искрами. В Куйбышеве в мае снег не выпадал, но дождь – не диковина.
Дождь прекратился столь же внезапно, как и начался. Стих ветер. Небо очистилось от туч, и если бы не гигантские лужи на мостовых, никто бы и не заподозрил, что лишь час назад природа бесновалась.
Куйбышев сразу похорошел, зелень засияла ярким цветом первых весенних листочков. Стало тепло, как летом, и город разукрасился девичьими летними нарядами.
Шура и вся группа с нетерпением ожидали майских праздников: они наметили в эти дни побывать в Ленинграде и Москве. Как-то завидно стало девушкам, что весь техникум побывал во всех знаменитых Ленинских местах, а их группа – только в Польше да в музее Ленина в Куйбышеве. Вот и решили заполнить «пробел» в патриотическо-воспитательной работе самостоятельно.
О том, что «тридцатьчетверки» (перед номером группы каждый год ставился курс учебы – 24, 34…) собираются съездить всем гамузом в Ленинград, прослышала еще до практики параллельная пятая группа, вечная их соперница. Руководила той группой недавно выпорхнувшая из полиграфического института преподавательница. Полная сил и энергии, она была подобна молодой кобылке, которой нравилось первой приходить на финиш. Но техникум – не ипподром, а у куратора четвертой группы уже давно пропало желание первой рвать ленточку, поэтому во всех делах она положилась на комсорга Шуру Дружникову и старосту Ольгу Кумаеву. Обе – серьезные и ответственные девицы. Вот Дружникова и взялась со всей ответственностью готовить поездку в город на Неве.
С четвертой группой соперничала не столько пятая группа, сколько Колесникова, их куратор, страстно желавшая вывести свою группу на первое место в техникуме. Но как-то повелось с самого начала работы техникума, что лучшей всегда оказывалась именно четвертая группа. И когда предыдущая «четверка» передавала эстафету первенства своим последователям, то ее комсорг Валя Гармаш сказала Шуре: «Не посрами репутацию нашей цифры!» А в Шуре и во всех девчонках четвертой группы и так возник азарт не уступить первенство, потому на всех конкурсах они, хоть на одно очко да опережали пятую группу. И вот Колесникова решила взять «реванш», то есть побывать в Ленинграде раньше группы-соперницы, потому со своими подопечными укатила туда в зимние каникулы. Вернувшись, девчата из пятой группы с восторгом рассказывали, какой великолепной была поездка, что жили они в гостинице на Невском, питались в ресторане, и новый семьдесят первый год встречали под звон бокалов не где-нибудь, а в Ленинграде. Правда, был один минус: группа вернулась без «копья» в кармане и без покупок, так как проживание в гостинице и роскошь в ресторане «съели» все деньги.
Шура слушала разглагольствования своей приятельницы Линки и сдержанно улыбалась: она не знала, насколько будет успешной поездка в Ленинград их группы, но Шура со свойственной ей практичностью наметила поездку на начало мая – и праздники там встретят, и за билеты заплатят полцены, да и тепло уже будет. Одним словом, к экзаменам они подойдут вполне отдохнувшими. Она попросила Кузьмина, директора техникума, так составить расписание, чтобы можно было выкроить десять дней на поездку. Кузьмин всегда с усмешкой наблюдал за соперничеством двух групп, но симпатизировал долговязой Дружниковой, которая и в самом деле, как танк-тридцатьчетверка, всегда перла к своей цели, пока не добивалась ее. Да и что с нее взять? Уралка! И этим все сказано, а тут еще и забота на ее плечи свалилась – полгода «тридцатьчетверки» были без куратора: никто не желал связываться с этой излишне болтливой и взрывной группой, так что вся ответственность за группу лежала на комсорге. Дружникова, конечно, управляется с ними неплохо, но ведь – девчонка, сама не прочь с занятий сбежать, позубоскалить, глазки построить холостым преподавателям.
И тогда судьба за неделю до конца учебного семестра преподнесла преподавателю нормирования Валерию Сергеевичу Дмитриеву неприятный подарок: его назначили куратором взбалмошной, болтливой и, пожалуй, разболтанной, однако и талантливой четвертой группы. Ох, и намаялся же бедняга со своенравными девицами, избалованных свободой, потому что они полгода были предоставлены сами себе! Одна Тина Власьева чего стоила! В ней, видимо, был немалый процент узбекской крови, получилось нечто гремучей смеси. Власьева то ехидничала, не считаясь с авторитетами, то закатывала истерику, если девчата отпускали в ее адрес шутки. Она так эффектно «подала» себя в первые дни учебы, что Эмилия Константиновна предложила избрать ее старостой группы. Но девчонки в группе быстро разобрались в ней: Власьева полностью соответствовала своей фамилии – желала только произвести эффект, быть на вершине славы, не прилагая при том никаких усилий, и ее быстренько переизбрали вопреки мнению куратора группы. Дмитриев страшно боялся своих «тридцатьчетверок»: хорошая, конечно, группа – удалая, талантливая, отстающих в учебе нет, но самостийная очень стала в период безвластия. Он почти все дела переложил на плечи Дружниковой: доверял ей и групповые собрания вести, и за дисциплиной следить, и различные мероприятия организовывать, и стипендию распределять. И Кузьмин не удивился, когда Шура, а не Дмитриев, обратилась за помощью, потому директор сам договорился обо всем с руководством ленинградского полиграфтехникума и речного училища, чтобы «тридцатьчетверки» без внимания в чужом городе не остались.
«Десант тридцатьчетверок» высадился в Ленинграде 30 апреля через пять часов лета на АН-24. Но когда самолет приземлился в Пулково, им показалось, что они с экватора попали на северный полюс: в Куйбышеве температура доходила до плюс двадцати, а тут сыпал снег и дул пронизывающий ветер, и всем сразу захотелось тем же рейсом, не покидая борт самолета, улететь обратно.