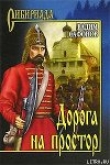Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 40 (всего у книги 64 страниц)
Шура, как и в школе, в техникуме оказалась в центре общественной работы. Как на первом курсе выбрали ее комсоргом группы, так она и «тянула лямку» беспокойной комсомольской работы до окончания техникума наравне с кураторами. Кроме того, Шура занималась спортом, участвовала в художественной самодеятельности. В общем, неплохо это у нее получалось – руководить своей группой, если Шура не осталась без внимания на торжественном вечере в честь юбилея Ленина. В тот день преподавателям техникума вручили юбилейные медали, а студентов наградили Почетными грамотами. Когда Шуру пригласили на сцену для вручения ей Почетной грамоты, зал дружно аплодировал, вторую отметил также аплодисментами. При вручении третьей грамоты по залу пробежал смешок, а когда смущенная Шура поднялась на сцену в четвертый раз, студенты дружно рассмеялись, и директор техникума, пожимая ей руку, сказал под дружный хохот зала:
– Дружникова, можешь вообще на сцене остаться, а то тут еще тебе, наверное, грамоты причитаются…
Страна отпраздновала столетие со дня рождения Ленина. И в техникуме разработали новую программу, направленную на патриотическое воспитание молодежи. Она начала действовать уже в апреле, едва завершились юбилейные празднества. В рамках этой программы на встречу с молодыми полиграфистами был приглашен Владимир Иванов, исполнитель роли краснодонского комсомольца Олега Кошевого в фильме «Молодая гвардия», созданного по роману Александра Фадеева. В фильме снималась целая группа выпускников ВГИКа, народных любимцев – Нонна Мордюкова, Вячеслав Тихонов, Сергей Гурзо… И молодежь с замиранием сердца смотрела этот фильм, восхищалась бесстрашием Сергея Тюленина, мудростью Вани Земнухова, мужеством Любки Шевцовой, которая даже смерть встретила с улыбкой, так злившей фашистов.
Спустя двадцать лет фадеевский роман будет охаян, да и важность деятельности самих молодогвардейцев принизят до такого уровня, что, вроде, погибшие комсомольцы-краснодонцы и не с фашистами воевали, а просто хулиганили. А, между тем, в молодежной организации «Молодая гвардия» было более ста человек, многие жили в окрестных селах. Она просуществовала недолго, но принесла немало неприятностей фашистам, так досадила им, что не нашли оккупанты иного пути расправиться с ребятами, как внедрить в их ряды провокатора. Одно это говорит о том, насколько серьезно захватчики относились к существованию «Молодой гвардии», считая, что в ней находятся взрослые умудренные опытом люди. Когда молодогвардейцы были арестованы – провокатор выполнил свое черное дело очень добросовестно – после пыток шесть человек из них были расстреляны, остальные сброшены в отработанную шахту. После освобождения Краснодона оттуда поднимут более семидесяти погибших молодых людей, которые так и не увидели освобождения своего родного города, не выполнили то, о чем мечтали. А мечтали они стать летчиками, врачами, учителями, хотели работать в шахте, трудиться на земле… И очень любили свою Родину, потому бесстрашно вступили в противоборство с фашисткой военной машиной. И даже в страшном сне не могли представить, что и организацию «Молодая гвардия» и сам роман начнут подвергать сомнениям, а была ли эта организация, и правильно ли описал события в Краснодоне Александр Фадеев. Автора романа лишь потому не начнут охаивать, что застрелился, якобы не выдержав жизни в тоталитарном режиме Сталина. И тем, кто муссировал эту тему, совсем не важна была личность Фадеева, главное – что застрелился при тоталитарном режиме. А в школьном учебнике истории будет молодым героям-подпольщикам Краснодона отведено три строчки: «Народными героями стали комсомольцы-подпольщики Краснодона: У. М. Громова, И. Н. Земнухов, О. В. Кошевой, С. Г. Тюленин, И. В. Туркенич, Л. Г. Шевцова».
Впрочем, тогда многое будет выворачиваться наизнанку, и немало демократов взметнется вверх именно на мутной волне исторической пены, из которой извлекалось самое негативное, мрачное, мерзкое. Пытаясь развенчать социалистический строй, «демократы», благодаря которому получили образование, сделали карьеру, выбив главные звенья в воспитании молодого поколения – нравственность и патриотизм. Несколько поколений запутается в исторических кривотолках «правдоискателей» в конце концов утратив любовь к Родине, разочаровавшись в том, что была Октябрьская революция, что именно советская армия уничтожила фашизм – им настойчиво будут «вбивать» в головы значимость американского образа жизни и главенство именно американской армии в годы Второй мировой войны. Но в годы учебы Шуры в техникуме патриотическому воспитанию придавалось огромное значение, да и в собственных семьях еще жива была боль от утраты родных, не вернувшихся с войны, и жила в сердцах гордость за свою страну. Но тогда вообще никто не мог даже представить себе, что в стране что-то может быть иначе, а взгляд на войну изменится. Но в конце всякого тоннеля – выход, главное, идти на далекую светлую точку, пока она превратится в большое светлое окно в мир. И после двадцати лет смутного времени Шурино поколение все-таки увидит свет хотя бы в трепетном отношении к результатам Великой Отечественной, и вновь ветераны-фронтовики станут самыми почитаемыми людьми.
В актовом зале техникума – не протолкнуться. Четвертая группа, в которой училась Шура, столько ныла, упрашивая своего куратора Эмилию Константиновну отпустить их с занятий пораньше, что та сдалась, потому девушки, к большой радости Раи Картушевой, расположились в первом ряду и внимательно рассматривали столичного визитера.
Иванов стремительно взлетел на сцену. Не поднялся по ступенькам, а именно взлетел – ступени он проигнорировал, видимо, захотел покрасоваться в глазах девчат. Среднего роста, слегка располневший и постаревший, но до сих пор энергичный Олег Кошевой стоял перед ними. Это было так удивительно, что дружный вздох умиления пронесся по залу. Иванов говорил быстро, по-уральски, ведь он родом из Серова, до учебы в институте кинематографии работал сталеваром на металлургическом заводе, а «Молодая гвардия» для многих его друзей и его самого стала дипломной работой.
– Эге, – пихнула Рая Дружникову в бок, – а Иванов-то – землячок твой…
Шуре было приятно это слышать: она всегда хвалилась, что родом с Урала, убеждала всех, что там – самые лучшие, талантливые, красивые, честные люди, словом – самые-самые… И всегда ее поддерживала Нонна Лесова из Оренбурга.
– Я был шестьдесят вторым претендентом на роль Олега, – рассказывал Иванов. – Комиссия в составе Фадеева, матери Олега и людей, знавших его, пришла к выводу, что я для этой роли больше всех подхожу по внешнему сходству. Готовясь к роли, прочитал очень много документов о краснодонцах и буквально слился с личностью Олега, и очень хотел сыграть его, вот поэтому, наверное, все и пришли к выводу, что это у меня получится лучше, чем у других. Ну а потом я стал жить в доме мамы Олега, которая относилась ко мне, как к сыну, даже частенько называла не Володей, а Олегом. Тогда-то я и понял: все у меня получится…
Шура приготовилась задать Иванову несколько вопросов, однако тот, отбарабанив свою речь, заявил:
– Прошу прощения, я сегодня улетаю, так что разрешите откланяться, – и не успели девчата опомниться, как Иванов исчез.
– Н-да… – скептически усмехнулась Рая. – Гастролер, он и есть гастролер. Пришел, поговорил, деньги получил, и был таков. Не общение со зрителями ему необходимо, просто стрижет купоны с этого фильма.
И Шура, которая не всегда была согласна с Раей, склонной видеть всюду только плохое, на сей раз согласилась с ней. Но не увидела, не догадалась, что Владимира Иванова уже поразила бацилла равнодушия.
Профессиональной подготовке будущих полиграфистов в техникуме уделялось еще большее внимание – в КИПТе выпускались отличные специалисты. Шуре нравились преподаватели в техникуме. Большинству из них не было и сорока. И многие их них были неженатыми или незамужними.
Самой знаменитой личностью, пожалуй, был Эдуард Васильевич Капралов, или просто Эдик. Он преподавал электротехнику, а его кабинет имел роковой номер – тринадцать. Вот поэтому, наверное, и случались в том кабинете всякие несуразицы. У него была одна странность: до того был равнодушен к своим студенткам, что постоянно забывал, какая группа перед ним, и всегда, раскрывая групповой журнал, спрашивал:
– Вы какая группа?
Но благодаря огромному количеству двоек да еще песне, которую про него сочинила Дружникова, он четвертую группу, наконец, стал узнавать:
– Уж такой группы, – говаривал Эдик, – ни разу не было у меня. Я думал: десятиклассники – народ серьезный, а вам лишь бы хаханьки. Вот в пятой группе – народ серьезный, а вы… – тут у него глаза ехидно начинали блестеть. – Вам задай вопрос: «Сколько электродов в трехэлектродной лампе?» – и вы ответите: «Четыре».
Эдик похож на Маяковского – черные завораживающие глаза, черный ежик стриженых волос. И при такой демонической внешности – широкая, светлая мальчишеская улыбка «шесть на девять», которая, наверное, запала в душу не одной студентке, причем, некоторые из них не просто вздыхали, а старались завоевать сердце Эдика. Однако он был подобен камню до самого четвертого курса. Одна из Шуриных сокурсниц – Тина Власьева – даже стала заниматься в стрелковой секции, где занимался Эдик, однако это не возымело на него сногсшибательного действия. И все-таки его сердце дрогнуло, когда он в отпуске на берегу Черного моря встретил свою ученицу, которая, пребывая на отдыхе, повела себя совсем не так, как в техникуме. Ну а «результат» встречи на юге появился через девять месяцев… Впрочем, девица та была из когорты, «кто и соврет, так не дорого возьмет», ибо Эдик по-прежнему, казалось, не замечал ее. А она взяла академический отпуск и уехала домой. Так никто не узнал, кто родился у нее: «маленький Эдик» или «мистер Икс».
Другая странность Эдика: он никогда не ставил пятерки и тройки, объясняя: «На пятерку я и сам электротехнику не знаю, а тройка – это оценка посредственности». Так что учи-не учи, а в отличники у Эдика выбиться невозможно, зато двойки (в техникуме, как в школе, ставили оценки за знания в групповой журнал в течение всего семестра) он раздавал щедро, приговаривая при том: «Для вас, что канат, что проводник – все едино…»
Но сердце у него, видимо, было доброе и хотело любить.
Как-то Власьева притащила откуда-то воробья – встрепанного, перепуганного, и выпустила его на стол к Эдику. Воробей заковылял по столу прямо в руки преподавателя. Тот не рассердился, а улыбнулся своей мальчишеской улыбкой, погладил воробьишку. Пичуга расправила перышки и требовательно чирикнула, мол, гдадить-то гладь, да кормить не забывай. Эдик извлек откуда-то из стола засохшую булку, налил в блюдце воды, поставил на стол. А воробей даже попыток улететь не делал, клевал булку, и Эдик смотрел на него теплым лучистым взглядом забыв, что идет урок, и надо в головы студенток вкладывать «разумное, доброе, вечное».
Неженатым был и Василий Иванович Мужик – Вася. В Белоруссии, откуда он был родом, вероятно, называя его по фамилии, ударение ставили на первом слоге, но в России привычно – на втором. Куратор группы, Эмилия Константиновна, знакомя подопечных с новым преподавателем, так и сказала:
– А это Василий Иванович Мужик.
– Видим, что не баба, – буркнула себе под нос Рая Картушева, рассердив Эмилию Константиновну таким беспардонным замечанием. А вообще она была доброй, не скандальной, как большинство больших и дородных женщин, правда, как руководитель группы была строгой, но самое главное – отличный преподаватель, и пятая группа завидовала четвертой группе: их преподаватель общего курса полиграфии Валентина Александровна намного слабее. Ну а если студенты уважают преподавателя, то стараются его не огорчать, поэтому в четвертой группе по предмету Эмилии Константиновны не было ни одного отстающего.
Василий Иванович Мужик свой первый урок в четвертой группе технологов-наборщиков провел своеобразно. К тому времени наборщики уже кое-что знали по курсу общей полиграфии, что такое «машинный набор», поэтому он и спросил:
– Первый вопрос… Ну, допустим, расскажите вкратце историю создания строкоотливных машин, – и ткнул пальцем в Шуру.
Но едва Шура начала рассказывать, Василий Иванович перебил ее и продолжил сам, причем, Шура торчала рядом столбом, так как преподаватель не разрешил ей сесть.
Мужик, наконец, выговорился, и придвинул к себе групповой журнал, чтобы поставить Шуре оценку.
– Ой, не ставьте! – перепугалась та, потому что ничего, кроме двойки, не ожидала, ведь Мужик все за нее рассказал.
– А почему? – удивился преподаватель. – Какую, вы думаете, я хотел поставить оценку?
– Какую-какую? – досадливо сморщилась Шура. – Двойку, конечно.
– Ошибаетесь, я хотел вам поставить пять. Ну, не желаете – не поставлю.
Вздох разочарования пронесся по комнате, видимо, каждый пожалел, что находится сейчас не на месте Дружниковой, которая еще и фордыбачит, хотя оценку заработала шутя. Зато Картушева не оплошала: на следующий вопрос ответила несколько слов и заявила: «Мне бы хотелось четверку». Василий Иванович выполнил ее просьбу.
Мужик был очень похож на араба – курчавые волосы, черные блестящие маслянистые глаза, смуглолицый. Но его внешность портила нижняя «боксерская» челюсть – тяжелая, немного выдвинутая вперед. В отличие от Эдика он был весьма любвеобильный. Неизвестно, как относился к девушкам из других групп (в КИПТЕ мало училось парней), но в четвертой группе выделил сразу «Дружникову и компанию» – Шуру и ее четверых подруг: Раю Картушеву, Любу Вишнякову, Галку Иванкову и Нонну Лесову. Видимо, Вася не знал, кому отдать предпочтение, поэтому свои своеобразные знаки внимания оказывал всем поровну. Правда, Галку вскоре оставил в покое, потому что жила в Куйбышеве и дружила со своим одноклассником. Однажды она пришла на вечер в техникум вместе с ним, с тех пор Вася не обращал на нее внимания.
А знаки внимания Вася оказывал своеобразно.
Шура как-то спешила на тренировку, летела вниз по лестнице, не видя ничего перед собой. Вдруг увидела: навстречу не спеша поднимается Василий Иванович. И он увидел Шуру, остановился. Шура хотела обогнуть преподавателя, но Вася – грудь колесом, глазами заиграл – вновь заступил ей дорогу. Шура затормозила и все-таки врезалась локтем в грудь Васе, а тот прижал ее к перилам.
– Ой, Шурочка, куда летишь? Я подумал, вдруг упадешь, дай, думаю, поддержу… – и крепко сжал своей ладонью руку Шуры, которой девушка держалась за перила. – Можно, я буду звать тебя Алекса? Красиво, по заграничному. А то Шура – очень уж просто.
Но сверху по металлическим ступеням мягко и легко спускался физрук Владимир Дмитриевич, и Вася, вздохнув, уступил девушке дорогу.
Когда же студентки видели на пляже Василия Ивановича, тут же сбегали подальше от греха: Вася имел обыкновение шутить – стаскивал девушек за ноги в воду. А это было не очень приятно, поскольку осеннее солнце пригревало достаточно, чтобы загорать, но вода в реке была уже холодной.
Словом, у Василия Ивановича голова так закружилась, что он, так и не сумев избрать кого-либо из дружной пятерки, женился на продавщице универмага, который находился рядом с техникумом. И до самого конца учебы Вася, который терпеть не мог шуток со стороны студентов, безропотно сносил зубоскальство Дружниковой и ее подруг. Шутили они беззлобно, без ехидства, поэтому, наверное, и принимал их шутки Василий Иванович, зато безжалостно обрывал других. Однажды кто-то из «самарцев» возмутился: «А что – им можно на уроках болтать, а нам нельзя?»
– Да, им можно, – твердо заявил Василий Иванович, – а вам нельзя, – и так сверкнул глазами, что все сразу поняли: что позволяется «дружной пятерке», то не позволяется другим.
Ольга Карпухина, жившая в Куйбышеве, вредноватая и нахальная девица, все-таки пробормотала: «Что позволяется кесарю, то не разрешается слесарю», – и тут же поплатилась за это: Василий Иванович вызвал ее к доске, а поскольку Ольга была к тому же ленивой, и училась плохо, тут же «вкатил» ей жирнющую двойку в журнал.
И лишь на последнем курсе стало ясно, кому больше всех благоволил Мужик. Дипломированные специалисты четвертой группы «обмывали» свои дипломы в ресторане, куда пригласили и преподавателей, и Мужик танцевал только с Раей Картушевой. Видимо, нравилась она ему нешуточно, да вот жениться на своей студентке не решился.
Зато решились двое других – экономист Валерий Сергеевич и плаврук Рудольф Давыдовыч, этих девчата звали ласково-иронически Валерик и Рудик.
Ох уж этот Рудольф Давыдович! Крепкий, стройный, лицо – красивое, тонко вырезанное, и лысина на всю макушку. Но что лысина? Не лысина главное в мужчине. Был у него другой, более существенный недостаток – он говорил медленно, занудливо. Уж на что куйбышевцы слова тянули, но Рудольф Давыдович всех перещеголял, поэтому студентки его имя тоже растягивали до невозможности: Рууудииик.
Был он неженатым, поэтому студентки также уделяли ему определенную долю внимания, однако больше хихикали и доводили своими шуточками, вероятно, до белого каления, однако он умел сдержаться. Все же однажды вышел из терпения.
Физическое воспитание, как и нравственно-патриотическое, в техникуме тоже было на высоком уровне, потому летом занимались на стадионе, а зимой в бассейне. Вот в бассейне-то все и произошло.
Рудик долго и безуспешно объяснял задание: девушки отрабатывали простое упражнение ногами, держась за кромку чаши бассейна, и при этом делали вид, что ничего не понимают, развлекались, одним словом. Раз объяснил плаврук, что следует делать, два, и, наконец, не выдержал, крикнул: «Да что вы за тупицы?» – разделся и ухнул, как был, в длинных «семейных» трусах в воду. Группа чуть не утонула. От смеха. Уж очень забавно смотрелся в тех трусах молодой мужчина, на теле которого можно было в анатомичке каждый мускул изучать. Ну, а когда он продемонстрировал необходимое упражнение и вылез из бассейна, все деликатно отвели глаза: мокрая, прилипшая к телу ткань, очень рельефно показала «достоинство» преподавателя. Впрочем, женившись на невзрачной студентке со старшего курса, Рудольф Давыдович преобразился: женские руки сделали его привлекательным, благоухающим одеколоном, всегда он ходил в свежих рубашках и чистой одежде. Так что некоторые в четвертой группе стали нешуточно заглядываться на плаврука.
Был в техникуме еще один Давыдович – Модлин. О его необыкновенной рассеянности ходили легенды. Невысокий, толстоватый, лысоватый, и чем-то похожий на комиссара Жюва из шедшего в то время французского фильма «Фантомас». Модлин был всегда неряшливо одет, пиджак осыпан мелом, на коленях брюк – пузыри. Он совсем не походил на человека с высшим образованием, поэтому, когда впервые вошел в кабинет, где его ожидала четвертая группа, никто и внимания на него не обратил. А он взял в руки мел и крупно написал на доске: МГД. Все уставились на пришельца, на странные буквы, а тот высморкался в тряпку, которой только что вытирал доску и произнес:
– МГД означает – Модлин Георгий Давыдович, это, значит, я. Здравствуйте. И вы, пожалуйста, назовите себя.
Девушки вставали, бормотали свои имена, думая, что «комиссар Жюв» не запомнит. А он запомнил. С первого раза. И никогда не путал их. С тех пор его никто не называл ни «комиссаром Жювом», ни МГД, его просто называли по имени-отчеству. Впрочем, к этому добрейшему человеку и нельзя было иначе относиться. Он никогда не ставил девчонкам отрицательные оценки, никогда не читал нотации, просто сокрушенно разводил руками, дескать, и как вы, серьезная девушка, такая взрослая, не понимаете, что учиться следует хорошо. И потому группа у него действительно не имела двоек – Модлина старались не огорчать.
Совершенно иным по характеру оказался Василий Сергеевич Васильков, преподаватель по технической механике и сопротивлению материалов.
Человек он, вероятно, был неплохой, порой открыто улыбался, и тогда вокруг его глаз собирались лучики-морщинки, но чаще всего он пребывал в унылом настроении и голос имел скрипучий, тягучий, похожий на скрежет двух ржавых железяк. Он говорил нарочито медленно, вдалбливая каждую фразу в головы студенток, то повышая, то понижая голос в конце фраз. Седые длинные волосы спадали ему на лоб, и он откидывал их длинными нервными пальцами. Во время перемен Васильков прогуливался по коридору, опираясь на тросточку, или же одиноко стоял в кабинете у окна. Его болезненный вид вызывал у девчонок жалость, однако, большинство группы не учило сопромат. Все изнывали от плохих предчувствий, когда Васильков, чуть прихрамывая, входил в кабинет, долго, молча с недовольным лицом в полной тишине перебирал на своем столе какие-то бумаги, словно настраиваясь на лекцию. А потом сказывалось плохое предчувствие: двойки сыпались на группу как горох из мешка, и потому студентки рассерженно шипели: «Не зря говорят: как сдашь сопромат – можешь замуж выходить, все остальные предметы – семечки». И все-таки Васильков по-хорошему всех удивил, когда технологи-наборщики получили дипломы: ни у кого в дипломе не было оценки ниже четверки. Старик понимал, что полученные знания вряд ли пригодятся мастерам-наборщикам на производстве, а портить выпускной балл не хотел никому, хотя добросовестно пытался вложить в ветреные головы хоть минимальные знания по сопромату.
Однако в техникуме преподавали не одни мужчины. Мужчин студентки, которые в основном находились в самом невестином возрасте, изучали, злили, строили им глазки, даже влюблялись, а вот к женщинам было всего два чувства: их либо уважали, либо боялись. Экономиста Елену Александровну боялись: умная женщина, и характер неплохой, однако ее «острый» язычок приводил всех в трепет, никогда нельзя было понять, что выскажет она в адрес студентов. «Англичанку» Людмилу Иннокентьевну уважали, брали с нее пример: ни разу за три года учебы никто не видел ее растрепанной, неаккуратно одетой. Всегда у нее ровная прическа, волосок к волоску, всегда элегантно и строго одета, на руках – маникюр.
С мастером Фаиной Семеновной Молдавской группа дружила, правда Фаина как-то умудрилась выйти замуж за одесского «кавээновца» Леонида Сущенко и уехала. И тогда за четвертую группу со всей страстью своего крутого характера взялась другая Семеновна – Мария Семеновна Мариня, но ей все были потом благодарны: учила она добротно.
А вот свою «маму» – куратора Эмилию Константиновну Ресенчук – девчонки просто обожали. Однако с ней пришлось расстаться задолго до конца учебы – ее мужа перевели в Ростов-на-Дону в крупное полиграфпредприятие «Молот», и Ресенчуки уехали. Тогда стало понятно, почему она в первом семестре для своей группы была словно мать родная, а во втором – охладела: знала об отъезде и не очень напрягалась. И хотя в начале следующего учебного года была еще в городе, не зашла попрощаться с группой, поэтому девушки очень на нее обиделись.
И тогда судьба преподнесла другому экономисту – Валерию Сергеевичу Дмитриеву – неприятный подарок: его назначили куратором взбалмошной, болтливой и, пожалуй, разболтанной, однако и талантливой четвертой группы. Ох, и намаялся же бедолага Валерик со своенравными девицами, избалованных свободой, потому что они полгода были предоставлены сами себе! Одна Тина Власьева чего стоила! В ней, видимо, был немалый процент узбекской крови, получилось нечто гремучей смеси. Власьева то ехидничала, не считаясь с авторитетами, то закатывала истерику, если девчата отпускали в ее адрес шутки. Она так эффектно «подала» себя в первые дни учебы, что Эмилия Константиновна предложила избрать ее старостой группы. Но девчонки в группе быстро разобрались в ней: Власьева полностью соответствовала своей фамилии – желала только произвести эффект и властвовать, быть на вершине славы, не прилагая при том никаких усилий, и ее быстренько переизбрали вопреки мнению куратора группы. Дмитриев боялся свою группу, поэтому почти все дела переложил на плечи комсорга Дружниковой, он доверял ей и групповые собрания вести, и за дисциплиной следить, и различные мероприятия организовывать, и стипендию распределять…
Павла Федоровна и Николай Константинович после отъезда дочери на учебу затосковали. Молча сидели возле старенького приемника «Москвич», слушали передачи, но уже не спорили, как раньше, думая об одном и том же – о Шуре – однако думами своими не делились друг с другом. Что-то словно потухло в доме, затихло. Даже Ярик, которому разрешили жить в доме, а не в сарае, лежал у двери, протяжно и громко вздыхая: тоже тосковал по молодой хозяйке. Единственной радостью для всех были письма от Шуры, которые приходили часто, но все же это были письма, а не живой голос. Письма многократно читались вслух, обсуждались новости. Потом Павла Федоровна садилась писать ответ, а Николай Константинович ревниво следил, чтобы написано было все, о чем он просил. И даже Ярик тихонько поскуливал, словно тоже что-то рассказывал.
Хозяйством теперь занимался Николай Константинович. Он ходил с небольшим ведерком за водой к колонке, выносил мусор. Получив пенсию, в первую очередь шел на почту и телеграфом отправлял Шуре тридцать рублей. Он стал при ходьбе опираться на палочку: хоть и старался держаться молодцевато, но года брали свое.
Николай Константинович, спозаранку сходив за продуктами в магазин, прогуливался вместе с Яриком перед домом до прихода почтальонки. Ярик безошибочно угадывал, несет она письмо от Шуры или нет: начинал юлить всем телом, взвизгивать, и тогда Николай Константинович трусил навстречу почтальонке, забирал письмо и спешил в дом, радостно крича:
– Поля! Письмо от Шурочки! – и тут же распечатывал конверт, хотя письмо, как правило, было адресовано Павле Федоровне, пробегал глазами по крупным угловатым строчкам. Ярик внимательно следил за ним, и если Николай Константинович медлил с громким чтением вестей от его обожаемой хозяйки, начинал нетерпеливо взвизгивать: дескать, я тоже хочу послушать, о чем пишет Шура. Николай Константинович понимал нетерпение пса, но ритуал чтения нарушать не собирался, вручал письмо жене, не спеша раздевался, усаживался поудобнее за стол и командовал:
– Ну, мать, читай, что дочка пишет.
И Павла Федоровна, нацепив очки на нос, садилась за стол и начинала громко читать письмо. Ярик устраивался напротив них, слушал, навострив уши, и беспрестанно молотил хвостом по полу, выражая свою радость. Ярик же всегда сообщал и о том, что Шура приезжает. Неизвестно, как он это узнавал, но накануне приезда девушки усаживался возле дома на тротуаре и внимательно единственным глазом (какой-то негодяй выбил Ярику камнем правый глаз) смотрел в конец улицы, откуда должна была прийти Шура. Ничто не могло отвлечь его с поста до тех пор, пока Шура и впрямь не являлась. Ярик узнавал ее издалека по летучей быстрой походке и мчался навстречу с визгом и лаем, сообщая всей улице, что его любимица вновь приехала домой.
Павла Федоровна зимой редко выходила из квартиры: температурные перепады нежелательны для астмы, от которой она страдала уже несколько лет. Но как-то Николай Константинович заболел, и она отправилась в магазин сама. День выдался теплый, сумрачный от низких снеговых туч, из которых сыпался мелкий мягкий снежок, и Павла Федоровна, закутанная в шаль до самых глаз, семенила по улице, на которой прошла почти вся ее жизнь в Тавде. Магазин стоял по-прежнему в начале улицы неподалеку от дома, где несколько лет она прожила с Максимом, и, как всегда при виде его, на Павлу Федоровну нахлынули воспоминания.
В ее жизни Максим был не единственным мужчиной, но самые теплые воспоминания остались именно о нем, с ним жилось спокойно, потому что Максим во всем был надежным и практичным человеком, хотя, вернись он сейчас неожиданно из неизвестности, она бы не ушла от Смирнова, к которому привязалась всей душой. С Максимом ей было спокойно, с Николаем – интересно.
Павла Федоровна, задумавшись, услышала не сразу, что ее кто-то окликнул.
– Павла Федоровна!
Дружникова оглянулась и увидела, что ее догоняет невысокая неопрятно одетая женщина. Что-то знакомое почудилось в ее лице, однако, женщина была ей неизвестна, потому она ответила:
– Извините, кто вы?
– Павла Федоровна! – женщина обняла ее. – Да я же Рая Дружникова, помните, я училась у вас в Шабалино! Я жила у Дружниковых, у Максима Егоровича…
– Господи… Раечка, ты ли это? – ей сразу вспомнилась маленькая черноглазая девочка, смотревшая восторженно на учительницу, но в этой испитой женщине ничего не было от маленькой Раечки.
– Я, Павла Федоровна, – и глаза ее на миг стали прежними: ласковыми и восторженными.
– Откуда ты, Раечка?
– Ох, Павла Федоровна… – и женщина заплакала, вытирая глаза рукавом обтрепанного пальто.
– Ну, пойдем ко мне, расскажи, где ты, как живешь.
Павла Федоровна в магазине к обычному набору продуктов купила бутылку вина и кое-что из хорошей закуски, чтобы порадовать гостью.
Почти до утра Павла Федоровна и Рая сидели рядышком и говорили, вспоминая прошедшие годы. Павла Федоровна, словно в юность свою вернулась, туда, где начинала учительствовать, где встретила Максима. Николай Константинович после застолья деликатно принялся за чтение газет и журналов: они подписывали до десяти различных периодических изданий. А потом улегся спать, понимая, что и жене, и гостье необходимо поговорить по душам.
– Как жизнь в Шабалино, на Четырнадцатом участке? – поинтересовалась Павла Федоровна, потому что давно уж ничего не знала о семействе Дружниковых. Читала иногда в газете, что Николай Дружников, сын Григория – знатный механизатор в своем колхозе, однажды к Павле Федоровне наведался его брат Борис, переехавший в Тавду. Где-то в городе жила и Александра, жена Михаила.
Рая рассказала, что знала, и выходило, что многие, кого помнила Павла Федоровна, ушли в мир иной, опустела деревня, потому что молодежь разлетелась по городам.
– Ну а Ефросинья как? – спросила Павла.
– Да жива еще. Зловредная стала, скопидомка. Щепки на улице собирает да в дом несет. С ней живет двоюродный племянник – дом-то большой, за ним следить надо. Он женился, а семья-то, сами знаете, бедная, вот Ефросинья и взяла его к себе в дом.
– Рая, а как ты жила все эти годы?
– Как жила? – вздохнула Рая, и этот вздох разбередил Павлину душу: невесело, видать, жилось Рае, судя по ее виду. Да и какое воспитание может дать девочке в деревне безграмотная женщина, к тому же чужая ей.
– Как вы с Максимом Егорычем уехали в Тавду, мать совсем осатанела. Пока вы жили в деревне, она со мной неплохо обращалась, боялась, что я папе Максиму пожалуюсь. Он всегда за меня заступался. А как вы уехали, так она совсем сдурела. Что ни день, то бьет. Я терпела-терпела да сбежала в Тавду, хотела вас найти, но меня милиция опять в деревню вернула. Тогда Ефросинья меня в детдом отправила и попросила, чтобы из Тавды меня увезли. Плохо было в детдоме, потому опять сбежала. В общем, так получилось, что, в конце концов, в тюрьму попала. Жизнь, короче, была не мед, вот если бы папа Максим дома был… – и она опять тяжко вздохнула.