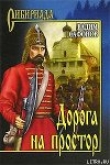Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 37 (всего у книги 64 страниц)
Отец багровел от злости, бешено вращал черными цыганскими глазищами, усы его топорщились, однако на дальнейшее обострение не шел, выхватывал выпрошенную пятерку и выбегал из дома.
Смирнов – Шура была права в своей догадке – не мог, а, может, не хотел покончить с пагубной привычкой. Не имея достаточно денег для утоления своей «жажды», выход все же нашел, благо дружков-собутыльников у него множество – был всегда щедрым и угощал всех направо и налево, когда получал пенсию, к тому же был интересным и веселым собеседником. И эти прежние «инвестиции» теперь принесли результат: день-деньской отец околачивался в пивнушке при бане на Типографской улице. Возвращался домой вдрызг пьяным: уважали майора, потому в пивнушке каждый мужик считал для себя честью поднести ему кружечку пива. Иногда он уплетался в печально знаменитый на весь город, по-прежнему скандальный, «тридцатый барак», расположенный неподалеку от их дома, там всегда можно было найти выпивку, а если кипела в жилах шальная кровь, то и женщину, и немало юнцов становились мужчинами именно в том бараке.
Шурка начинала злиться: не было дня, чтобы отец был трезвым. Была зима. До лета, когда отец становился трезвенником из-за любви к рыбной ловле и собиранию грибов, было еще далеко. Летом Смирнов бродил по окрестным лесам, собирая грибы, или же сидел на берегу реки с удочкой. А потом с восторгом рассказывал всем об улове и страшно гордился тем, что добытчик. Однажды даже поймал небольшую стерлядку возле старой лесотяги на заброшенном заводе «семи-девять». Но река медленно умирала: год за годом росло ее второе «дно» из намокших топляков-бревен, год за годом все уже становилась русло после паводка, река не выходила из берегов, как было в пятьдесят седьмом году. И рыбы стало меньше, но все-таки отец летом упорно сидел с удочками на реке, а рядом с ним подремывал черно-белый пес Ярик, тот самый, который когда-то жил у Ермолаевых.
Тетя Зоя, уезжая в Альфинск, отдала пса знакомым. Новые хозяева были неприветливыми, держали пса впроголодь, вот и начал домашний ласковый Ярик таскаться по помойкам да выпрашивать подачки у рыбаков. Он похудел – ребра выпирали из-под некогда лоснящейся короткошерстной белой в черную крапинку шкуры. Саблевидный хвост – гордость собаки – обвис, черными тряпочками болтались уши. Глаза стали виноватые, словно не хозяева, а он виновен в том, что стал таким замарашкой и попрошайкой. Когда Шурка нечаянно встретила Ярика, плетущегося по парку, то сердце девочки замерло от жалости, и она подозвала Ярика к себе. Пес несколько секунд смотрел, определяя, кто это перед ним, а, узнав, бросился к Шурке, заюлил возле ног, заподпрыгивал на коротких кривых лапах, пытаясь достичь ее лица и лизнуть длинным горячим языком. Он подскуливал, вероятно, жалуясь на свою бродячую жизнь, и тут же весело взлаивал, наверное, сообщая, как рад встрече, и… улыбался во всю свою собачью пасть: морщил кожу на носу, оскаливал клыки, и эта гримаса в самом деле походила на улыбку. Шурка подхватила низкорослого Ярика на руки, закружилась с ним, а потом привела домой. Родители, конечно, изумились тому, что Зоя бросила Ярика на чужих бездушных людей, и решили оставить пса дома. Так Ярик остался у Дружниковых и стал непременным спутником их походов на реку и в лес.
Лето – чудесное время. Вечерами Дружниковы всей семьей – отец летом редко посещал пивнушку – в сопровождении Ярика иногда прогуливались по парку или сидели до полуночи перед стареньким радиоприемником, слушая музыку или радиоспектакли. Потом обсуждали услышанное. А Смирнов рассказывал об артистах, когда слышал знакомые имена, оказалось, он многих знал, дружил. Он видел почти все спектакли в московских или ленинградских театрах. Однажды вернулся с прогулки со знаменитым летчиком-полярником Михаилом Водопьяновым, который курсировал по Уралу с лекциями об авиации. Шура читала о нем, но еще интереснее рассказывал о нем Николай Константинович. Герой Советского Союза Михаил Васильевич Водопьянов воевал и в гражданскую войну, и в Великую Отечественную, но все же был больше был знаменит спасением челюскинцев и полетом на Северный полюс для высадки полярной экспедиции.
В 1933 году о пароходе «Челюскин» знала, наверное, вся страна. 10 августа «Челюскин» отплыл их Мурманска, на его борту находились сто человек. Экспедицию возглавлял Отто Юльевич Шмидт. Цель – проход по трудному Северному пути из Атлантического океана до Тихого, который пытался пройти в 1740 году капитан В. В. Прончищев на судне «Якутск», штурманом которого был Семён Иванович Челюскин. Судно было затерто льдами. И то же самое произошло и с пароходом, «однофамильцем» Семёна Ивановича 19 сентября 1934 года. В пятнадцами милях была чистая вода, а далее – Берингов пролив, но «Челюскин» не мог пробиться сквозь льды, и начался многомесячный дрейф. И поскольку к пароходу сумели добраться чукчи, то с ними обратно успели переправить на материк восьмерых больных.
12 февраля началось интенсивное сжатие льдов. К утру ледяной панцырь разломил днище, через которое хлынула вода затопила судно. Люди были быстро и организованно эвакуированы на льдину. Удалось спасти продукты, которых могло хватить лишь на два месяца, теплую одежду, палатки, сохранился и строительный лес, из которого потом построили барак, где поместили женщин, больных и детей – двухлетнюю Аллочку Буйко и крошечную Карину Васильеву, которая родилась на борту парохода. На следующий день, в 15 часов 30 минут «Челюскин» затонул, окончательно раздавленный льдами. На Большую землю о трагедии сообщили только на следующий день, когда отремонтировали рацию. После этого сообщения сразу же началась организация спасательных работ, которые можно было осуществить только с помощью авиации. Но только в марте началось спасение людей со льдины, за это время несколько раз переносили лагерь с места на место, соорудили 15 аэродромов, потому что началось уже таяние льда. База спасательной экспедиции находилась в селении Ванкарем, оттуда и летал Водопьянов к лагерю челюскинцев. Вместе с ним летали и снимали с льдины по 3–4 человека летчики Молоков и Каманин, делая по несколько рейсов за день, и, наконец, 13 апреля 1934 года спасательная операция была завершена. Им, а также летчикам Леваневскому, Слепневу, Ляпидевскому и Доронину, присвоили звание «Герой Советского Союза», которое было учреждено 16 апреля 1934 года, и эти семь летчиков – первые советские люди, кто был удостоен такого высокого звания.
А через год Отто Юльевич Шмидт обратился к Михаилу Васильевичу Водопьянову взяться за разработку проекта полета на Северный полюс, чтобы доставить туда оборудование и зимовщиков. И 21 мая 1937 года Водопьянов оказался на Северном полюсе, там на очень удобной льдине, на которой потом был оборудован аэродром – на о. Рудольфа ожидали взлета другие самолеты. На этой же льдине начала свой путь к славе первая дрейфующая Полярная станция, начальником которой был Отто Шмидт.
И вот Смирнов, увидев афиши со знакомым именем, явился к Водопьянову в гостиницу, а потом привел его и к себе. Павла и Шура прямо-таки обалдели, увидев знаменитого летчика, а тот вел себя запросто, словно бывал у Дружниковых ежедневно.
Шуре нравились рассказы отца, она жадно слушала, поражаясь его памяти: пьяный-пьяный, а Есенина мог читать наизусть целый вечер. А то Шура брала в руки гитару, и они втроем негромко пели, опять же что-нибудь есенинское, и как же Шура любила в такие моменты отца, доброго, мудрого, знающего, казалось обо всем и про всех.
Но до лета было далеко, и Смирнов приходил каждый день навеселе, куражился над матерью, и Шура не выдержала, заявила Павле Федоровне:
– Сколько можно терпеть выходки этого алкаша? Или он, или я! Не уйдет он, уйду я!
Павла Федоровна, попав в жесткие тиски между дочерью и мужем – иначе она и не могла назвать человека, с кем делила кров двенадцать лет, заплакала. Да, Смирнов был ей дорог, она боролась за него все эти годы. Устала бороться, но в то же время и любила его. Но, несмотря на свою любовь, она не могла предпочесть Смирнова своей дочери. Потому и состоялся тяжкий разговор:
– Николай, ты никак не хочешь понять, что жить так больше нельзя, ведь стыдно из-за тебя перед людьми, – Смирнов фыркнул презрительно: тоже мне, мол, нашла людей на улице Лесопильщиков – одни работяги с лесокомбината. – Если водка дороже тебе, чем я и Шура – уходи.
– Ну и уйду! Я-то без вас проживу, у меня пенсия большая, вот вы проживите на твои гроши, – в нем взыграла давнишняя спесь, однако Смирнов на время укротил ее, чтобы дождаться получения пенсии. Он маялся несколько дней, слонялся по комнате из угла в угол или же сидел возле окна, глядя на заснеженный двор, не разговаривая с Павлой Федоровной и Шурой, теша себя радужной мечтой на благополучное будущее. Получив пенсию, молча покидал вещи в чемодан, молча ушел.
В доме стало тихо. И мать, и дочь, проводили бессонные ночи, таясь друг от друга, каждая на своей постели. Но что может быть тайным в одной комнате, где тесно не только вещам, но и людям, если вдруг им захочется побыть в одиночестве? Павла Федоровна похудела, беспрестанно курила, стала потухшая, тихая, ограничиваясь в разговоре чаще всего словами «да» или «нет». И Шуре было душевно плохо. Конечно, стало намного спокойнее, тише, чище, но мать страдала, и чтобы не видеть ее набухшие слезами глаза, которые в любой момент могли пролиться, Шура скрывалась в своем закутке, отгороженном от всей комнаты платяным шкафом и занавеской.
Так прошло десять дней – в молчании, которое вскоре могло стать враждебным, потому что Шура чувствовала: мать жалеет, что пошла у нее на поводу, а теперь вот переживает, что Смирнов где-то бродит, ведь старик уже, сердце больное. Разум пятнадцатилетней девчонки забился в отчаянии: что делать? Ненависть к отчиму еще не утихла, но и мать жалко. И зачем она так резко заставила мать выгнать отчима? Пусть бы уж маялась с ним, все равно после окончания школы Шура хотела уехать на учебу, а там неизвестно как бы жизнь повернулась.
Проблема разрешилась сама собой неожиданно и просто, словно кто-то подслушал мысли девушки: однажды вечером в дверь комнаты раздался робкий стук, и на пороге встал Смирнов – жалкий, обросший, замерзший – на улице мороз под сорок градусов. На нем вместо нового полупальто была надета рваная и грязная телогрейка, вместо новой пушистой собачьей шапки – облезлый «кролик», на ногах – старые растоптанные подшитые валенки.
– Поля, можно я хоть на кухне погреюсь? Замерз… – он обращался к жене, но смотрел на Шуру.
Девушка закаменела, а мать повела Смирнова на кухню. Он разделся, и Павла Федоровна увидела, что Смирнов без пиждака, в нестираной рваной рубахе, что руки у него черны от грязи. У Павлы Федоровны на глазах мгновенно «закипели» слезы.
– Поля… – робко попросил Смирнов. – Налей мне, пожалуйста, кружку чая. Я очень хочу кушать.
То, что он голоден, Павла Федоровна и без его признания видела. Она молча налила ему борща, поставила перед ним чашку чая, на тарелочке – хлеб горкой. Смирнов с жадностью голодной собаки набросился на еду, проливая борщ на рубашку, заглатывая хлеб огромными кусками, обсыпая колени хлебными крошками. И тут в кухню вошла Шура. Смирнов застыл испуганно, не донеся ложку до рта, в глазах его мелькнуло что-то невыразимо страдальческое, он прошептал:
– Сейчас, Шурочка, я уйду… Вот я…
Жалость не просто пришла к Шуре, она, как пуля, прострелила сердце: и это человек, который воспитывал ее, которого Шура уважала, любила – именно так, она поняла это в бессонные ночи. Он так опустился. Выходит, ничего Смирнов не значит без нее и матери? Выходит, не он был им опорой, а они – ему? И она вымолвила глухо:
– Да ладно, спи в кухне. Куда ты на мороз пойдешь?
И такая благодарность появилась в глазах отчима, нет – отца, ведь именно так она всегда звала Смирнова, что Шура, едва не заплакав от жалости к нему, выскочила из кухни. Она могла только догадываться, о чем говорили потом отец с матерью.
А они ни о чем не говорили. Когда мать убирала со стола посуду, Смирнов взял ее руки и благоговейно поцеловал, а она прижала его голову к животу и молча гладила поседевшие волосы. Так и молчали они, двое несчастных людей, привязанных друг к другу странной необъяснимой и непонятной окружающим любовью.
Утром, едва Шура вошла в кухню, чтобы умыться, Смирнов сразу же вскочил: он спал возле печи на брошенном на пол старом своем пальто, скрючившись под телогрейкой, подложив под голову задрипанную шапку. Мать сидела возле стола, подперев щеку ладонью, и горестно смотрела на него.
– Я сейчас уйду, – засуетился Смирнов, натягивая на голову облезлую шапку.
Шура глянула исподлобья на него и сказала:
– Хватит бродяжничать. Оставайся, но учти: пить не дам! – повернулась и вышла, не заметив, что на глазах отца засверкали слезы. Ведь и для него не бесследно прошли эти десять дней.
В состоянии эйфории от нежданно полученной свободы Смирнов пристроился на квартиру к своим знакомым, с кем часто выпивал в пивной – средних лет спившемуся мужику и его жене. Первая неделя прошла в пьяном угаре и утехах с хозяйской женой. Смирнов бросал ей в подол мятые рублевки, трешки, пятерки, требуя необычных ласк, и та старалась, радуясь, что старик «богатый», он готов поить ее и мужа с утра до вечера, почему же не утешить старичка, не угодить ему, к тому же старичок вполне еще в мужской силе. Она и угождала, подчиняясь фантазии постояльца.
Ее муж спал в одном из закутков, периодически просыпаясь, чтобы справить нужду или добавить к выпитому.
Но деньги быстро кончились. И хозяйка сразу изменилась: из ласковой любовницы превратилась в злобную мегеру, требуя ежедневно денег на опохмелку и закуску. Смирнов, протрезвев, понял, что деваться ему некуда, и чтобы рассчитаться хотя бы за квартиру, продал за бесценок все, что было на нем и в чемодане, но и эти деньги кончились. И когда хозяйка поняла, что вытянуть больше из старика ничего нельзя, то разбудила мужа, спавшего беспробудно все это время, и он, уразумев наставления жены, просто вышвырнул нищего квартиранта из дома.
Смирнов, оказавшись на улице, к ужасу своему понял, что подошел к самому краю пропасти: еще шаг, и упадет в страшную черноту. Днем он грелся на вокзале, его колотило от похмелья, но в пивнушках ему никто не предлагал опохмелиться – никто не признавал в зачуханном сгорбленном старике Инженера-Майора. К вечеру его выгоняли с вокзала: после отправления поезда в Свердловск вокзал закрывали. Он бродил по городу, не зная, куда податься. Во всем свете никто его не ждет, никому он не нужен, и тогда он понял, что нет для него дороже и милей отвергнувших его Павлы и Шуры, даже фото-Елена потускнела, а лица родных детей он давно уже забыл. Павла – его жена, Шура – его дочь. Сознание того, что они безвозвратно потеряны для него, било тяжким молотом по сердцу.
Ежась от холода, ночами кружил вокруг недавнего своего дома, смотрел на заветный дорогой огонек в окне, но не осмеливался зайти, обогреться возле этого огонька. А потом решился – мочи не было терпеть душевную муку, на которую сам обрек себя, и если не примут, то единственный выход – веревка да сук в парке. Он и веревку припас. Перебирая ее пальцами в кармане, думал: не примут, прогонят, то…
Но приняли. И простили.
Отец сдержал данное Шуре слово: без лекарств и больницы бросил пить. И тут выяснилось, сколько у него друзей-соблазнителей. Заметив отсутствие Инженера в пивной, в их дом началось паломничество и явных выпивох, и пьющих умеренно, и тех, для которых главное в компаниях – разговор. Приходили, ставили на стол бутылку, уговаривали «пропустить» рюмашечку. Но отец отворачивался и смотрел через окно на двор. Посетители вели себя по-разному. Одни выпивали принесенное, другие уносили бутылку с собой. В одном были едины: часами беседовали с отцом. Шуре, конечно, не нравились эти застольные посиделки, но с удивлением она поняла, что отец, оказывается, пользуется огромным уважением у людей, и потому перестала коситься на его приятелей. Он отрастил «калининскую» бородку клинышком и выглядел благообразно и смиренно. Одним давал советы, другим писал какие-то заявления, и проситель нередко выигрывал тяжбу. Был случай, когда Смирнов апелляцию от имени осужденного построил всего-навсего на фразе, произнесенной сторожем на очной ставке с вором: «Не знаю, он или нет. Вроде, похож, а, вроде, и нет…» И вора оправдали. А у отца с тех пор появилось еще одно прозвище – «Аблокат».
Шура была очень занята: десятый класс – не шутка. Да и от комсомольской работы никто не освобождал. Она по-прежнему возглавляла в комитете комсомола школы пионерский сектор и была отрядной вожатой, но на сей раз у младших ребят. Да и дома вся тяжелая работа лежала на ней, все так же была снабженцем. И это она заставила отца взять в кредит новую одежду. Вместе с родителями пошла в магазин, сама выбрала отцу костюм, зимнее полупальто, прозванное народом «москвичкой», шапку, рубашки, теплую обувь. И очень обрадовалась, что отец даже не заикнулся «обмыть» купленное.
На следующий день Николай Константинович, облачившись во все новое, прикрепив к пиджаку боевые награды, пошел к первому секретарю горкома партии Потокову. Он полагал наивно, что ему, фронтовику, коммунисту ленинского призыва, персональному пенсионеру, помогут с квартирой: дочь взрослая, а живут в коммуналке.
Потоков встретил его уважительно, распросил обо всем обстоятельно, подивился, что так долго заслуженный ветеран войны и партии, персональный пенсионер ожидает квартиру. Ветерану он, естественно, не сказал, что сам недавно из трехкомнатной квартиры переехал в четырехкомнатную.
– А кто ваша жена, Николай Константинович? – учтиво поинтересовался Потоков.
– Павла Федоровна Дружникова, но брак наш, правда, гражданский, я как-то не задумывался о разводе с женой, и ей, видимо, это не требуется тоже: у Павлы Федоровны муж погиб на фронте.
– Дружникова? – учтивость мигом исчезла с лица Потокова. – Ну-ну… Придется подождать, товарищ Смирнов, у нас, понимаете, плохо с жильем…
Когда Николай Константинович рассказал о своем визите к Потокову, Павла Федоровна усмехнулась: «Потому так долго и ждем квартиру, что я – Дружникова».
– Конфликт у тебя с ним был?
– Был… – вспомнилась и анонимка, и беседа «по душам» с Потоковым, и ее статьи, где критиковались работники горкома и сам Потоков. Она не стала говорить, как Потоков «воспитывал» ее относительно Смирнова.
Размеренный ритм жизни семьи был нарушен телеграммой: «Геннадию плохо. Выезжай». Как плохо? Почему? Но стандартный листок телеграммы не давал ответа.
– Ты поезжай, Поля, – сказал Николай Константинович. – И Шурочку возьми с собой, а то кабы худо тебе в дороге не стало, Шура поможет, если что, – потому он это предложил, что после получения телеграммы пришлось вызывать Павле Федоровне «скорую» – схватило сердце.
– Конечно, – согласилась и Шура. – Давай, мам, поедем вместе.
Мать не спала, ворочалась в постели ночью, не раз вставала курить. Смогла заснуть лишь после того, как выпила пару таблеток люминала. Ее нервозность слегка утихла, когда поезд тронулся с места. И все-таки она опять плохо спала, притихнув на своей полке. Шура, изредка просыпаясь от толчков поезда, тайком смотрела на мать, и всякий раз видела ее широко открытые глаза. Она о чем-то напряженно думала. О чем? Про то Шуре было неведомо.
А Павла Федоровна просто вспоминала свою жизнь, которая была похожа на неровную дорогу: то летела на пригорок, то срывалась в буерак, то прямая, то петлистая, как заячья тропа. Лежала и молилась:
– Господи, не наказывай меня за грехи мои через моих детей, не делай им плохо, накажи меня, но не бедами детей моих, – и ужасалась: – Неужели это все проклятие бабки действует? Неужели мои дети будут мучаться так же, как я? Господи, не дай этому проклятию сбыться!
Проклятие ли тому виной, или еще какая-то причина, но «агалаковской» ветви жилось, и впрямь, гораздо труднее, чем «ермолаевской». И особенно доставалось от судьбы Геннадию. С малолетства болел эпилепсией, чуть не угодил в тюрьму, женился – вскоре развелся: души не чаял в жене и сыне, да она к нему относилась иначе. Туда-сюда мотало Геннадия, пока не привела судьба в Альфинск. И что же там с ним случилось? Уж не Семен ли Дольцев, Лидин муж, сотворил неладное?
Семен терпеть не мог Геннадия, потому что как-то Геннадий вступился за сестру, но ему и самому пришлось защищаться от пьяного Семена, и он попавшим под руку ножом и ранил его в бок. Еле уговорила Лида обозленного Семена простить брата, даже согласилась вообще уехать из Тавды. Семен, казалось, простил Геннадия, но неприязнь осталась навсегда. Вот в то время и уехали Дольцевы в режимный город, а следом потянулась Зоя, потом – Роза. И Геннадий недавно туда же уехал. Зоя Егоровна выхлопотала для племянника комнату: к тому времени она работала уже в отделе кадров города, имела немалые связи – все документы проходили через ее руки, многие зависели от нее, потому и просьбы ее выполнялись безропотно.
Геннадию действительно было плохо. Он упал с трехметровой высоты строительных лесов.
Геннадий работал со своей бригадой на ремонте кинотеатра, и когда шел по лесам, плохо закрепленная доска соскользнула вниз под его ногой, следом и Геннадий рухнул прямо на гранитные ступени крыльца. Когда к нему подбежали встревоженные товарищи, он тихо стонал. У него, как выяснилось, были сломаны два ребра, позвоночник да было еще и сотрясение головного мозга. А часы между тем спокойно тикали на руке, видно, не пришло им время остановиться.
Десять дней Геннадий был на смертном рубеже, то впадая в забытье, то ненадолго приходя в сознание, впрочем, в такие минуты он все равно никого не узнавал. И хотя врачи делали все возможное, чтобы вывести Геннадия из комы, однако полагали, что пора вызывать родственников: Геннадий не выживет, так пусть хоть посмотрят на него живого.
Гена не пришел в себя даже тогда, когда Павла Федоровна перед его кроватью упала на колени, припав лицом к исхудалой сыновьей руке. Она проплакала перед его постелью всю ночь, бессильная что-либо сделать, ведь даже медики отреклись от ее сына. Его даже в отдельную палату перевели, чтобы не тревожил умирающий других больных.
Шура к брату пришла утром следующего дня и заодно принесла матери завтрак. Открыла дверь в палату в тот момент, когда Гена открыл глаза и четко произнес:
– Пигалица, ты почему не в школе? Десятый класс, а ты прогуливаешь, совести у тебя нет – мать расстраиваешь.
Если бы Шура знала, что брат придет в себя, увидев ее, она примчалась бы в больницу сразу же, как приехала. Но как знать, может, судьбе как раз и было угодно привести Шуру к брату в момент возвращения сознания?
Геннадий повел глазами, увидел мать, улыбнулся:
– Мама? Откуда ты? Где я? Что со мной?
Павла Федоровна не успела ответить: заглянувшая в палату медсестра тут же привела врачей, и через несколько минут у постели Геннадия собрался настоящий консилиум, засуетились медсестры со шприцами в руках. На Шуру все смотрели как на чудо.
Геннадий начал выздоравливать медленно и трудно, сознание больше не ускользало от него. Врачи потом говорили, что именно удивление Геннадия: сестра должна быть в школе, а появилась в дверях, оказало положительное действие на его организм и включило в действие все противоборствующие болезни силы.
Мать осталась в Альфинске, а Шура вернулась домой. Павла Федоровна приехала через месяц, похудевшая и ослабевшая, сразу постаревшая на несколько лет. Она до сих пор была бы с сыном, но врач, лечивший Геннадия, сказал, что если Павла Федоровна и дальше так будет себя изнурять, высиживая дни и ночи напролет у постели Геннадия, то скорее него сойдет в могилу. Но и вернувшись домой, она часто задумывалась и совсем не замечала необычной веселости Шуры, того, что у нее в руках все ладилось, она беспрестанно что-то напевала веселое, рисовала в альбоме или азартно вырезала забавных зверушек из тополевых чурок: хоть и решила твердо после школы поступать на факультет журналистики, но пристрастие к рисованию и резьбе по дереву осталось.
Секрет приподнятого настроения Шуры был прост: она влюбилась. Любовь пришла неожиданно к ней, но, можно сказать, по ее собственному желанию. Случилось это так.
Училась в их классе Маша Гроздикова. И вдруг начала прогуливать. И не просто, а в обществе известного в школе лоботряса-второгодника. По классу даже прошел гаденький слушок, что непросто так они дружат, а… Когда после недельного отсутствия Маша появилась в классе, то Шуре комсомольское бюро поручило провести с ней душеспасительную беседу, дескать, ты с пионерами возишься, подход к человеку знаешь.
Шуре было неудобно ввязываться в это дело, потому что считала: у каждого на плечах своя голова, и он сам должен понимать, когда плохо поступает, и если Гроздиковой нравится этот парень, то это – ее дело. Но Шура была дисциплинированной комсомолкой, потому после занятий как бы случайно вышла из школы вместе с Гроздиковой. Шли, разговаривая о пустяках, а потом Шура осмелилась спросить:
– Маш… А тебе что, на самом деле нравится Алешка?
– Мне? – беззаботно расхохоталась одноклассница. – Да ни чуточки. Я с ним просто так.
– Просто так? Ты с ним – просто так? Неужели ты можешь быть с парнем просто так? – изумилась Шура, подразумевая девичью честь.
– Глупая что ли я? – догадалась Маша, о чем ведет речь Дружникова. – Нет, до этого не дошло. Просто я с Лешкой хожу от злости.
Шура от удивления даже остановилась и воззрилась на Машу: как можно дружить с парнем от злости? А Маша продолжала исповедоваться:
– Знаешь, мне один мальчик из нашего класса нравится, а он и не смотрит на меня, вот я и разозлилась, думаю, начну с Лешкой ходить, пусть потом он локти кусает.
Шура тряхнула энергично головой, пытаясь привести мысли в порядок: новое дело – ей нравится другой, а она охмуряет Лешку. И кто же предмет ее любви? Интересно. Однако допытываться неудобно.
Маша оценила ее молчаливую деликатность и призналась сама, наверное, не могла уже сдерживать в себе эту тайну. Вот и сказала:
– Это Антон Букаров…
– Антошка? Да что ты в нем нашла? – изумилась еще больше Шура.
– Ой, Шурочка! – заблестели глаза у Маши. – Ты присмотрись к нему, он же лучше всех наших парней в классе, может, даже во всей школе! – и начала расписывать Антона в самых ярких красках, и Шура неожиданно для себя взглянула на Букарова глазами влюбленной Маши Гроздиковой.
На первый взгляд Букаров – такой же, как и все парни. Улыбочка ироничная на губах, одет не хуже и не лучше одноклассников – в школьную форму, отличаясь лишь тем, что вместо школьной короткой куртки носит пиджак со школьным шевроном на левом рукаве. Так же, как и все, ходил небрежно по школе, получая замечания от учителей, что руки держит в карманах. Красотой особенной тоже не отличался. Учился, правда, Букаров хорошо, без троек. Но была в Антоне какая-то внутренняя сила, которую почуяла Шура чутьем будущей женщины, что с таким человеком, как Антон, будет надежно в жизни: не предаст, в беде не бросит.
Поглядывала Шура на Букарова, поглядывала, и неожиданное незнакомое тепло поселилось в ее сердце, от которого сердце сладко ныло и трепетало. А когда на школьном вечере Антон пригласил на танец девушку из параллельного класса, ее сердце на миг остановилось, лицо опалило жаром, и захотелось заплакать от обиды, она вдруг поняла, что любит Антона. Первой пылкой девичьей любовью. Но Шура, по натуре очень сдержанная, стеснительная, ни за что на свете не хотела показать Антону свою любовь: она считала, что первый шаг в таком случае должен сделать парень.
Антон, конечно, ни о чем не догадывался. Однако любовь – что птица, не желает быть в клетке, вырвалась однажды и Шурина любовь из плена, узнал о ней Антон спустя годы, но было уже поздно: разъехались Шура и Антон по разным городам, закружил их водоворот общения с другими людьми. Однако Антон, улыбчивый и ласковый, приходил к Шуре во сне, и ничего не могла Шура поделать со своим сердцем, оно долгие годы замирало в груди при мысли об Антоне…
«Ах, любовь, птица белая, птица белая в синеве…»
Шура в семье была не только распорядителем бюджета, но и снабженцем, строителем, ремонтником. И по любому делу Павла Федоровна обращалась только к дочери, поскольку с мужа спрос маленький – неумеха он. И вот как-то мать посетовала, что нет у них огорода, а то хоть лучок зеленый был бы не с рынка.
– Так давай посадим, – предложила Шура.
– Где? Негде ведь, – развела руками мать. Когда-то Дружниковы имели огород за лесокомбинатовской «железкой» возле торговой базы, но, когда база расширялась, то все огороды ликвидировали.
– А за нашими сараями вон какой огородище, – возразила Шура.
– Да ведь не наш, – вздохнула мать, потому что в их доме из двенадцати семей имели огород только двое старожилов – Карякины да Забеловы, которые поселились в доме первыми, жили в нем и до сих пор, припахивая к своему клину землю выехавших из дома. Новоселы, конечно, ничего не знали об этом.
– Ну, так надо поделить землю поровну, пусть у всех будет, – пожала Шура плечами. – О чем раньше думали?
– Да разве эти куркули уступят? Одна Карякина-старуха всех перекричит.
Шура ничего не ответила. Но в первое же воскресенье отобрала из штабеля дров подходящие бревнышки на столбики, доски на перекладины, рейки для загородки, взяла лопату и пошла за сараи. Она успела вкопать несколько столбов, когда в доме среди «куркулей» началась паника, и к Павле Федоровне подступила, размахивая палкой, полуслепая старуха Карякина.
– Это чо такое деется? – пронзительно кричала она. – А? Вырастила фулюганку, самовольничат на огороде, а ты, мать ейная, ей потворствуешь?
Павла Федоровна поспешила за сараи, где Шура молча отаптывала очередной вкопанный столбик, а вокруг бесновалась сноха Карякиных, дородная баба, толще Шуры раза в три. Другие «куркули» – Забеловы – не вмешивались, так как «агрессорша» захватывала не их землю. Молчали и «безземельные», наблюдая за действиями Шуры.
– Да я тя палкой сейчас! – завопила старуха Карякина, притрусившая следом за Павлой Федоровной, и замахнулась на Шуру.
– Попробуй только! – заругался подоспевший на шум Смирнов. Голос грамотея-«аблоката» заставил Карякину замолчать и отойти в сторону. А Шура спокойно сказала, прибивая первую перекладину:
– Я отгородила двенадцатую часть, столько в нашем доме квартир, можете проверить, а огород не только вам одним нужен.
– А ведь и правда, бабы, – спохватилась одна из «безземельных». – Шурка-то права, чем хуже мы Забеловых да Карякиных? Айдате делить огород!