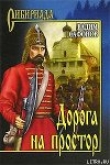Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 43 (всего у книги 64 страниц)
Шура смотрела в темноту, видела свое нахмуренное лицо в иллюминаторе. Мысли мчались впереди самолета. Что случилось, отчего умер отец? Почему телеграмму подписала Лида, где мама?
Через два с половиной часа самолет приземлился в Свердловском аэропорту «Кольцово».
Уже наступил рассвет, и за окнами автобуса назад убегали золотистые стволы сосен. Шуре всегда нравилось смотреть на лес, он всегда такой разный, не то, что степная полоса. Но сегодня Шура смотрела на лес равнодушно, занятая одним: что случилось дома?
Было шесть часов утра, когда она прибыла на железнодорожный вокзал. Шура поежилась: прохладно, октябрь, в Тавде, может, уже и снег выпал. А в Куйбышеве вчера было тепло и сухо. Там – светло, тепло, радостно, здесь – холодно и горестно.
До поезда в Тавду было более полусуток, прибудет она домой только завтра. Сердце же рвалось туда немедленно. Шура смотрела на расписание и соображала, как быть. Беда звала вперед, а приходилось ждать. «Поеду в Уктус, – решила, наконец, Шура, – может, улечу домой, сегодня же буду в Тавде».
Шуре опять повезло. Без всяких проволочек в аэропорту «Уктус» купила билет на маленький самолетик, «аннушку». В салоне опять выбрала место у окна. Смотрела вниз на проплывающие медленно гаревые пятна, иногда среди темной зелени сосен светились желтые и алые пятна берез и осин. Раньше она смотрела бы на это великолепие с удовольствием, а сейчас не видела ничего. Вперед, вперед!
Через шесть часов вылета из Куйбышева Шура подходила к своему дому. У дверей квартиры постояла немного, собираясь с духом, потом легонько тронула кнопку звонка, забыв, что в сумочке есть ключ: она никогда не уезжала из дома без квартирных ключей. Для нее ключ от дома был своеобразным талисманом, залогом благополучного возвращения.
За дверью робко тренькнуло. Но никто не открыл дверь. Тогда она утопила пальцем кнопку звонка в гнезде и не отпускала ее до тех пора, пока сквозь трезвон не услышала:
– Шура, там никого нет, – сверху спускалась соседка-старушка, приятельница матери, – вот ключи. Ты заходи, я сейчас приду. Там у меня молоко на плите.
Шура вошла в квартиру. Осмотрела. Дверь в ее комнату была по-прежнему заперта, но у замка виднелись следы попыток открыть ее чем-то острым. В комнате родителей все разгромлено и разбросано. Старенький приемник «Москвич» валялся у стены, его пластмассовый корпус разбит, в углу – осколки стеклянной цветочной вазы, постель скомкана, у одного из стульев сломана ножка, стол опрокинут. На кухне в мойке – гора немытой посуды, на столе – пустые бутылки, грязные стаканы, в пепельнице – ежик из окурков. Шура смотрела на эти окурки и зачем-то начала их считать:
– Раз, два… пятнадцать… двадцать пять…
Пусто. Грязно. Где мама? Что с отцом? А если мама не приедет? Что делать? И Шура, присев на стул посреди кухни, заплакала навзрыд. Все, что скопилось в ней за последние часы, когда она была среди людей и не могла давать волю слезам, вырвалось наружу.
В дверь позвонили. Это пришла соседка.
– Что случилось, Анна Игнатьевна?
– Николая Константиновича позавчера вынули из петли. Мертвого.
–..? – глаза Шуры стали огромными, в них застыл вопрос: «Что случилось?!»
– Мертвого, да, – продолжала соседка. – У него перед этим ночью, соседка сверху рассказывала, был какой-то шум, видимо, в дверь твоей комнаты ломились. Утром он вышел на улицу. Постоял на крыльце, посмотрел на небо, на все вокруг. Внимательно так посмотрел, я с балкона его увидела, и мне почему-то подумалось: «Надо же, как смотрит странно, словно прощается». Разве я знала, что и в самом деле так? Потом зашел в подъезд. А вечером я спускаюсь вниз, смотрю, а дверь приоткрыта. Дай, думаю, позову, дома ли Николай Константинович, а то надо бы дверь захлопнуть. Позвала, а он не откликается. Я и зашла в квартиру: что-то тревожно стало. Вхожу в коридорчик, а из ванной ноги торчат. Испугалась я, бросилась звонить в «скорую», в милицию. Его сняли. Сказали, что уже около двенадцати часов висел. У меня от сердца отлегло, я ведь поначалу-то думала, что это я виновата, бросилась всем звонить, а надо было прежде петлю обрезать, да попытаться привести в чувство, вдруг еще ожил бы…
– Где он сейчас?
– В катаверной.
– Кому вы сообщили об этом из наших? – Шура спрашивала резко, вопросы ее были похожи на выстрелы, и Анна Игнатьевна отвечала так же точно и конкретно.
– Я нашла на столе бумажку, где были записаны все адреса – Виктора, Лиды, Гены. Дала телеграмму Лиде и Геннадию, Виктора тоже оповестила.
Шура понятливо кивнула: мать, уезжая, прикнопила к стене адреса всей родни, словно чувствовала, что понадобятся. Она сдержанно поблагодарила соседку:
– Спасибо вам, Анна Игнатьевна. Скажите, сколько заплатили, я отдам.
Соседка протестующе замахала руками, дескать, что ты такое говоришь, в горе всегда надо помогать друг другу.
– Может, есть хочешь? Пойдем ко мне, – предложила старушка. – Страшно тут.
– Нет, спасибо, – поблагодарила Шура соседку. Ей вновь надо было остаться одной, чтобы переварить жуткую информацию. Она подняла стол в комнате, стулья, села, случайно взглянула на зеркало, висевшее на стене, и увидела себя там – осунувшееся лицо, запавшие глаза, припухший нос. Шура решила в ванной умыться, но резко развернулась к кухне: зайти сейчас в ванную, когда в квартире пустынно, шаги гулким эхом отдаются среди стен – свыше сил.
Шура умылась, вытерлась чистым полотенцем, взятым в шкафу в своей комнате, где было заперто перед отъездом все самое ценное, и села на свою кровать, положив голову на стиснутые кулаки, упершись локтями в колени. Стала размышлять, что делать. Шура всегда размышляла, прежде чем принять решение.
Она в доме одна – это раз, денег едва хватит на обратную дорогу – это два, где мама, она пока не знает – это три, если придется самой хоронить отца, то, где взять деньги, тоже не знает – это четыре. Четыре почти неразрешимые проблемы, если учесть ее возраст и полное безденежье.
Однако из любого положения всегда можно найти выход, в это Шура верила твердо, и сперва подсчитала свои денежные ресурсы. Потом собралась пойти на почту и вновь направить всем родным телеграммы: тело отца лежит в морге, значит, есть время все организовать. А потом подумать, где занять деньги на похороны. Но не успела Шура выйти из квартиры, как в замке заворочался ключ, и на пороге появились Павла Федоровна и Геннадий с Полиной, своей новой женой. Шура бросилась на шею матери, обе заплакали. Шура с душевным облегчением – теперь не одна, Павла Федоровна с горечью оттого, что осталась вновь одна, от чувства вины перед Смирновым, с которым прожила восемнадцать лет, и уехала по настоянию детей, хотя и чуяло сердце беду, даже прощальные слова его не остановили ее, и вот – беда.
Похороны были более чем скромные: простой некрашеный, обитый внутри белым материалом гроб, пара венков. Правда, отцу теперь было все равно, где лежать, его лицо было спокойно, губы чуть-чуть раздвинуты в улыбке, и эту странность подметила служащая катаверной – так называли в Тавде морг, – которая обряжала Николая Константиновича в последний его путь по земле.
– Странно, повесился, а губы – розовые, – сказала она Геннадию и Шуре, которые привезли новую чистую одежду для покойного. Старушка не позволила им помогать – не положено, а вот положить тело в гроб одна не могла, потому Геннадий вместе с ней взялся за плечи, а Шура – за ноги, похожие на весенние сосульки, такие же холодные и влажные. И Шуру сразу же охватил с ног до головы жуткий холод, словно не в гроб укладывали они отца, словно там, внизу под белой простыней была пропасть, и падая туда, отец, потянет за собой и Шуру, и девушка в паническом страхе выронила ноги отца, которые с глухим стуком ударились о днище своего последнего деревянного неказистого пристанища. Брат понял ее состояние, подошел, обнял за плечи и крепко прижал ее голову к груди:
– Пигалица, если хочется поплакать – поплачь, не держи слезы в себе, не то душу спалишь…
«Душу спалишь…» – эти слова брата часто всплывали потом из памяти Шуры, когда приходила к ней беда, и слезы безуспешно рвались наружу сквозь сухой блеск глаз, но Шура вспоминала эти слова, они были своеобразным паролем, и тогда слезы орошали благодатным ливнем ее душу.
Погода в день похорон была слякотная, заполнявшая душу тоской. Сеял мелкий дождик, затянутое темными тучами небо низко висело над головой, потому проводить Смирнова в последний путь пришли несколько стариков-коммунистов из партийной организации городских пенсионеров. Память о том дне, убогих похоронах отца занозой засела в сердце Шуры. Занозу можно и вытащить, да ведь сердце – не палец…
Опять не обошлось без Изгомовой, которая имела, несмотря на репутацию пьяницы и сплетницы, обширные связи, потому что сводничала, предоставляя свой дом для свиданий. Она достала на базе дешевую водку и продукты на поминки, она же помогла выхлопотать место на старом кладбище: новое было неуютное, пустынное, потому многие стремились своих родных похоронить на старом, которое было в сосновом бору. Отцу досталось красивое место – под густой развесистой березой, соседкой ее была старая высоченная сосна.
Тело умершего не стали брать в дом из морга, как принято, на последнюю ночь. Воспротивилась тому Шура. Обычай обычаем, а страшно, ведь отец умер необычно. Геннадий согласился с ней: ему было все равно, так даже меньше хлопот.
Павла Федоровна не посмела спорить с детьми: теперь она, старый больной человек, всецело зависела от них. Ей хотелось посидеть у гроба, поговорить с мертвым, попенять ему, что ушел из жизни так нелепо, навесив позор на всю семью и себя, ведь в старое время, рассказывала Ефимовна, самоубийц даже не разрешалось хоронить на общем погосте, отводили место за церковной оградой. Ей хотелось вспомнить у гроба с Николаем Константиновичем совместные их горести и радости, хотелось просто по-бабьи повыть в голос над мужем… Дети не понимали ее, Павла Федоровна ощущала это всем своим чутким сердцем, не понимали ее привязанности к Смирнову. У них свои заботы, свои хлопоты, всяк при месте, вот и Шура почти самостоятельный человек.
Когда Геннадий с женой Полиной и Шура легли спать, Павла Федоровна оделась и вышла на крыльцо, посмотрела на темное, затянутое тучами небо. Вот и Николай также смотрел на небо перед смертью, что видел он там? О чем думал? Может быть, мысленно посылал ей последний привет или отчаянный зов, чтобы вернулась она домой, помогла ему? Как же тяжко было у него, видимо, на душе, если решился на такой шаг! Впрочем, сам ли он это сделал, ведь был кто-то в квартире в ночь его смерти, кто-то же бился в комнату Шуры, учинил разгром в квартире? Но судмедэксперт Ильинская сказала, что в петле Николай Константинович оказался без постороннего вмешательства.
– Ой ли? – усомнилась в ее словах Павла Федоровна.
– Павла, – они с Ильинской давно знали друг друга, – а если и не так? Тебе от этого легче станет? Детям твоим? Но ведь это – твои дети, а не его. Ну, заведу дело, а ты что делать будешь? Оно завершится нескоро, а тебе одной жить трудно, Александра уедет, что делать будешь? Или девчонку из-за расследования рядом с собой держать будешь? Ей же доучиться надо, не дергай ее. Впрочем, как знаешь, а я все равно и новый акт напишу о самоубийстве, так и знай, – Ильинская заявила это жестко и твердо. Характер у нее тоже был такой же твердый, потому Павла Федоровна была уверена: Ильинская сделает так, как сказала, и решила оставить все, как есть. А она – опять одна, хоть и родни много, и дети есть.
Дети… Дети не знали, что ей привелось испытать при вдовьей доле. Известное дело: тяжела жизнь в поле без огорожи, вокруг ветра вьются, а на вдову да на сироту все помои льются. И вот появился человек, стал родным и близким. Худым «забором» он был, а все же меньше ветра дуло в лицо, при нем она была хозяйкой в доме, где были установленные ими порядки. У детей ее не обижали, но их дом не был ее домом, там – свои законы. Кое-что ей не нравилось, но в чужой монастырь не следует лезть со своим уставом, она и не лезла. Зато дети, едва она осталась одна, стали командовать. Вон у Шуры взгляд стал особый, хозяйский. Павла Федоровна не вспомнила, что взгляд такой у младшей дочери уже давно.
«Что же ты, Коленька, сам ушел, а меня оставил одну горе мыкать?» – и пришла на ум фраза, не раз слышанная от Смирнова: – «На простом шнуре от чемодана кончилась твоя шальная жизнь…» Любил муж Есенина и по его дороге из жизни ушел… И Павла Федоровна заплакала горько и безутешно, беззвучно, чтобы не потревожить рыданиями спящих детей: старая больная женщина, теперь она всецело зависела от них.
На следующий день после похорон, сходив по обычаю на кладбище, посидев там с полчаса, Павла Федоровна, Шура и Геннадий с женой уехали из Тавды. Решено было, что пока Шура учится – осталось всего полгода – Павла Федоровна поживет у детей в Альфинске.
– Извини, Шурочка, денег я тебе высылать не смогу, – сказала дочери Павла Федоровна, – не хочу, чтобы меня, как бабушку, попрекали куском хлеба. А своя копейка – не рубль, да своя. Нам с тобой теперь надо всем кланяться по нашей сиротской доле и слушаться каждого слова, – горечь была в ее словах: не дали даже дождаться сороковин, чтобы вновь сходить на могилу мужа, помянуть его.
Шура фыркнула:
– Нет уж! Доброе слово можно и послушать, и поклониться можно из уважения. А по-другому – нет!
– Эх, доченька, не знаешь ты, что клюют все сороки да вороны, когда нет обороны. А у нас ее теперь нет.
– Ай, мама, отец был невеликой обороной, всю жизнь ты его на себе тащила да защищала. Кстати, как там Лида, не обижает тебя?
Сестра не приехала на похороны, однако, прислала для облачения покойного почти новый костюм Семена, туфли, новую рубашку, нижнее белье. Лида сердилась на Смирнова, но сердце у нее было доброе, отходчивое, потому она все же приняла участие в похоронах, но по-своему. Вот старший брат Виктор вообще никак не откликнулся на телеграмму, позднее на вопрос, почему, ответил кратко: «Денег не было ехать». Финансовые затруднения братьев никогда не удивляли Шуру: оба брата, к ее глубокому сожалению, были пьющими.
– Ничего, хорошо относится, – ответила Шуре мать. – Семен матерью зовет, не обижает. И ребятишки слушаются. Валерик – отличный паренек растет, справедливый, душевный, вот уж кому наша родовая честность да прямолинейность передалась. Надюшка – хитрая, а вот младших пока не поймешь, малыши еще, – и попросила. – Не пиши больше Лиде таких задиристых писем, сестра же она тебе, пожалеть ее надо, и ей несладко в жизни пришлось.
– Она тебя жалела? – встопорщилась Шура.
– Ну не жалеть, так понять надо. Всю жизнь рядом не с тем, с кем хотела. Не руби с плеча. Будь доброй. Добро добро и рождает, хоть и не очень доброта людская нынче в чести, а зло по-прежнему порождает одно зло. Ты это помни, доченька. Злая душа – темная душа, нет ей покоя ни от богатства, ни от удачи, грызет ее злоба, пока не сгрызет окончательно…
Шура эти материнские слова запомнила навсегда, потому никогда ни при каких обстоятельствах не пускала зло в душу, старалась не обижать других людей ни словом, ни делом. Она научилась прощать, часто первой шла после ссоры на примирение. Но если обида была велика, и Шура не могла просто взять и простить человека, ведь и у нее, как у всех, тоже было самолюбие, она переставала с ним общаться, но никогда не мстила. И в этом была ее сила. Но иные считали это слабостью.
В общежитии Шуру ожидал перевод. Бланк был заполнен рукой отца, дата отправления – канун его смерти. Выходит, отец не забыл о ней, даже уже решившись умереть… И от этого заноза заставила Шурино сердце ныть еще сильнее.
Присланные отцом деньги оказались последней помощью со стороны. Отныне Шура сама должна была думать о том, как заработать деньги, чтобы завершить учебу. И потому, приехав на дипломную практику в Минск на комбинат имени Якуба Колоса, она сразу же узнала в отделе кадров, можно ли устроиться на работу помимо практики. И два месяца она в первую смену была в наборном цехе, а во вторую работала в переплетном. Когда вернулась в техникум, Дмитриев предложил поработать лаборантом в кабинете дипломного проектирования. Эта работа помогла ей отлично подготовиться к защите дипломного проекта, ведь любой справочник, лучший арифмометр под рукой. Другие по ночам корпели над своими проектами, Шура же без особых волнений делала это днем, ну а вечерами своими песнями по-прежнему «отрабатывала» место в общежитии. Пела сначала чужие песни, а потом неожиданно появились и свои. Шурины песни тут же подхватили в общежитии, их можно было услышать в комнатах, на скамье под окнами общежития, где коротали вечера парни из соседнего корпуса.
Шура на защиту диплома шла уверенно, единственное, что беспокоило – защищалась первой, а первый блин, как говорится, всегда комом. Но ее «блин» вышел не комом. Сердце отчаянно колотилось в груди, когда она предстала перед комиссией, но за столом сидели такие знакомые люди, ее преподаватели, лишь один – главный инженер из Куйбышевского полиграфкомбината, и Шура тотчас успокоилась, четко и твердо изложила свою докладную записку, не заглядывая даже в конспект, обосновала все подготовленные схемы и чертежи. В середине ее защиты комиссия расслабилась: Дружникова – лучшая студентка, у нее ошибок быть не должно, потому можно и пошептаться. Шура сначала была слегка шокирована таким отношением, но не позволила себе обидеться и расстроиться, так же четко, как начала, завершила доклад. Но едва справилась с волнением, даже привалилась к стене – до того ноги ослабли, когда объявили результат защиты:
– Дружникова – пять, Вишнякова – пять, Картушева – пять…
Девчонки бросились обнимать и целовать друг друга, их поздравляли сокурсницы, однако же смотрели с завистью: им еще предстояла защита, а у первых все уже позади. Подошел поздравить и Артем Лебедь, он учился в пятой группе – единственный парень на их курсе, потому что двоих из Шуриной группы забрали служить в армию: студенты дневных отделений техникумов в то время не имели льготных отсрочек от призыва. Лебедь неловко обнял девушку, шепнул на ухо: «Поздравляю», – и тут же отошел. Шура словно окоченела – вбитые Павлой Федоровной ей в голову правила общения с молодыми людьми, не дали показать Лебедю, что он ей нравится. Не раз она думала, что, может быть, как раз Артем – ее судьба, ведь не зря же они родились в один день, только Лебедь был старше на два года. Эта ее скованность в общении с мужчинами сопровождала Шуру всю жизнь, и лишь на склоне лет, как ей показалось, поняла, почему так получалось – кого любила она, тот не обращал внимания на нее, а кто любил ее, тот не нравился ей. Лебедю она тоже нравилась, Шура чувствовала это, но не сделала первый шаг навстречу потому, что случайно услышала, как групповая ехидна Ольга Карпухина рассказала, что Лебедь и Таня Салышева из их группы «крутили любовь» на практике в Москве. Воображение рисовало в голове Шуры моменты встреч Лебедя и Салышевой, и тогда шальная кровь предков вскипала в жилах Шуры. Но она не знала, что Карпухина все сочинила, потому что сама пыталась «закрутить любовь» с Лебедем, но тот проигнорировал ее знаки внимания. Не знала и того, что имя Татьяна еще раз принесет ей беду.
Из техникума Шура сразу же помчалась на почту и отправила матери телеграмму, что защита прошла отлично. К вечеру Павла Федоровна получила известие. Курьер-девушка, которая принесла телеграмму, улыбнулась и поздравила Павлу Федоровну с прекрасной новостью. Стандартный бланк задрожал в руке, и Павла Федоровна едва успела присесть на стул, иначе упала бы без чувств посреди комнаты: «Вот и Шура почти встала на ноги, замуж бы вот вышла удачно…»
Павла Федоровна опять жила в Тавде. Она часто болела, но наотрез отказалась жить у старших детей. Они, конечно, относились к ней с уважением, однако чувствовала там себя Павла Федоровна неуютно, ходила с оглядкой, чтобы лишний раз не кашлянуть, лишний кусок не съесть. Павла Федоровна вдруг осознала, что дети не просто ее не понимают, они – почти чужие друг другу, потому что давно живут отдельно, далеко друг от друга, общаясь лишь изредка. У них свои интересы, свой круг знакомств, заботы о своих семьях, а мать для них уже просто гостья. И зять, и снохи называли ее «мама», и все-таки не понимали они ее увлечения стихами, почему вдруг задумывалась, отрешенно уставившись в одну точку. А Павла Федоровна просто скучала по своей квартире, по своей старой скрипучей кровати, вещам, которые, хоть и не такие современные, как в квартирах детей, пусть похуже, но принадлежали ей, обихожены ее руками. Теперь она поняла Ефимовну, не имевшую своего угла, где могла вести себя по-хозяйски, лишь при Ермолаеве и похозяйничала, а то все жила с детьми да внуками, вот почему она так тосковала. Словом, Павла Федоровна решила, что хорошо в гостях, а дома – лучше. Потому и уехала из Альфинска.
Шура, конечно, могла только догадываться о настроении матери, но поняла: быть рядом с матерью – это ее крест, и нести его суждено до самой смерти матери. Шура даже представить себе не могла, что сможет бросить мать, оставить ее одну, значит, нужно распределиться так, чтобы на новом месте была квартира, куда можно было бы забрать мать. И у Шуры даже мысли не возникло «сбагрить» ее старшим братьям или сестре, она понимала, что матери с ними будет трудно, не потому, что в чем-то ее не поймут, а потому, что к старости характер матери стал задиристым. Она по-прежнему была терпеливой и не скандальной, но стала более душевно ранимой, потому эмоции все чаще прорывались наружу, особенно, если мать чувствовала себя обиженной, а это могло не понравиться родне. И словно кто-то проник в ее мысли, понял ее желание: в списке распределений на работу молодых специалистов оказалась такое место, где была и квартира – Усть-Кут, город на реке Лене, возле которого должна была пройти северная ветка Байкало-Амурской магистрали, БАМ.
Через неделю после защиты диплома Шура ехала домой в знакомом «сто пятом» поезде. Конечно, самолетом быстрее, да хотелось проехаться по знакомым местам, привести в порядок свои мысли. Стучали неторопливо колеса, так же неторопливо текли мысли. Шура думала о прошедшей учебе, о новой работе, которой пока не знала, представляла, как ее встретят.
А работать предстояло в Свердловске. И вышло все быстро, неожиданно, ведь она ехать туда не собиралась, среди направлений на работу Свердловск не значился. Но на последнем, окончательном распределении, директор техникума, улыбаясь, произнес:
– Дружникова у нас, конечно, в Усть-Кут едет Сибирь покорять, как Ермак.
Да, Шура собиралась ехать именно туда – в далекий сибирский городок, но сердце грело единственное обстоятельство, что молодой специалист сразу же обеспечивался квартирой. На Усть-Кут никто не зарился не столько из отдаленности от центра России, сколько потому, что Шура имела самый высокий оценочный рейтинг, потому и на распределении была, как и на защите диплома, тоже первой.
Шура спокойно ответила Кузьмину:
– Конечно, именно в Усть-Кут.
– Да это же даль такая, от Урала – тысячи километров, настоящая Тьму-таракань, – директор улыбался загадочно.
Шура пожала плечами, мол, зачем глупости говорить, ну и что, если далеко?
– Не намного дальше, чем Куйбышев от Свердловска.
– Ну, а на Урал хочется?
– Хочется, да ведь некуда.
– А Челябинск, Пермь, Оренбург?
Шура начала сердиться: эти города значились в списке, но не интересовали ее именно из-за отсутствия жилплощади. И она отрицательно покачала головой, дескать, не подходит.
– А Свердловск?
– Да ведь нет заявки из Свердловска! – потеряла Шура терпение: и чего директор нервы ее теребит?
– А если была, то поехала бы? Ну, пять секунд на размышление для ответа, – выдал Кузьмин свою коронную фразу.
Шура поняла, что директор неспроста ее «пытает», осторожно высказалась:
– Не знаю, если была бы заявка, может, и поехала бы…
– Ага! – Кузьмин торжествующе улыбнулся, открыл ящик своего стола и протянул Шуре заявку одного из полиграфических комбинатов Свердловска, пояснил: – Это, так сказать, формальная заявка, на самом деле предстоит работать в отделе нормирования, который хоть и числится на предприятии, но находится в областном управлении полиграфии. Должность – инженерная, по правилам полагается направить туда экономиста, поскольку придется заниматься нормированием, а ты – технолог, но я вспомнил, что ты из Свердловской области и, может быть, захочешь работать поближе к дому. Ну, как? Едешь? Пять секунд на размышление!
Какие пять секунд?! Уже на первой вырвалось:
– Еду! – и запоздалый вопрос. – А как с жильем?
– Общежитие, – и директор вписал ее имя в направление на работу.
– А! – Шура бесшабашно махнула рукой. Судьба в очередной раз поставила перед ней проблему: «или – или», но Шура тогда не задумывалась, насколько изменилась бы ее жизнь, поступи она иначе. На сей раз она решила именно так. – Думаю, что найдется выход. Еду!
И вот едет.
Мать, конечно, обрадуется ее назначению. Она думала, что Шура поедет в Усть-Кут, и была недовольна решением дочери, потому что не хотела бросать квартиру, к которой успела привыкнуть, будто всю жизнь жила в ней. Да и могилу Николая Константиновича требовалось обихаживать. Но Шура была непреклонна, сердито сказала по телефону, что хочет она того или нет, а Павле Федоровне придется уехать с Шурой, ну разве что пусть пока не выписываться из своей квартиры, мало ли что в их жизни произойдет. Павлу Федоровну Шура не видела с тех пор, как рассталась с ней на вокзале в Свердловске, а преддипломную практику Шура, вопреки просьбе матери, проходила в Минске, решив, что ей будет полезно побывать на большом полиграфическом предприятии.
Минск… Город-красавец, который понравился Шуре с первого взгляда. И не верилось совсем, что город был сильно разрушен в войну. Но не это поразило Шуру, ведь ей не доводилось видеть разрушенные города, поразило то, что в новогоднюю ночь шел дождь. Это уж потом начали говорить о «парниковом эффекте» от множества предприятий, заполонивших землю, от миллионов автомашин, снующих по дорогам, щедро выбрасывающих выхлопные газы. А тогда она знала одно: Новый год – это зима, это снег. Так было на Урале, так было в Куйбышеве. Но больше всего Шура жалела, что не могла бродить по Минску, сколько ей хотелось: в первую смену она числилась студенткой-практиканткой в наборном цехе, а во вторую – рабочей в переплетном. Потому Шура уезжала на полиграфкомбинат рано утром и возвращалась затемно.
Малое знакомство с городом скрашивали встречи с Ларисой Нелюбиной, подругой по «Орленку», да долгие раговоры-воспоминания с Александрой Михайловной Константиново.
Александра Михайловна преподавала литературу в Шурином классе с пятого по восьмой класс, потом уехала к сыну в Минск, и Шура, оказавшись там, не могла не навестить ее, и тем разрешила квартирный вопрос, потому что Александра Михайловна предложила ей пожить у нее. Шура с радостью согласилась, и два месяца они не могли наговориться: обе тосковали по своему городу, скучали по тавдинским друзьям. Александра Михайловна заботилась о ней по-матерински. К шести часам, когда Шура просыпалась, всегда был готов завтрак. И спать Александра Михайловна не ложилась до тех пор, пока девушка не возвращалась с работы в полночь. Вообще Шуре всегда везло на встречи с хорошими людьми, словно про нее сказал Сергей Островой: «Мне тоже везло понемногу, без хитрых прикрас, без затей, везло на любовь, на дорогу, везло на хороших людей…» – и в том было ее счастье и удача, словно кто-то, одобряя ее стремление не пускать в душу зло, помогал поменьше с ним встречаться, не давал пересекать ее путь злым людям. Конечно, такие встречались, и не раз, но добрых и порядочных людей в окружении Шуры всегда было больше. Жаль только, что судьба отвела ее путь в сторону от дороги Антона Букарова.
А ведь могла она распределиться и в Карелию. Туда направлялся единственный парень на всем их девчоночьем факультете технологов с очень красивой фамилией – Лебедь. Он зашел как-то в кабинет дипломного проектирования и полушутя-полусерьезно предложил:
– А что, Аля, – он всегда так обращался к Дружниковой, – поехали со мной в Лоухи, в Карелию. Я – директором, ты – технологом, там, говорят, места очень красивые…
– Ха! Вот еще! В Лоухи едут только лопухи, – неожиданно сорвалось с языка, и Шура тут же покраснела: парень ей нравился, чувствовалась в нем надежность. Но нравился Артем Лебедь не только ей, многие девчонки на факультете строили ему глазки, однако Лебедь ни с кем в техникуме не дружил, тая, видимо, свои симпатии в душе. Даже на преддипломной практике никому не отдавал предпочтения, а уж на практике студенты, вдали от строгих кураторских глаз преподавателей, всегда вели себя вольно.
– Ну, не хочешь – не надо! – парень стал серьезным. Даже слишком серьезным. Встал и молча вышел из кабинета.
Шура застыла на месте: парень почти в любви признался, позвал за собой, а она так глупо ему ответила. Девушка вздохнула печально: как узнаешь, кто суженый, он или не он, слишком поучительна судьба матери…
Месяц отпуска пролетел незаметно, как один день. Мать наглядеться на нее не могла, хлопотала на кухне, стараясь изо всех сил угодить, так она была рада, что не уезжает Шура далеко, а будет работать почти рядом – в Свердловске.
Шура весь месяц навещала школьных подруг, побывала в библиотеке, где прежде работала – с библиотекарем Валей Кобер ее связывала доверительная дружба. У Вали было больное сердце, она не раз лежала в кардиологии, и Шура, приезжая в Тавду всегда навещала Валю, даже если она лежала в больнице. Заскочила и в типографию. Проходя мимо Стаса Нетина, лукаво подмигнула, парень покраснел до самых ушей и молча ушел в ремонтную мастерскую. Что-то теплое ворохнулось в душе Шуры от его смущения, но девушка не пошла следом за ним, не зацепила его словом, как сделала бы это полгода назад, потому что ей предстояло уехать, и она не хотела зря терзать сердце парня. Неожиданно встретила Касима. Тот по-прежнему возил полковника, командира местной воинской части, по-прежнему остался в машине, когда полковник исчез в подъезде. Шуре стало смешно: Касима полковник вымуштровал знатно, парень боится выйти из машины, чтобы ноги размять. К солдату-таджику Шура никаких чувств не испытывала, но молодость брала свое, порой заставляла бесшабашно поступать. Она, прихватив хозяйственную сумку, словно в магазин собралась, выскочила на крыльцо, изображая человека, спешащего по делам. Касим округлил глаза и распахнул дверцу машины так стремительно, что та чуть с петель не сорвалась.