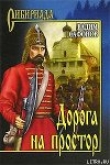Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 64 страниц)
Егор дымил самокруткой, прикидывая в уме, как поступить. И все выходило так, как Матвеич сказал: угла у него нет своего, а девочка не может жить, где попало, и работы пока нет, а кроху не посадишь на хлеб да воду, да ведь и хлеб тоже надо заработать. Поднял Егор тяжелую от дум голову, а ему – глаза в глаза – боль стариковская, смятение, ожидание и надежда… Оглянулся Егор на дверь, куда Мироновна ушла с Варенькой, и сердце заныло: женщина смотрела на него такими ждущими и просящими глазами, что Егора бросило в жар. Он видел такие же глаза у солдат, которые умирали у него на руках – в них читалось понимание, что пришел смертный час, но и светилась надежда, что жизнь пересилит «старуху с косой».
Егор набрал полную грудь воздуха, вздохнул тяжко и протяжно:
– Ладно, будь по-вашему, Матвеич. У вас ей хорошо, а я сам пока не у дел. Подрастёт, может, и скажусь отцом… – голос его предательски задрожал. – Жизнь-то длинная, вы правы: всяко может случиться.
– Спасибо тебе, Егорушка, спасибо, голубчик… – теплые шершавые руки прикоснулись к щеках Егора, и ему захотелось уткнуться в грудь Мироновны, как когда-то он прятал лицо на груди матери. Старушка крепко поцеловала Егора в лоб, а Матвеич плечи распрямил, помолодел вроде.
На следующий день Ермолаев пошел устраиваться на работу. Сходил на завод Кноха, но там ему отказали, помнили, видимо, про его связь с социалистами. Сходил Егор ещё в два места, но и там дали от ворот поворот. Лишь на пристани один купец, оглядев крепкую фигуру солдата, похлопал по спине, попросил руку согнуть, пощупал его бицепцы и согласился взять в свою артель. Заработок, правда, определил небольшой, но Егор и тому был рад, да и то надо принять во внимание, что ни одним ремеслом Егор не владел: у Кноха подсобником на пилораме работал да еще на пристани грузчиком был.
До первого заработка Егор жил у Матвеича. Получив деньги, как ни протестовали старики, переехал на Тычковку, где снял квартиру поближе к пристани: невыносимо слушать, как дочь называла его дядей.
Ермолаев крепко на прощание расцеловал Вареньку, подарил ей куклу, вручил кулёк со сладостями, а старикам дал пять рублей, чтобы смогли чего-либо купить девочке. Ушел, так и не сказав Вареньке, кем он ей на самом деле приходится.
Со второй женой Егор Ермолаев встретился спустя пять лет. Были, конечно, у него женщины, но как-то не прилегла ни одна к сердцу, а вот Евгения сразу пришлась по душе. Выросшая в приюте, она привыкла держаться обособленно от сверстниц, а работала прачкой у одного купца на Тычковке. И Егор долго потом удивлялся, почему же раньше не встретился с Евгенией, ведь жили они почти рядом. А увидел он Евгению в Пасху совершенно случайно в знаменитом на всю Тюмень сиреневом саду.
Сирень начинала цвести, и еле ощутимый запах завис над рекой. Ермолаев шагал по берегу с приятелем, оба немного навеселе от выпитого в трактире шкалика водки, приглядывались к «барышням», шутили с ними, лихо подкручивая усы. И вдруг увидел Егор на скамейке под сиреневым кустом девушку, сидевшую спокойно и устало, но в глазах, следивших за воробьями, которые шныряли у нее под ногами, светилась нежность: «Ах, птахи малые, мне бы с вами полетать…» – так, наверное, думала незнакомка.
Дрогнуло сердце порт-артурца, и он, кивнув другу на девушку, круто свернул в траву с тропы, осведомился деликатно:
– Разрешите, барышня, присесть?
Девушка улыбнулась еле приметно:
– Садитесь, места всем хватит, – и отодвинулась на самый край скамьи.
Мужики присели, переглянулись, и Егор завёл разговор:
– А отчего вы такая задумчивая, разрешите спросить? – а сам друга пихнул в бок, дескать, чего сидишь – удались. Тот понятливо хлопнул себя по карманам и притворно вздохнул:
– Ох, Гоша, курево кончилось, ты посиди пока, а я схожу куплю.
Друг, конечно, не вернулся обратно, а Ермолаев и Евгения долго сидели, разговаривая, под сиренью, затем гуляли по саду, потом он её на извозчике довез до дома и страшно удивился, увидев, что живет Евгения на Тычковке, как и он сам.
Женившись, Егор вскоре снова овдовел, потому что у Евгении открылась скоротечная чахотка, и она быстро угасла, не оставив ему после себя никого. Ермолаев сильно горевал после смерти жены, но тут грянула революция, и Егор завертелся в круговороте бурных событий…
И вот опять Ермолаев заподумывал о семье. И всё время перед глазами стоит женщина с грустным лицом и рано поседевшей головой.
– Тьфу ты, наваждение! – рассмеялся Ермолаев. – И чего это я о бабе раздумался? Никак, весна виновата! – и озорно пнул тряпичный мяч, подлетевший под ноги от игравших на мостовой мальчишек.
Окунувшись в дела, Ермолаев забыл о странной банщице, а вспомнил, когда отправился в баню. Вспомнив, решил разузнать о ней побольше. И узнал, что зовут её Валентиной Ефимовной Агалаковой, что ей тридцать один год, что действительно приехала из Вятки. С тех пор Ермолаев зачастил в номера, стараясь попасть к Ефимовне.
И Валентине тоже приглянулся высокий, гибкий в талии, клиент. Трудно прожитые годы после гибели Федора сказались на её характере. В этой степенной женщине с неторопливыми движениями мало что осталось от прежней бойкой бабёнки, жившей когда-то в далекой староверческой деревне. Да и было ли это?
Валентина не любила вспоминать свое прошлое, таким далёким и мрачным оно ей казалось. Много воды утекло с той поры, когда осенним ненастным днем семнадцатого года снялась с места и уехала вместе с Петром Подыниногиным в Вятку. Она остановилась у брата Михайлы, и как ни была благодарна Петру за помощь, все же отказалась выйти за него замуж. А следующей весной с одной знакомой семьей из родного села Юговцы подалась искать счастье в далекую и страшную Сибирь.
Октябрьская революция всколыхнула всю Россию. Не было людей, равнодушных к событиям, происходящим в стране. Одни проклинали «краснопузых» и их советы. Другие, трудовой люд, такие, как Петр и Герасим Подыниногины, как Михайла Бурков, революцию встретили бурным ликованием: войне – конец, земля – крестьянам, фабрики – рабочим. Декрет о земле обсуждался в деревнях всесторонне, и было решено, что «большаки» – не такой уж плохой народ, если вспомнили о крестьянстве, значит, власть у них правильная. Зашевелились вятичи, зачесались руки, просившие работы, а приложить руки некуда – скудна землей Вятская губерния.
А где-то лежала добрая, необозримая ни взглядом, ни умом, земляная ширь за Уральскими горами, в неведомой Сибири, пусть и каторжный тот край, но сказочно богатый зверьем и лесом. Сибири боялись, но и складывали легенды об этой загадочной земле. Она манила к себе. И безземельные, самые смелые, да просто отчаянные люди, семьями покидали родные места и ехали в сибирскую даль-далекую. Ехали по «железке», ехали целыми деревнями своими обозами, желая сытой жизни, устав от нищеты и голода.
Валентина двинулась в путь не ради земли. Где уж ей? Разве сможет она одна обрабатывать землю, даже если и получит надел? Нет, её туда погнал стыд, что жила иждивенкой в братниной семье, где без неё с девчонками и так шесть ртов, гнала надежда на лучшую жизнь и то, что, может быть, найдет она там и свое, простое бабье, счастье.
В Тюмени, где она распрощалась с попутчиками из Юговцев, ей повезло. Сразу же удалось подыскать работу в Громовских банях. И комнатенку неподалеку нашла у земляка-вятича, помогли те же знакомцы из Юговцев. Даже когда белые заняли город, она продолжала работать банщицей, да и хозяева иной раз давали овощи с огорода, так что Валентина хоть и жила скудно, однако не голодала. И вот после долгих лет мытарств её сердце впервые оттаяло, потянулось навстречу мужчине.
Теперь Валентина с нетерпением ожидала прихода Ермолаева, даже появилась робкая надежда, что и она небезразлична ему. Уже и беспокоилась о нём, как о родном человеке, если долго не появлялся, ведь знала, какая у Егора служба.
Однажды Ермолаев явился к Валентине в номера в полной милицейской форме при нагане и сабле, но без привычной потрепанной кожаной сумки в руках. Вместе с ним пришёл седовласый хитроглазый старичок.
– Ну, Валентина Ефимовна, – сказал Ермолаев, – а мы к тебе в гости пришли напрашиваться. Позовешь ли?
Валентина подивилась, как удачно подгадал Егор прийти к концу смены, и теперь просто неудобно отказать им в приглашении.
– Ну, коли проситесь, позову. Чай, вы люди степенные, не обидите?
– Еще какие степенные, – усмехнулся в ответ старичок.
Валентина жила неподалеку от пристани.
Хозяев дома не было, оба на работе, лишь глуховатая старуха – мать хозяина – сидела в комнате у Валентины, возилась с Павлушкой.
Валентина предложила гостям присаживаться, а сама ушла на хозяйскую половину вместе со старухой.
– Баушка, – услышали гости, – они с мужем моим воевали вместе. Нечаянно встренулись.
Вернувшись, Валентина увидела на столе бутылку самогона, немудрящую закуску, разложенную на газете – шматок сала, буханку хлеба да пару селедок, а Павлушка сидела на коленях у Ермолаева и грызла кусок сахара.
– Батюшки! – всплеснула руками Валентина. – Чегой это вы?
– По делу мы, – важно произнес Ермолаев, – вот Матвеич все обскажет. А это чья красавица? – он ласково провел рукой по черным Павлушкиным волосам, и Валентина поняла, что этот человек любит детей. Теплая волна окатила её сердце.
– А у нас еще Анютка есть! – объявила Павлушка, хрустя сахаром.
– Это что за Анютка, кто такая? – поинтересовался Ермолаев, лукаво поглядывая искоса на Валентину, и та торопливо ответила:
– Да это сестрёнка моя младшая.
Валентина поставила капустки квашеной на стол, вареной в мундирах картошки, принесла от хозяев самовар и пока раскладывала закуску по тарелкам, Ермолаев взялся за самовар, и едва тот запыхтел, уселись за стол. Валентина успела к тому времени принарядиться, скрывшись за ситцевой занавеской, которая отделяла от всей комнаты кровать.
Ермолаев разлил самогон по кружкам, а Матвеич, прокашлявшись, басовито и торжественно произнес:
– Стало быть, Валентина Ефимовна, без долгого разговору скажу тебе, что пришел я с Егором сватать тебя за него. И ответ мы намерены получить сегодня же, поскольку Егор Корнилыч – мужик у нас сурьезный, да и я не шутник, и пришли мы к тебе с открытой душой и чистым сердцем.
– Ой-оченьки! – вскрикнула Валентина, прикрыв щеки ладонями, едва справляясь с охватившим ее волнением: ожидала этого, а все же сватовство захватило ее врасплох. Она качала головой и молча таращилась на гостей.
Егор тоже заволновался: уж слишком испугалась Валентина, иль не люб он ей? А Матвеич гнул свое:
– Ну, голуба, отвечай, согласна ли, отвечай, как на духу, – потребовал он сурово.
– Согласная, согласная, – закивала неожиданно для себя Валентина – словно кто сторонний её голову покачал. И ещё больше оттого растерялась, совсем закрыв ладонями запылавшее румянцем лицо: кабы не подумали, что сама навязывается на шею мужику – у вятских это не принято. Потому сразу же возразила. – Не резон, однако, Егору Корнилычу замуж меня брать.
– Вот те раз, вот те сказ! Чего это ты, Ефимовна, воду баламутишь? То согласная, то не согласная! – возмутился Матвеич. – Иль думаешь, что Егор – не пара тебе, если на десять лет старше? – и тут же лукаво подмигнул женщине. – Ничего, голуба, старый конь, небось, борозды не испортит! – чем окончательно смутил Валентину: она не знала, куда деться от весёлых поглядок свата и жениха. Наконец Валентина едва слышно пробормотала:
– «Хвост» за мной: две девки – дочь Павлушка да сестра Анютка, правда, робит она уже.
– Вот дела! – рассмеялся Ермолаев. – Не было ни полушки, да теперь целый алтын! – и ласково коснулся рукой женского плеча. – Не горюй, Валентинушка, поднимем твоих девчонок на ноги.
Валентина встрепенулась при этом, внимательно посмотрела на Егора и залилась слезами.
А Егор завершил:
– … неужто вдвоем не прокормим? Да чего же ты плачешь, милая?
Валентина только рукой махнула, смеясь и плача. Все беды-несчастья, все бессонные ночи вылились рекой слез, и так стало на душе светло и приятно, такое наступило душевное облегчение…
Ермолаев поселился у Валентины. И хоть далеко добираться до своего отделения милиции, только посмеивался:
– Подумаешь, семь верст – не околица, добегу!
Однажды он пришел домой и объявил, что его переводят в Покровское, в село неподалеку от Тюмени. Жаль было Валентине уезжать с насиженного места, но такова служба у Егора, а жене, словно нитке за иголкой, нужно следовать за мужем.
В Покровском они заняли половину просторного дома, где располагалось отделение милиции, был даже свой огород, к тому же Валентину определили уборщицей в отделении, так что жили Ермолаевы не голодно. Но Валентине, уже отвыкшей от работы на земле, не нравилось в деревне, тем более что Анютка осталась в городе, и Валентина волновалась: уж очень своевольной выросла сестра. Да и беспокойство за Егора одолевало: в уезде объявилась банда, милиционеры безуспешно гонялись за ней, и Егора она порой не видела неделями. Возвращался грязный, заросший, уставший так, что едва коснётся головой подушки – засыпает мертвым сном. Валентина совсем уж собралась подзудить мужа, чтобы похлопотал насчет обратного перевода в Тюмень, но пока обдумывала, как приступить к делу – Егор сразу дал понять, что не потерпит вмешательства в свои служебные дела – Ермолаеву приказали возвращаться обратно: банду обезвредили, и надобность в усилении Покровского отделения милиции отпала.
Егора направили в отделение милиции на улице Ленина, недалеко от Перекопского переулка, выделили квартиру. Хоть и в подвале квартира, зато есть кухня и две комнаты. А милиция – на втором этаже того же дома.
Валентина хотела вновь устроиться в Громовские бани, да Егор запретил: кровь закипала при мысли, что на жену будут пялить глаза голые мужики. К тому же она была беременна.
Валентина страстно принялась за домашнюю работу: мыла, скребла комнаты, радовалась, что есть, наконец, свой угол, да еще какой – две комнатки. Она то штопала-чинила одежду, то принималась стирать, то еще с чем-то копошилась дома, и была безмерно счастлива.
– Мать, ну что ты все колготишься? – спрашивал Ермолаев. – Сядь, отдохни, – он обнимал ее пухлый стан, и когда чувствовал недовольный толчок будущего ребенка, смеялся: – Ишь, сердитый какой!
А Валентина присядет на минутку и опять вскочит, затормошится, забегает по квартире.
Иногда они ходили в гости к Матвеичу вместе с Павлушкой. Егор рассказал жене историю Вари, и та с острой жалостью смотрела на девочку, но ни разу не обмолвилась, что её родной отец – Егор. Да, по правде сказать, она даже боялась этого, ведь своих девчонок на руках двое, и незачем третью брать. Бывали Ермолаевы и у Михайлы Аршинова, Валентининого земляка-вятича, у которого жила до знакомства с Егором. К Михайле Егор, шутливый по натуре, приставал с вопросами, чтобы тот объяснил некоторые вятские слова:
– Михайла, – дурашливо улыбался Егор, – а чего это мне жена сказала? Шли мы к тебе, я нечаянно ей на подол наступил, дак она как заголосит: «Ой, оченьки, леший-лешачий, подол-от оторвал!» Что это – «леший-лешачий»?
Все дружно смеялись, и Михайла с самым серьезным видом растолковывал непонятное.
Валентина часто по ночам просыпалась и глядела на спящего мужа или, если он был в отъезде, чутко прислушивалась к ночным звукам за окном. И никак не могла поверить своему счастью.
Егор не обижал её, помогал по хозяйству, если находился дома, разговаривал уважительно и ласково, а больше всего Валентина была довольна, что Егор полюбил Павлушку, как родную дочь, и всё свободное время проводил с ней. Порой Валентина даже чувствовала ревнивый укол оттого, что девочка тянулась к отчиму, смеялась с ним веселее, играла охотнее, чем с ней.
Не было бы счастливее Валентины, если б не забота о сестре. Беспокойная девчонка совсем отбилась «от рук», ей шел уже шестнадцатый год. И не то, чтобы не слушалась старшую сестру, а как-то дерзко разговаривала с ней.
Анюта работала уборщицей в частной аптеке. Там ей нравилось, тем более что хозяин обещал обучить бойкую девчушку фармакологии, а потом девушка мечтала поступить на курсы сестёр милосердия, а то удалось бы и на доктора выучиться, но это уже была, на Валентинин взгляд, несбыточная и никчемная мечта. «Зачем, – думала она, – ученье бабе? Попался бы муж хороший!»
На полочке, сделанной Егором и прикрепленной над топчаном Анютки, было полно книг по фармакологии, медицине. Очень много было и романтических приключенческих романов про разбойников, несчастную и счастливую любовь. Допоздна, бывало, засиживалась Анютка за книгами, сжигая драгоценный керосин, за что Валентина беспрестанно ворчала, но Анютка однажды «обрезала» сестру, заявив, что уж на керосин она как-нибудь зарабатывает. И это была правда. Однако, если Анютки не было дома, Валентина места себе не находила, выглядывала в оконце, сердясь, ругаясь и одновременно боясь за неё. Но сестра возвращалась домой, и весь гнев пропадал.
Анютка вытянулась, постройнела. Русая коса перекинута через плечо на грудь, в серых искристых глазах – упрямство и своенравие. Коса, глаза да румянец во всю щеку могут приворожить кого угодно. «Не приведи, Господи, – думала порой Валентина, глядя на сестру. – Принесет дитя в подоле, сраму не оберёшься, вон кака она кручена-верчена…»
– Анютка, – не выдержала всё-таки однажды, – чего это ты удумала шалыгаться допоздна? А вдруг в подоле принесёшь? Вон давеча весь вечер на улице с парнем каким-то проогибалась.
– Это Андрейка, – ответила равнодушно сестра, не отрывая глаз от книги. – Он неподалеку на Республике живет. Провожал меня с работы.
– Ты подыми глаза-то, коли сестра с тобой разговариват! – взъярилась Валентина и рванула книгу из рук Анютки. – Вечно за книжками своими проклятыми сидишь, до дому тебе и дела мало!
– Ну, ты это брось! – строго глянула Анюта. – Я тебе по дому помогаю? Помогаю. Получку отдаю? Отдаю. А как я свободное время провожу – не твоё дело, я уже не маленькая.
– Ах, не моё?! – разошлась-распалилась Валентина. – Мне маменька, когда я жать ходила либо лён белить, колоколец на шею вешала, чтоб не сбегла я куда. А коли заметит, что я с парнем болтаю, так еще и за косы оттаскат – «Не будь парнёшницей!» А ты что? Ну, хоть ты ей скажи, отеч… – взмолилась Валентина.
Егор молча чинил валенок и не вмешивался в спор сестёр. Он был согласен с Анюткой. Конечно, та выросла своенравная, но держит себя строго. Никто в округе не скажет, что у Ермолаевых девчонка вольного поведения: со старшими уважительна, с парнями держится достойно. А что Андрей ухаживает за ней, так он парень хороший, из рабочей семьи, чекист, и не позволит себе обидеть девушку.
– Ну, отеч, – не отставала Валентина, – что же ты молчишь?
– Отеч… Когда ты по-русски говорить научишься? – усмехнулась Анютка. Сама она очень быстро отвыкла от вятского говора и часто посмеивалась над сестрой.
Валентина обычно не обращала внимания на Анюткины смешки да указки, а тут рассвирепела окончательно:
– Ах, ты еще и насмешничашь? – и крепкой рукой схватила младшую сестру за косу, когда та собиралась выйти из комнаты от греха подальше.
Девушка резко обернулась, и такое бешенство выплеснулось из её глаз, что Валентина, бессильно опустившись на табурет, горько заплакала. Анютка же опрометью выскочила из квартиры.
– Вишь, совсем от рук отбилась, – причитала Валентина, – вишь, как глазами-то выбурила, а ты все молчишь да молчишь, не пристрожишь её.
– А ты рукам воли не давай, – спокойно посоветовал Егор, – так и спору не будет. И чего ты грызешь её все время? Она и впрямь тебе деньги до копеечки отдаёт, квартиру в чистоте содержит, а ты все пилишь её да пилишь, тут, знаешь, хоть у кого терпение лопнет.
– Сестра же она мне младшая, сердче не терпит, как она дерзит, – вскинулась Валентина. И горько расплакалась.
Егор улыбнулся, встал, подошел к жене, поцеловал в висок, подвел к кровати, усадил, ласково урезонил:
– Ну не расстраивайся, мать, тебе вредно, – погладил её тугой живот, ощутил толчок в руку. – Ого! Сердится! Ревнует к мамке! – и повторил. – Не серчай, мать, Андрюха – парень хороший, не обидит Анютку, да и она ему поблажки не даст, она у нас – девка строгая и умная.
– Да знаю, что умная, – всхлипнула Валентина, вытирая слезы, бежавшие по щекам, – но ведь я – старшая, уважать меня должна и не перечить! – голос её опять сердито зазвенел.
Егор вздохнул и снова принялся чинить валенок.
Анютка домой не вернулась. Но Валентина не беспокоилась: сестра после подобных ссор часто ночевала у своей подружки Машутки. А утром, запыхавшись, к ним прибежала мать Машутки.
– Ефимовна, не у вас ли моя девка?
– Дак ведь Анютка дома не ночевала, не у вас она рази? – удивилась Валентина. – Может, у них еще какая есть подружка? Моя-то брандахлыстка не докладыват, куда уходит.
– Ой, Ефимовна, да ведь наши девки – не разлей-вода, только и торчат друг у друга, нет у них никаких боле подружек, – развела Машуткина мать руками.
– Ой, лико-лико! – обеспокоилась Валентина. – Да где же они пропасть могут?
«Ой-оченьки! – мелькнула мысль. – Да не варнак ли этот, Андрюшка, увёз куда-либо Анютку?» – но тут же отвергла это предположение, так как в таком случае Машутка была бы третьей лишней. И обе женщины тут же помчались к Егору.
Ермолаев отпросился у начальника отделения и вместе с Машуткиной матерью отправился на розыски по всем знакомым, но подружек нигде не оказалось. И к ночи ничего не прояснилось: девчонки как в воду канули. Не нашлись подружки и на следующее утро.
Валентина с горя слегла. У нее пылала в жару голова и будто раскалывалась надвое от боли, глаза лихорадочно блестели, а ноги были холодные, словно их в ледяной воде держали.
И привиделось Валентине, будто она маленькая, отец держит её на руках и усмехается в усы, щекочет детское личико бородой. Потом подбросил высоко-высоко, и полетела Валентина к самым облакам, а внизу отец с матерью маленькие-маленькие, точно букашки.
– Лариса! – закричал отец. – Гля-ко, как доцка наша летит!
И вдруг Валентина рухнула вниз, прямо в ледяную реку. Ноги онемели, руки свело судорогой, захлебнулась Валентина плачем: «Не хочу тонуть! Спасите! Маменька, папенька, спасите, ради Христа!»
Неожиданно старушка появилась невесть откуда, маленькая, сухонькая, глаза ласковые, в одной руке Евангелие, в другой – клюшка точь-в-точь, как у покойной маменьки. Голос у неё ровный, тихий. И не старушка это, оказывается, а маменька: «Ой, доченька, ой, голубка ты моя ласковая, благослови тя Господи…» – и осенила крестом, сложенными в щепоть пальцами, а за её спиной в туманной дымке замаячила старуха Агалакова со вскинутым над головой двуперстием, а из глаз искры так и сыплются. «Чтоб тебе!» – слышен крик, и затихает вдали, потому что маменька вновь осенила крестом Валентину. «Изыди, Сатана, – махнула она рукой на мать Фёдора. – Моя вера правильней, не слушай её, дочушка, не слушай!»
И так спокойно стало Валентине, как в детстве. Голубой туман окутал голову, но блеснуло солнце, и увидела Валентина родные Юговцы. И себя увидела на убогом, засеянном рожью, поле. Ой-оченьки, до чего же спинушка болит, разламывается… Только рапрямилась-разогнулась, глядь, а на меже парень стоит, улыбается:
– Здорово, Валюха!
– Будьте и вы здоровы, Павел Трофимыч.
И всего-то несколько слов друг другу сказали, а матери уж в уши напели на селе соседки:
– Что-то, Лариса, Павлик Калинин возле твоей девки вертится, кабы чего не вышло…
Только Валентина, уставшая от жатвы, переступила порог отчего дома, а мать уже за косы дочь ухватила. После смерти отца мать настиг удар, еле из болезни выкарабкалась, но стала злой и сварливой. Вся тяжелая работа легла на плечи шестнадцатилетней дочери, а Лариса не в силах ей помочь, оттого и злилась на дочь, на весь белый свет и свои больные ноги, на жизнь свою вдовью. Вскоре второй удар свел в могилу и мать.
– Маменька! – рвётся из рук соседок Валентина. – Встань, помоги мне! – но не встает Лариса, и – бам, бам, бам! – как по сердцу стучит молоток, которым забивают гвозди в крышку последнего материнского пристанища. – Маменька! – тяжелая липкая темнота опрокинула Валентину наземь, опять она летит куда-то вниз головой. – А-а-а!!! – кричит страшно, разметывая одежды, которыми укутал её Егор, они казались каменными могильными плитами, давили на плечи, грудь, голова пухла от чудовищной боли.
– Господи, да уберите вы эти чепи, тя-а-жко-о! – молит Валентина кого-то и опять кричит. – Маменька! Павлушка! Анютка! Феденька, скоро приду к тебе!
Температура держалась стойко. Часто Валентина впадала в беспамятство и бредила, звала мать и отца, умоляла сестру простить её, вернуться домой. От болезни, беременности, постоянно выворачивающей наизнанку тошноты, Валентина таяла на глазах. Ермолаев привёл доктора, и тот сказал, что у Валентины тиф, и что больную надо изолировать от всех.
– А куда ее изолировать? – развел руками Егор. – У нас одна кровать, вот и спим: я с краю, мать в середине, а дочь у стены.
– Вы с ума сошли! – возмутился доктор. – С тифозной больной спать рядом! – Да вы чудом не заразились! Подумайте о дочери, молодой человек!
Доктор не раз заходил к Ермолаевым, приносил лекарства, но улучшения не было, и в одно из своих посещений сказал:
– Сегодня будет кризис. Или выживет, или, – он посмотрел на Ермолаева честными глазами, – не обессудьте, если будет второе. Я сделал все, что мог, и если были бы на свете более эффективные лекарства, чтобы сбить температуру, можно было бы надеяться на лучший исход, а так… – доктор зло хрустнул пальцами и ушел, пообещав зайти на следующий день.
Ермолаев посмотрел на жену и, чтобы не испугать Павлушку, отошел к окну, заплакал беззвучно, по-мужски. К нему подошла Мироновна, до того молча сидевшая у постели больной, погладила Ермолаева по плечу:
– Егорушка, не гневись на старуху, послушай меня. Разведи покруче соль и прикладывай соляную тряпицу к голове Валентины. Жар-от и спадет, соль его на себя примет, а там – Бог даст…
Егор бросился по знакомым собирать драгоценную соль, и к вечеру насобирал половину солдатского котелка. Всю ночь, уложив спать Павлушку, он прикладывал холодные соляные компрессы на лоб жены. Утром пришел доктор, едва коснувшись ладонью лба больной, присвистнул: Валентина улыбалась робкой улыбкой человека, вернувшегося с того света.
– Ну, дружище Ермолаев, – развел он в изумлении руками, – прямо чудо какое-то! Честно говоря, шел к вам констатировать смерть, но… – он улыбался широко и радостно. – Чем вы ее воскресили?
– Мироновна подсказала, – кивнул Ермолаев на старушку, спавшую на полу, и добавил с нежностью. – Умаялась Мироновна. Соляные компрессы всю ночь вместе с ней на лоб Валентине прикладывали.
Валентина медленно поправлялась. Похудевшая – кожа да кости – тенью бродила по квартире, боясь выползти на улицу.
– Ты бы подышала свежим воздухом, Валюша! – уговаривал ее муж. – Вон благодать какая! Весна! Давай, помогу.
– Щё ты, щё ты! – испуганно махала руками Валентина. – Я ведь не человек – пугало, настоящее чучело. Голова голая, пузо – как барабан, люди поди-ка спужаются, как увидят.
Часто забегал Андрей, спрашивал, есть ли вести от Анютки. Валентина, глядя на него, ладного и стройного, на его красивое румяное лицо, волнистый чуб, который выбивался из-под шапки-кубанки, думала, что было бы намного лучше, если б Андрюшка и впрямь уворовал Анютку. Вот где она, шалапутная сестрёнка? Вспоминая о ней, Валентина не могла сдержать слез, ругала себя за вредное свое поведение.
Тайна исчезновения Анютки и ее подруги через две недели раскрылась легко и просто, когда родители Маши получили письмо. В конверте вместе с письмом от Маши лежала и коротенькая записка Анюты: «Валечка и Егор! Уезжаю искать счастье. Получка в книжке про Робинзона Крузо, не беспокойтесь обо мне: у меня деньги есть. Поцелуйте за меня Павлушку. Желаю вам сына. Ваша Анна Буркова».
Зато письмо Маши было пространное, все в голубых разводах, видно, писала Машутка и плакала в три ручья: «Милые мои тятенька и маменька! – читал Егор. – Не гневайтесь на меня, но не могу я больше оставаться здесь. Мы с Анюткой под угрозой смерти. К нам обратились двое парней и попросили дать каких-нибудь лекарств, чтобы, к примеру, глаза были на самом деле здоровы, а как проверять, то больные. Не хотели в армию Красную идти, богатеи проклятые! Мы им дали мази, а они нам за это пятьсот рублей. А только на комиссии их все равно признали годными. Мы так и хотели сделать, а то, ишь, в Красной Армии не захотели служить, хитрые какие. И вот к нам пришла одна ихняя мамаша, сильно ругалась и сказала, что нам будет конец. Вот мы и решили бежать. Мы вам ещё напишем. Остаюсь всегда ваша верная дочь Мария».
Валентина по своему обыкновению сначала вспылила:
– Ну, это надо же, щё удумали брандахлыстки две! – а потом заревела в голос. – Ой-оченьки! Да ведь её зарезать могли за это, ой, шалапутная сестрёночка моя, да где же ты! – и опять свалилась в жару.
Однако с нервной горячкой доктор справился быстро, и Валентина стала медленно набирать силы.
Быстрому выздоровлению мешала беременность. Ела она плохо, через силу, и поминутно бегала к ведру: тошнило от каждого куска еды, от малейшего запаха. Желудок принимал одну колодезную воду, и то не со своего двора, а с соседней улицы. Егор дивился странным причудам жены, но безропотно таскал воду, потому что Мироновна строго-настрого велела потакать всем капризам беременной Валентины, дескать, успеешь, мол, побурчать, а пока – терпи, поскольку беременные бабы все такие привередливые.
Три дня схватки мучили Валентину. Она кричала во всё горло, стонала так, что даже на верхних этажах, где располагалось отделение милиции, было слышно. Валентина, крутая характером, совсем не выдерживала боли.
– Ой, лишенько, – выла во время очередного удара в спину. – Ну, Егор, даже не подходи! Ой-оченьки, родить бы скорее! Маменька, родненькая, да пощё ты меня бабой родила, пощё я баба – не мужик! У-у-у, Егор, кобель, леший-лешачий… – награждала она ругательствами мужа, и видеть его не желала.
Ермолаев ходил бледный с темными впавшими глазницами от бессонных ночей и курил беспрестанно. Холостые милиционеры беззлобно подшучивали над ним, мол, и кого же это ты, приятель, законопатил жене, что разродиться не может. Женатые авторитетно заявляли, что ребенок «идет попой или поперек лежит». Но вскоре все притихли, старались поменьше быть в помещении, где, казалось, даже стены стонали от Валентининых криков.
Егор никогда не видел рожавших женщин, первая его дочь родилась без него, и сейчас, видя, как мучается Валентина, от острой жалости к ней и боязни, что не выдержит жена и умрет, он чуть не плакал, ругая себя за свою мужскую нетерпеливость, за свое желание иметь ребёнка. Где бы ни был Егор, он постоянно думал о жене, мучаясь, что не может ей помочь, и в ушах, даже если был в городском наряде, звенел крик: «Ой-оченьки, видно смертушка моя пришла, ой, умру я-а-а!..» И Егор молил всех чертей, ангелов, чтобы жена осталась жива.