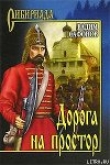Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 64 страниц)
Дружников взлетел на крыльцо сельсовета, ударом ноги распахнул дверь, перемахнул небольшие сенцы и ворвался в комнату, где за столом сидело несколько офицеров, склонившись над картой.
Максим яро заматерился и швырнул прямо на стол гранату, сам же юркнул за дверь, упал на пол, прикрыв голову руками. Взрыв сорвал с петель дверь, край ее больно ударил Максима по спине, но он стерпел, вскочил на ноги и ринулся в комнату, откуда слышались стоны, но ничего не было видно в дыму, потому что бумаги на столе уже пылали. Следом в комнату вбежал Кожевников, раздался выстрел, и он вскрикнул. Дружников метнул вглубь комнаты еще одну гранату, потом крутнулся на месте и увидел лежавшего на пороге Кожевникова: его ранил стрелявший из комнаты немец. Дружников рухнул на товарища, прикрыв его своим телом, и опять раздался взрыв, их отбросило взрывной волной в сенцы, но особого вреда они не получили – Бог, видно, миловал.
А на улице уже гремел бой, слышалось нараставшее «ура!». Максим, встал, шатаясь, прислушался к звукам в комнате – там было тихо. Тогда он выволок Кожевникова на крыльцо, чтобы раненый не задохнулся в дыму, и лишь тогда нырнул в горящую избу, чтобы вытащить на свет Божий уцелевших немцев. Но в живых был только один, спавший в момент взрыва на печи, тех, кто сидел за столом, разметало по сторонам, и ни один не подавал признаков жизни. Максим стянул немца с печи, от души двинул ему в челюсть, а потом вытащил из горящего дома, бросил его на дороге. Туда же подтащил и Кожевникова. По улице бежали солдаты, кричали «ура!» или же матерились.
– Дружников! – крикнул кто-то сзади, и Максим, оглянувшись, увидел своего командира. – Молодец, хорошую заварушку устроил. Оставь Кожевникова санитарам, а сам – вперед.
За командиром и в самом деле бежали двое санитаров, Дружников быстро объяснил им задачу – отправить Александра в госпиталь, велел покрепче связать немца – штабной, наверное, ценный язык, и потому его следует быстро доставить в Родню, там, дескать, разберутся. А сам побежал вслед за командиром. Он уже почти догнал своих у леса, как в спину ему с чердака последнего дома ударила пулеметная очередь. Дружников упал навзничь и не видел, как бежали немцы из села, как на помощь обескровленному батальону, не пускавшему захватчиков далее этого села, подоспели танки, как один танк метким выстрелом «поджарил» пулеметчика. Пехотинцы сели на броню танков, и грозные машины пошли вперед, рассекая метель. А Дружникова, который медленно сползал в глубокую воронку, постепенно заметало снегом, и он уже не чувствовал холода, потому что его собственное тело стало холодным – Максим Дружников умер. Край воронки обвалился и засыпал его тело.
Когда утром, отогнав немцев далеко от Чернушек, стали подсчитывать потери, то Максима Дружникова не обнаружили ни среди живых, ни среди раненых. Не нашли его и среди мертвых, которых подобрали в селе. Нигде не было видно и некоторых других солдат – их замело снегом. Весной их обнаружили жители деревни и похоронили за околицей села. Александра Кожевникова похоронили, как и всех умерших в госпитале, на окраине села Родни…
Оцепенение прошло, Александра очнулась и увидела, как Максим Егорович Дружников смотрит на нее весело, по-доброму, словно говоря: «Ну, как? Все стало понятно?» Александра хотела спросить, можно ли найти место, где он лежит, чтобы посетить его затерянную могилу, как хотела этого Павла Федоровна, но не успела – кто-то положил ей руку на плечо и тихо произнес:
– Здравствуйте, Александра Павловна…
Она обернулась и увидела перед собой Стаса Нетина. Он был грустный, в глазах таилась невыразимая печаль, лицо его – землистого, непривычного цвета: Александра помнила его совсем другим. Его обращение к ней по имени-отчеству не смутило – ведь и в самом деле он остался вечно молодым, а ее года бегут вперед.
– Стас? Ты? Как ты меня нашел?
Нетин протянул к Александре руки и сказал жалобно:
– Мне холодно, очень холодно, обнимите меня, пожалуйста…
Александра обняла Стаса, и ее пронзил тот же незабываемый холод мертвых ног отца. Она отпрянула, но Стас крепко прижал ее к груди, и женщине стало жутко, показалось, что жизнь, ее тепло уходят к Нетину. А он шептал:
– Мне холодно, мне холодно…
– Эй, утоплый, отстань от сестренки! – закричал Геннадий и, подскочив к Стасу, рванул его за плечи, а братья Изгомовы загородили Александру от протянутых рук Нетина. – Хочешь поговорить – говори, а не лапай!
Стас, опустив голову на грудь, побрел прочь. А брат повел сестру к костру, заботливо усадил на маленькую скамеечку, укутал, невесть откуда взявшимся, пледом. Александра дрожала от страха, но жуткий холод все-таки постепенно отступал, освобождал ее.
– Ну, ты, Пигалица, балда! – попенял ей брат. – Вздумала с утопленником обниматься! Да и с нами не очень-то обнимайся, видел, как на Тольке висла. У тебя одна энергетика, у нас – другая. Поняла? А этот, утоплый, хотел от тебя подзарядиться. А еще сопли тут, понимаешь, распускал, плакался, что любит тебя! Вот тебе и любовь!
– А почему он такой холодный, вы вот не такие.
– Душа, конечно, может где угодно обитать, но прах человеческий должен иметь свое место. Это, понимаешь, вроде дома… Вот ты ездишь повсюду, а Тавду все равно считаешь домом, хоть никогда не вернешься туда жить…
– А почему не вернусь? – запальчиво воскликнула Александра. – Захочу, и вернусь! Может, дом куплю!
Геннадий захохотал раскатисто. Просмеявшись, ответил:
– Не мели ерунды. Никуда ты от своих пацанов не уедешь, ты же не Валерьяновна.
– Устала я, – пожаловалась Александра, – хочется уж и одной пожить…
Брат словно не слышал, продолжал просвещать:
– Так вот, у Стаса нет такого места. Тело его не нашли, и не найдут – забило течением под корягу, вот ему и холодно. В гробу-то темно-тесно, да все равно для тела – дом.
– Хорошо здесь у вас… Может, остаться? – опять сказала Александра.
Геннадий строго сдвинул брови:
– Не твой черед!
У Александры в голове завихрились мысли: «Пашка, он же в армии! А в Чечне война…» – и закричала:
– Кто?
– Не ты, – сурово ответил Геннадий.
– Кто?!! – Александра вцепилась в брата, затрясла его. – Кто, говори, кто?! – но брат вдруг исчез, лишь туманная струйка скользнула мимо нее, и другие, кого только что видела, исчезли, истаяли. Только поле огромное, мрачное, и она – в центре того поля. Над головой заклубились грозовые тучи, хлынул дождь, и она, глядя на свои скрюченные руки, которыми только что держала лацканы пиджака брата, закричала, подняв лицо к тучам: «Кто???» И проснулась.
– Мама, мама, что с тобой? – Антон склонился над Александрой, его лицо было тревожным. – Ты так кричала…
– Извини, Антоша, что перепугала тебя. Сон дурацкий приснился.
Антон вышел из комнаты Александры, а она до утра ворочалась на постели, пытаясь вспомнить сон, зная, что там было что-то важное для нее, но так и не вспомнила. В тот же день она позвонила Лиде, чтобы договориться о поездке в Тавду.
…Александра сидела в прекрасной, хорошо обставленной комнате. А за стеной – другая квартира, где грязно, замусорено. И там живет старуха неопрятного и злобного вида. Александре нужно выйти на улицу, но идти надо именно через чужие комнаты. Страшно, но надо идти, потому что её на улице ждут дети. Она просто обязана спасти их от неведомой беды, какой, она не знала, но чувствовала эту беду. И тогда Александра, собрав всё мужество, шагнула вперед. Старуха приподнялась на локтях. Её синие глаза, казалось, заглядывали в самую душу женщины, губы искривились в жуткой усмешке, а тело приподнималось над кроватью, пока не встало вертикально. И тогда она сделал шаг наперерез Александре. Той бы убежать, но вдруг ненависть накрыла ее, окутала, словно черное, грозовое облако: она узнала свою прабабушку – именно такой она её и представляла – сухой, прямой, с худым лицом, на котором сверкали ярко-синие глаза.
– Так вот ты какая, старая Лукерья! – воскликнула Александра. – Ну, бей меня! Прокляни ещё раз меня, моих детей, внуков! Один раз ты уже это сделала! Прочь! Я тебя не боюсь, – и шагнула навстречу старухе.
Старуха оскалила зубы в усмешке и сделала еще шаг.
Александра сжала кулаки, нагнула голову и приготовилась боднуть старуху головой, но тут разлилось сияние, и в комнате появилась женщина в белом легком одеянии до самых пят. Её лицо показалось Александре знакомым, но где она видела эту женщину, Александра не помнила. А женщина вытянула руку навстречу старухе ладонью вперед, и та остановилась.
– Иди, – мелодичным голосом произнесла женщина, посмотрев на Александру. – Иди и ничего не бойся. А еще никогда не снимай свой крестик, ведь ты же крестилась, и детей крестила, так почему не носишь крестик?
– Он простой, крестильный. Я его храню в шкатулке вместе со свидетельством о крещении, – растерялась Александра.
– Ну что же, – улыбнулась женщина, – купи в любом храме такой, чтобы тебе был по душе, и носи. А теперь иди.
И Александра тихо вышла из комнаты, не услышав, как страшная старуха сказала:
– Смелая, однако, моя правнучка. Лико, как меня отбрила, – и вдруг улыбнулась ясной, доброй улыбкой, её синие глаза потеплели и заискрились:
– А ты не пугай зря, – тоже улыбнулась женщина в белом.
Александра вышла на улицу, но своих детей не увидела, зато приметила во дворе девочку лет двенадцати – тоненькую, хрупкую, неуловимо похожую на неё – такие же разлетистые брови и упрямый взгляд. «Моя не родившаяся дочь, наверное, была бы такой же…» – грустно подумала Александра. Она не стала спрашивать имени девочки, просто взяла за руку и повела со двора, где ей оставаться опасно, потому что страшная старуха могла выйти из дома.
И они зашагали в ногу по горячему асфальту, потом вышли за город и пошли по травянистой тропке через поле, заросшее розовым и белым клевером, над которым роились пчелы. Девочка уверенно вела ее вперед, пока они не пересекли поле, и перед глазами не возник незнакомый посёлок, в котором была одна-единая прямая, как линейка, улица. Они прошли из конца в конец улицу, пока не оказались на окраине возле побеленного кирпичного дома, откуда вышла… Павла Фёдоровна.
Александра охнула и опустилась на колени: ее парализовал страх, но в душе росла радость – мама жива, а её смерть, видимо, просто дурной сон. Мать ласково улыбнулась Александре, кивнула, здороваясь, но, почему-то не бросилась навстречу, не раскрыла объятия. Зато девочку крепко прижала рукой к себе.
– Здравствуй, дочушка, – сказала Павла Фёдоровна, – спасибо, что навестила, я жду тебя всегда. Но сегодня твой путь лежит мимо моего дома.
– Мама! – укоризненно воскликнула женщина. – Я столько лет хотела тебя увидеть, и вот пришла, а ты меня прогоняешь. Позволь, я буду жить у тебя.
– Да, прогоняю. Тебе рано у меня селиться. Иди дальше полем, это поле твоей жизни.
– А она? – Александра показала на девочку. – Ей негде жить, я её возьму к себе: где растут двое, найдется место и для третьего.
– Нет, – покачала головой мать, – она останется у меня. Иди.
И Александра пошла, загребая босыми ногами дорожную пыль. За околицей стояла водяная колонка. Александра нажала на рычаг, и из носика хлестанула мощная струя воды, но не холодной, какая текла из колонки в Тавде на улице Лесопильщиков.
Александра тщательно вымыла ноги, руки, лицо, и сразу стало легко уставшим ногам. Она прошла немного полем вперед без всякой дороги – она оборвалась, едва женщина вышла из посёлка – и упала ничком на мягкую траву. Глядела в небо и шептала:
– Господи, наш род, наверное, давно уж искупил грех нашей прабабушки, проклявшей нас, прости ее, пожалуйста. Мы заслужили счастье, мы и наши дети, внуки. Мы все теперь одиноки, все наше третье поколение. Так не губи наши души, ты покарал нас, так не карай наших детей, а возлюби нас такими, какие мы есть, ведь мы – создание и подобие твоё. И меня возлюби. У меня первая любовь не сбылась, с мужем, которого уважала и ценила, а потом полюбила, разошлись, так пора свести меня с человеком, которого бы я полюбила, а он – меня. Хватит сыпать несчастья на наш род. Прости нашу прабабушку!..
Поезд весело постукивал колесами на стыках. Александра лежала на второй полке, читала томик стихов Сергея Острового, который недавно подарил ей Лёха Селютин, приятель-журналист. И теперь, как молитва, звучали в ней слова: «Как мне к времени обратиться? Как сказать ему: Вы или Ты? Жизнь моя, ты была многолица. Многоцветна. До густоты».
Устав читать, смотрела в окно, где пробегали знакомые пейзажи – степь, редкие перелески. Долго тянулся путь вдоль Волги у Чапаевска, пока добрались до Самары – так по стародавнему стал называться Куйбышев. Она давно уже не ездила на Урал и с жадным любопытством смотрела, вспоминая, как все было в годы учебы в полиграфическом техникуме. Чапаевск не удивил ее переменами, а вот вокзал в Самаре восхитил – высокое здание из стекла и бетона устремилось ввысь, и на этажи не надо идти по высоким узким лестницам – довезут на любой этаж лифты или эскалаторы. Огорчило одно – Нонна Лесова, которая давно уж Крюкова, не пришла к поезду, а увидеть ее очень хотелось. Но зато предстояла встреча с сестрой Лидией.
Лиду в эту поездку сманила Александра, потому что со дня похорон матери сестра ни разу не посетила ее могилу. Александра, которая все чаще задумывалась о том, что такое – душа, платит ли человек за все свои деяния, добрые и хорошие, убедила Лиду совершить своеобразное «кругосветное» путешествие от Альфинска до Тюмени.
И вот она уже вторые сутки в пути. Миновали Уфу, Челябинск… И с каждым городом у Александры было что-то связано. В Уфе она всегда ждала появления памятника Салавату Юлаеву над кручей, под которой медленно катила свои воды река Белая. В Челябинске был в свое время самый лучший и просторный вокзал, по которому она стремительно пробегала во время стоянки поезда.
Усть-Катав, город мастеров, миновали на второй день поздним вечером, потому к поезду не сбежались толпы продавцов: какая торговля ночью? Александра вышла из вагона, ежась от ночной прохлады, прошлась туда-сюда, сожалея, что не может купить что-нибудь в подарок тавдинским друзьям: чего только не выносили к поезду мастера уральские, когда поезд шёл из Екатеринбурга – чеканки, инкрустированные картины из каменной крошки, ножи, пистолеты…
От Усть-Катава и городка со смешным названием Аша начались Уральские горы, величавые, немного мрачные. Александра забралась на полку и крепко заснула – до Екатеринбурга ехать еще около суток.
… Огромное, неестественно зеленое поле все в белых ромашках лежало у ног Александры. И там, за полем, виднелись аккуратные домики, они – цель долгого пути Александры. Насколько далек и долог ее путь, но ноги в кровь не избиты, сама она не уставшая, просто шла по полю, ощущая босыми ногами утреннюю росу.
Когда дошла до поселка, он был еще пуст и тих, солнце едва выбиралось из-за леса, и Александра поняла, что время – раннее утро. Только не слышала она никаких звуков, словно была глухой, но вскоре глухота стала исчезать, и вот мир взорвался щебетаньем птиц, где-то звучала музыка. И вдруг знакомый голос пропел озорную частушку: «Мы, воронежски девчата, потеряли кошелек, а милиция узнала, посадила на горшок!»
Александра споткнулась: это же любимая песенка Полины, второй жены брата Геннадия, которая ни слухом, ни голосом не обладала и могла петь лишь эту смешную, незамысловатую частушку. Она покрутила головой и увидела, что во дворе одного из домов какая-то женщина поливает розы и поет голосом Полины. Александра подошла ближе: и впрямь – Полина! Тут из дома вышел статный мужчина, одетый лишь в просторные брюки из льняной ткани, босой, и в нем Александра признала своего брата – таким красивым, с пышной волнистой шевелюрой, он был на одной из фотографий в фотоальбоме Павлы Федоровны. Он бросил взгляд на улицу и заулыбался:
– Пигалица, привет! Заходи!
Александра удивилась, что увидела брата, умершего несколько лет назад. Но не испугалась, резонно решив, что он жив, раз видит его и открыла калитку, вошла во двор. Брат обнял ее, не прижимая к обнаженной груди, пригласил зайти в дом. Из-за дома вышел Максим Егорович Дружников, тоже, как и Геннадий, в белых брюках. Геннадий, угадывая вопрос сестры, сказал:
– Папка с нами живет, а мама с дедом, – так они всегда звали Смирнова, – на другом конце улицы, ближе к лесу. Дед любит по грибы ходить да на рыбалку, а там – река.
И они, втроем, вошли в дом. Следом пришла и Полина, быстро накрыла на стол, оказалось, что она – ловкая, сноровистая, совсем не такая, какой она была в последние годы жизни – неряшливой, толстой и ленивой.
– Садись, поешь, – пригласил брат, и Александра согласилась, потому что проголодалась, бродя бескрайними полями.
Еда на столе оказалась простой, обычной – картошка, залитая маслом, присыпанная зеленью, гречневая каша да вишневый компот. Ещё стоял на столе большой серебряный кувшин. Александра осторожно присела на край легкого, хрупкого, сплетенного из лозы, стула, и Геннадий, заметив ее осторожность, произнес, улыбаясь:
– Не бойся, не упадешь, папка плел.
Несколько минут ели молча, когда поели, отведали компота. Хозяева налили в бокалы розовое питье из кувшина, а потом так же молча встали из-за стола. Полина принялась убирать со стола, остальные вышли во двор, устроились на удобных креслах, тоже плетеных из лозы, вокруг стола с такой же столешницей, покрытой цветастой клеёнкой.
– Ну что, сестренка, как дела?
– Знаешь, у меня странное чувство, словно я попала в машину времени. Мы с Лидой на твою могилу едем, на мамину, а ты – живой! Ген, я ничего не пойму.
– Ну, как тебе объяснить… – Геннадий задумался. – Понимаешь, я – живой, но в то же время – не живой в твоем понятии. Ты же читаешь фантастику, знаешь о параллельных мирах, вот и я теперь в таком мире, вернее, не я, а моя энергетическая суть. И ты видишь меня таким, каким хочешь видеть.
– Все равно не понимаю…
– Ну и не надо понимать, время твое еще не подошло.
– А мама? Ведь она… Она раньше тебя…
– Ну не мучайся ты! Да, раньше меня умерла, ну и что? А мы вот здесь – вновь вместе. А ты – там! – он махнул рукой в неопределенном направлении и крикнул: – Полина, позови мамку, скажи, Шурка-пигалица пришла!
У Александры вообще, как говорится, голова кругом пришла. Мама? Откуда? Живая?
Но Павла Федоровна и впрямь пришла, все такая же сухонькая, волосы острижены до шеи, в них совсем мало седины, а вот Смирнов – седой совсем, такой, как лежал в гробу.
– Мама! – вскочила на ноги Александра, бросилась к матери, обняла ее, ощутив слабый ток энергии, пробежавший по жилам, хотела крепко-крепко прижать ее к груди, но мать деликатно отстранилась. – Мамочка! Прости меня! За все прости!
– Шурочка, я давно уже тебя простила. Да и за что? Ты все делала для меня, что могла, и как умела. Я понимала, что у тебя уже своя семья, но все равно сердилась, если ты мало со мной разговаривала. Ну что было с меня взять? Малый и старый – все одно. А вот что Лиду взяла с собой – спасибо, она думала, что я не любила ее, но я очень ее любила, как и тебя, как Гену, как Витю… Я ложилась спать и молилась за вас всех, как умела. Это ты прости меня за обиды, что иной раз творила тебе. Помнишь, привезла ты из роддома Антошку, а я из дома ушла, не помогла тебе… Потом к Вите уехала… Знала, что обидишься, но уехала. Ты и у Лиды попроси за меня прощения, пусть знает, что я очень ее любила и переживала всегда за нее, ведь ее Семен – не сахар был характером.
– Мама, мам… – она положила голову на плечо матери, – мама, мне плохо без тебя, так плохо. Хочется поговорить с тобой, а тебя нет. Хочется посоветоваться, тебя нет…
– Шурка, не лукавь, – погрозила мать пальцем и вновь отстранилась, – ты всегда самостоятельной была, и не нужны тебе мои советы.
– Нужны, мамочка, нужны! Я только потом поняла, как была не права иной раз в спорах с тобой, когда защищала Витальку! Ты прости меня!
– Доченька, я давным-давно уже тебя простила, да и не сердилась я! Ты была хорошей дочерью, ты многим жертвовала ради меня. Но Виталька Изгомов… Тебе на роду было написано, чтобы через боль и беду понять свое предназначение. Но даже в самой худшей судьбе есть возможность для счастливых перемен.
– Ну и какое оно, мое предназначение? И какие у нас могут быть счастливые перемены? У нас, там, творится такое, и хорошо, что вы этого не видите – нет Советской страны, той, за которую бился Егор Корнилыч, твой отец, за которую погиб Максим Егорович, а отец Вити лишился ноги. Молодежь нашу спаивают, травят наркотиками, нашу страну мечтают постепенно заполонить другими народами… Ах, мама… Мне трудно об этом говорить!
– А ты, Пигалица, скажи, – хохотнул коротко Геннадий, – глядишь, и нам все будет ясно.
– Знаете, вы все, наверное, счастливые, что не видите ничего. Если бы вы знали, как мы трудно переживали реформы, как страшно было, особенно моему поколению, мы же выросли на коммунистических идеалах. А про фронтовиков даже и говорить нечего: было время, когда фронтовики боялись ходить в школы на встречу с ребятами.
Геннадий молча слушал, не глядя на сестру, чтобы она высказала наболевшее без стеснения.
– Мне плохо. Хочется, чтобы рядом был надежный человек, и могла я стать обычной женщиной, не лидером, ну, в конце концов, не ломовой лошадью, – Александра всхлипнула. – С самого детства – все сама да сама, что Виталька, уходя, укорил меня в том, мол, с ним не советовалась, все время по-своему поступала. А когда советовалась, он решение оставлял за мной.
– Дурак он, твой Виталька. Ты не жалей о разводе с ним. Разве тебе плохо живется без него?
– Нет, но трудно быть как в стишке: «Я и баба, и мужик, я корова – я и бык»…
– Ну а почему замуж не вышла? Ведь были рядом с тобой нормальные мужики.
– Были… Да, понимаешь, ваш брат, мужчины, не терпит соперников, а у всех моих друзей, я же не монахиня, есть непобедимые соперники – мои сыновья, их я никогда ни на кого не променяю. А вообще я думаю, что я – по жизни просто одинокий человек, мне одной лучше: то ли от моей самостоятельности, то ли, в самом деле, как говорят, карма такая…
Геннадий задумался над ее словами. И вдруг раздался от калитки знакомый, практически забытый голос:
– Ой, кого я вижу! Милая моя, наконец-то ты здесь!
Александра подняла голову, посмотрела на калитку и увидела там Николая Галушина.
– Коля! Откуда ты? Как здесь оказался? – удивилась Александра. И подумала раздраженно: «И здесь меня нашел!»
Геннадий тоже увидел Галушина, пригляделся и крикнул Александре:
– Будь осторожна!
Александра не поняла предостережения брата, ведь Галушин-то ее любил, это она прекрасно понимала, но не могла сойтись с ним, ведь она его не любила.
Галушин тихонько рассмеялся:
– Я же говорил, что браки совершаются на небесах, теперь я тебя никому не отдам, и мы будем вместе, – он вошел во двор, протянул руки к Александре, чтобы ее обнять. Александра отступила, а он опять сделал шаг к ней. Александра опять отступила…
В глазах Галушина блеснула злость, он закричал:
– Я же сказал, ты будешь моей, и я дождался! – и протянул руки к женщине, которые как-то странно удлинились.
Он не успел ничего сделать, потому что перед ним оказался Геннадий, заслонив сестру.
– Слушай, приятель, отстань от моей сестры! Она не желает иметь с тобой дело!
Галушин страшно побледнел и заскрипел зубами:
– Это там она тебе была сестра. А здесь мы с тобой на равных, так что уходи ты, а она будет моей! Я и так долго терпел, она издевалась надо мной, а ведь я ее люблю!
– В общем, так, – Геннадий весь подобрался, – отстань от сестры, я сказал! Ты что? Не видишь ее голубую ауру? Она не такая, как мы!
Галушин остановился, словно на стену натолкнулся, а возле Геннадия возникли Анатолий и Володя Изгомовы, их лица не обещали незваному пришельцу ничего хорошего. Но драке было не суждено разгореться: откуда-то из воздуха возникла женщина в белом. Все трое склонили перед ней головы, и Галушин медленно побрел прочь.
– Откуда он здесь взялся, среди вас?
Анатолий серьезно ответил:
– Новенький, он у нас в декабре появился. Чистилище еще не прошел, вот и агрессивный.
– А я и не знала… – Александре стало не по себе: Галушин, оказывается уже не «там», а она и не знала.
Анатолий ласково улыбнулся, в глазах его светилось мягкое тепло, тихо, проникновенно сказал:
– Ты не бойся, мы тебя никому в обиду не дадим. Я и Вовка, мы тебя всегда любили и любим, ты – наша любимая сестренка.
И Александра вспомнила, как старшие братья Виталия приходили к ним и отпрашивали Виталия на мальчишник, обещая привести его домой в обещанное время. И ни разу не изменили своему слову. Володя однажды обежал весь город, когда Александре понадобился деготь, чтобы приготовить мазь – у нее от токсикоза, когда она была беременна Антоном, сильно опухали ноги. Она тогда лежала в больнице, и однажды вечером медсестра вызвала ее в ординаторскую. Александра вошла и увидела Володю. Тот вскочил и показал бутылку, наполненную черной жидкостью. По комнате потек густой запах дегтя.
– Вот! Виталька сказал, что тебе дёготь нужен. Я достал. Вот! Весь город пробежал, и достал!
Вспомнив про тот случай, Александра сказала:
– Прости меня, Володя, за все прости, если обидела тебя. И ты, Толик, прости, – она знала, почему просила прощения. Перед Володей было стыдно за то, что пожалела новую дубленку Виталия, увидев её на Володе. А у Володи просто не было теплой одежды – он приехал из Коканда, где жил восемь лет, практически без вещей: жена, узнав о его связи с другой женщиной, без всякого скандала просто предложила уйти. Володя был так обескуражен поведением жены, что побросал в дорожную сумку то, что попало под руку, лишь в поезде увидел, что в сумке много ненужного, но возвращаться домой не стал.
А перед Толиком была другая вина: он однажды решил вырваться из Тавды и написал Виталию, попросив приютить его на время. Александра тогда испугалась: двор у них пьяный, и Анатолий тоже не прочь выпить – как бы Виталий не спился. И написала отказ. Потом ей стало стыдно, но было уже поздно: Анатолий уехал в другое место. Встретились они, когда Александра ждала второго ребенка, и приехала в отпуск в Тавду – захотелось увидеть родной город, показать его семилетнему Антону. Толик держался свободно и очень обрадовался, увидев свояченицу, похвастался, что его жена тоже ждёт ребёнка. «А ты почему здесь?» – удивилась Александра. – «Да разбежались мы…» – «Толик! Ты что, бросил беременную жену?» Толик немного смутился, но что ответить? Не мог он долго быть с одной женщиной, тянуло его к другим: таким уж уродился. А, может быть, виновата в том была его мать, которой никто, кроме себя, любимой, никто не нужен? Толик любил первую жену, ушел в армию, она обещала его ждать, потому что родилась дочь. Толик, не чуя ног от радости, приехал домой после окончания службы, но дома ни жены, ни дочери не было. Потом, встретившись с Любашей, узнал, что мать просто выставила её с маленькой дочерью на улицу. О том, что она жила на квартире, работала в двух местах, чтобы было на что содержать дочь, Любаша Анатолию не написала: не хотела тревожить его до конца службы. Как ни уговаривал её Толик вернуться к нему, просился к ней на квартиру, Любаша не согласилась сойтись обратно. С тех пор и покатилась жизнь Анатолия под откос.
Анатолий понял все, о чем думала свояченица, улыбнулся с прежней теплотой:
– Проехали, Саш, не бери в голову, я никогда на тебя на обижался, понимал же, что не хотела ты, чтобы Виталька тоже пить стал с нами, но зря ты так думала, мы бы такого никогда не допустили. Мы уважали тётю Полю, а тебя любили. Да и сейчас любим.
У Александры отлегло от сердца: как хорошо, когда тебя прощают! Но чувство вины не прошло.
– Хорошо здесь у вас, вот бы здесь остаться… – сказала она, но Геннадий сурово сказал:
– Нет! Не твой черед!
– Кто? – закричала Александра, ведь сестра жаловалась на здоровье – стенокардию у нее признали, как когда-то и у мамы.
– Нет, – покачал головой Геннадий, – и не она. Ты правильно ей сказала, что нечего о смерти думать. Молодец!
– Кто? – требовательно спросила его Александра.
– Не ты! И не она…
И все вокруг превратилось в зыбкое марево…
Сестры встретились в Екатеринбурге на железнодорожном вокзале. Купив билеты до Тавды, отправились бродить по городу, в котором давно не были.
Екатеринбург изменился, стал краше, в нем появилось много современных зданий из стекла и бетона. А центр – проспект Ленина – практически тот же, лишь разукрасился рекламными вывесками и баннерами. Они пошли от вокзала до проспекта по улице Свердлова, вышли на улицу Карла Либкнехта, постояли перед храмом, который был построен на месте дома инженера Ипатьева, где встретила свои последние дни царская семья. Александра вспомнила Кострому, Ипатьевский монастырь, музейную экспозицию в бывших палатах царя Михаила. Потом по Первомайской добрели до набережной Верх-Исетского пруда со стороны улицы Горького.
Лида то охала, восхищаясь городом, то возмущенно бурчала, увидев в магазинах ценники товаров – в Новороссийске, дескать, дешевле… Они погуляли по музею камней на набережной Исети со стороны улицы Воеводина. И всюду Александра без устали щелкала затвором фотоаппарата. Фотография – это было ее второе детское, после рисования, увлечение, которому она не изменила до зрелых лет. В ее семейном архиве было шестнадцать массивных фотоальбомов, начиная с учебы в начальной школе. В то время она увлеченно занималась черно-белой фотографией, имела все необходимое оборудование. А в конце двадцатого века всюду росли, как грибы, фото-сервисы по изготовлению цветных фотографий, достаточно было лишь сдать фотопленку в сервисный центр. Затем плёночные фотоаппараты стали вытесняться цифровыми приборами, и Александра, пользуясь автоматическим «Зенитом» мечтала уже о «цифровике», чтобы фотографии хранить не в альбоме, а на компьютерном диске.
Когда сёстры ехали в Альфинск, Лида все время говорила: «Вот Калиново…», но была Согра. «Вот сейчас будет Мурзинка», а была Аять… А потом и в самом деле промелькнула Мурзинка, с правой стороны открылось озеро, с левой – Альфинск.
На вокзале их ожидала Роза Егоровна с испуганными глазами, и сходу начала жаловаться, что живет плохо, затем попеняла, почему не написали, что племянницы приедут вдвоем, для Лиды пропуск есть, а для Александры пропуск в город Роза не смогла заказать, потому что у Зои обнаружили рак желудка, она почти при смерти, потому помочь с пропуском не может. Все это она выговорила на едином дыхании, не дав даже словечка вклинить племянницам в её речь.