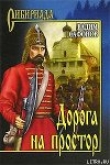Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 64 страниц)
Заря и правда, как только Ермолаевы приехали в Тавду, где их никто не знал, стала всем представляться Зоей, и домашним велела так себя называть. И если кто-то по привычке обращался к ней иначе, сердилась: «И что это вы, мама, выдумали мне какое-то коровье имя! Это все Панька, её пионерские штучки!»
Сёстры, и правда, Павла и сама видела, не очень почитали её, старшую сестру, а ведь находились на полном иждивении её и Максима, потому что «партизанскую» пенсию за Егора с Ефимовны сняли, объяснив это тем, что она вполне работоспособна, и может заработать пенсию сама. Может быть, неуважение сестёр возникло ещё тогда, когда Павла сошлась с Иваном Копаевым, и мать костерила дочь, не выбирая слов, а, может, и впрямь действовало бабушкино проклятие, которое отнюдь не способствовало миру в семье. Так не так, но Павле всегда труднее давалось счастье, которое потом обходило стороной и её детей. Но сейчас Павла, добрая и бесхитростная душа, в ответ на предостережение мужа рассмеялась:
– Да что ты, Максим, они ведь сёстры мне! – и не знала она, как близок Максим к истине, не поверила в его пророчество, хотя знала, что муж о людях всегда судит правильно, умеет определять в них плохое и хорошее. Знала, но не поверила его словам.
Павла стала работать в городской газете случайно, никогда она об этом и не думала, а случилось все неожиданно не только для неё, но и для родных. А произошло все так.
Однажды позвонил главный инженер девятого лесозавода Розен и потребовал соединить его с бухгалтерией, где, как знала Павла, работала его жена, да и как не знать, когда он по пять раз на дню ей звонил и обычно болтал минут по двадцать. Сама Павла те разговоры не подслушивала не столько из-за инструкции, запрещающей это делать, сколько из-за того, что по натуре не была любопытной. А вот Маша Чайка, чрезвычайно любопытная особа, сказала, что Розен звонит жене, чтобы посоветоваться: привезти ли дров, купить ли ковер по случаю или еще о чём-либо домашнем. И всегда требовал соединить его быстро.
– Ты, Паня, сразу его соединяй, а то Розен – человечишка никчемный, даром что ученый да грамотный. Не потрафишь – с работы сживёт. А тебе это надо? – предостерегла Маша новенькую.
Павла так и делала, но в тот день была большая «звонка» – так телефонистки звали часы пик – и Павла уже держала в руках три штекера, когда резкий звонок ударил по уху, и не менее резкий требовательный голос назвал номер бухгалтерии. Прошло несколько секунд, пока она вставила в нужные гнезда все штекеры, собираясь соединить Розена с бухгалтерией. И тут левый наушник взорвался криком:
– Я долго буду ждать?
– Сейчас соединю, извините, – откликнулась Павла.
– Да не нужно мне твоё извинение, раззява чёртова! Сидишь там, клуша, соединить быстро не можешь!
– Во-первых, вы не долго ждали, – возмутилась Павла, – а во-вторых, почему вы так со мной разговариваете?
– Ты что? – взвизгнул Розен. – Или не знаешь, кто я?
– Знаю, но кричать не обязательно, – ледяным тоном ответила Павла, и Маша Чайка замерла: уж если Дружникова так заговорила, то жди неприятностей. Павла не заставила ждать. – Кричать будете ночью на свою Любовь Васильевну, ненаглядную свою Любочку, а не на меня. Служебный телефон существует для служебных разговоров, а не для семейного сюсюканья! – и она отработанным движением соединила отдел кадров с директором завода, и только потом Розена с бухгалтерией.
Через несколько минут Розен потребовал соединить его с начальником телефонной станции Лебедевым. «Жаловаться будет!» – усмехнулась Павла, и вскоре голос Лебедева в наушнике подтвердил это:
– Павла, чего ты там наговорила Розену, он так орал и слюной брызгал, что стой я рядом с ним – точно бы угорел, – Лебедев не спорил с начальством, но не упускал случая «проехаться» по любому начальнику, кто был важнее его по должности. Розен же имел на заводе прозвище Душник, потому что всегда при разговоре слюна от него летела в разные стороны, и это было тем неприятнее, что зубы у Розена – гнилые.
– Да я, Иван Федотыч, не сразу соединила его с бухгалтерией, – начала оправдываться Павла, – тут «звонка» такая, а он кричать ещё начал. Я ему и сказала, что может ночью кричать на свою Любочку, а не на меня.
Лебедев только крякнул в трубку.
– Знаешь, Павла, он велел тебя наказать – премии лишить.
– Ну и наказывайте, если совесть позволит, – отрезала Павла.
Лебедев Павлу не наказал, премию она получила – всё-таки одна из лучших телефонисток, бывает, и в глаза правду-матку вырежет, но это случалось редко, потому что Павла – женщина молчаливая и терпеливая. Да Лебедев и сам был правдолюбец, с людьми поступал по справедливости, а Павлу ещё уважал и за грамотность – учительница бывшая, в одном из цехов завода занималась с рабочими политграмотой. Про нее даже в газете писали.
Розен оказался злопамятным, проверил по расчётной ведомости в бухгалтерии, что его распоряжение не выполнено. Лебедев позвал Павлу к себе в «чуланчик» – так в пождепо звали его малюсенький кабинет, заваленный деталями для коммутатора и проводами настолько, что самому Лебедеву почти не оставалось места.
– Охо-хо! – вздохнул Иван Федотович. – Розен, зараза чертова, все же требует тебя наказать. Если я тово… это, – он показал рукой, словно что-то вычеркивал из списка, – ты не обидишься?
– Обижусь, – посмотрела на него прямым немигающим взглядом Павла и вернулась в коммутаторную, и вскоре услышала в наушнике:
– Павла, ты бы хоть извинилась перед ним, чтобы отстал, а то ведь со свету сживет и меня, и тебя, – жалобно сказал Иван Федотович, но Павла его не пожалела, ответила резко:
– Извиняться мне перед ним не из-за чего, я не виновата, что у меня не десять рук, а всего две!
Лебедев печально вздохнул и решил, что на сей раз лишит Павлу премии, зато в следующем месяце увеличит вдвое, вот и Розену угодит, и Павлу не обидит. Но Павла нарушила его планы, и таким образом, что никто и предположить не мог. И опять об этом Лебедеву сообщил зловредный Розен. Вызвал его к себе и ткнул пальцем в городскую газету:
– Это что? – спросил он грозно.
– А что, Станислав Робертович? – сделал Иван Федотович глупое наивное лицо.
– Это Дружникова твоя нацарапала? – он потряс перед носом Лебедева газетой. – Читай!
И Лебедев прочёл про скандальный случай с Павлой. И так хлёстко было написано, что Лебедев только седые усы пальцем обтёр, чтобы Розен не заметил его ухмылку. Но самое главное – под заметкой стояла фамилия Павлы.
– Н-да, – только и произнёс Лебедев, ожидая взрыва.
И взрыв произошел.
– Чтобы я голоса её больше не слышал, а то самого уволю! – зашелся в крике Розен, брызгая слюной. – Чтоб дура-баба какая-то ещё и фельетоны про меня писала! Шалава! Телефонистка го… я, а туда же – в газету пишет, б…дь такая!
– Вообще-то Дружникова замужем… – вставил Иван Федотович в поток брани Розена своё замечание. Розен, услышав это, разразился новой злобной тирадой, из которой следовало, что хуже Дружниковой на свете женщины нет.
Лебедев на станцию возвращался с думой, как вызволить из беды строптивую тихоню Дружникову, уж больно жаль её потерять, работница хорошая да и, практически, безответная. И что её заставило с Розеном сцепиться? Но не знал Иван Федотович, как сладить и с Розеном. «А молодец, здорово Розена отхлестала! – подумал с теплотой. – А то рабочего человека за быдло считает, за слуг, которые должны выполнять его прихоти: и квартиру отремонтировал за счет завода, и телефон установили, тоже ни копеечки не заплатил. Н-да, что же делать с Павлой?»
Дело разрешилось само собой, и когда Лебедев о том узнал, то порадовался за Павлу – знал бульдожью хватку Розена: уж если вцепится в кого, то со свету сживёт, сколько начальников цехов из-за него в простых рабочих ходят, деловые мужики, правда, норовистые, вот за свой норов и поплатились.
А развязка была такова, что Павлу пригласили работать в газету.
– То-то позеленеет Розен, как увидит тебя, Павла! – позлорадствовал Иван Федотович, когда Павла принесла ему подписывать заявление на увольнение. – Ну а драмкружок наш не бросишь? Уж так ты душевно играешь, Павла Фёдоровна! Аж слезу вышибаешь, – разооткровенничался Лебедев.
– Нет, конечно, – ответила Павла.
Как могла она бросить драмкружок, если на сцене испытывала такую радость, какую и в реальной жизни не испытывала?
В детстве, когда жив был Ермолаев, она собирала открытки с портретами знаменитых русских и заграничных киноактеров немого кино. А когда в Тюмени на улице Республики открыли кинематограф, бегала туда с подругами чуть ли не каждое воскресенье. С замирающим сердцем смотрела на экран и представляла себя великой актрисой, как, например, танцовщица Исидора Дункан или те, кто снимался в кино с Чарли Чаплиным. И никому, даже отцу, не доверяла она свою тайную мечту: окончить школу и поехать учиться в театральное училище. Но смерть Егора разрушила её мечты, а когда она заикнулась матери о театральном училище, то Ефимовна пригрозила выдрать «все космы», если не выбросит из головы своё намерение: актрисы, как считала мать, все – женщины легкого поведения. Павла любила мать, но та никогда не понимала, и даже не пыталась поговорить со старшей дочерью об её мечте. И окончательно рассталась Павла со своей мечтой стать актрисой у тетки Анны в Вятке, которая теперь зовётся Кировом. К Анне иногда заходил брат её подруги Клавдии, и он рассказывал, что та, прежде чем стала сестрой милосердия, долго играла в различных театрах. Она совсем юной сбежала с заезжим актером, ну, а как жилось Клавдии в актрисах, Анна и сама знала из её рассказов. Поэтому, как и мать, она запретила племяннице даже думать о сцене.
Но, видимо, было предопределено Павле судьбой, что довелось ей всё-таки выйти на сцену пусть самодеятельного, но все же – театра.
На заводе «семи-девять» при клубе, построенном рядом со зданием пожарной охраны, работал драматический кружок, и руководила им сухонькая, маленькая очень интеллигентная и благообразная старушка – Эмма Андреевна. И хотя в Тавде работал городской театр имени Сталина, драмкружок клуба «семи-девять» был знаменит на весь поселок. Во время спектаклей в клубе, вмещавшем сто человек, было не протолкнуться – зрители сидели на скамейках, стиснутые теми, кто стоял в проходах. Ребятишки со Сталинской улицы гроздьями висели у края сцены, завороженно глядя на артистов, или же восторженно хохотали, катаясь на полу перед сценой. Каждый спектакль был праздником, похожим на маленькое чудо. Да и впрямь это было чудом увидеть обычных людей, своих знакомых, друзей на сцене, игравших так самозабвенно, так пылко, что люди забывали о своём времени, улетая вместе с героями в их время. Чудо было и то, что люди охотно шли на спектакли. Да и вообще тогда жили открыто, сообща делили радости и горе, вместе встречали праздники. «Человек человеку – друг», – это, наверное, из того простодушного времени, эта фраза была тогда не смешной, она была действующей, хотя надвигалось другое время – время страха.
В театральном кружке клуба «семи-девять» занимались рабочие и служащие лесопильных заводов, они ставили не только незатейливые бытовые сценки, списанные с жизни самих же артистов или их знакомых, но брались за пьесы маститых драматургов. Эмма Андреевна, в прошлом провинциальная актриса, страстно мечтала поставить «Грозу» Островского, в котором сама играла когда-то Катерину.
В репертуаре тавдинского театра этот спектакль был, но игра актеров Эмме Андреевне совсем не нравилась. «Хорошие люди – Урванцев, Свободина, Кудрявцева, но не им играть „Грозу“», – считала Эмма Андреевна. В её голове рождались декорации, она придумывала грим, костюмы, «примеривала» мысленно на роли своих кружковцев, однако никого не могла найти на роли Катерины и Бориса. Представила однажды Агапа Лобова в роли Бориса и рассмеялась.
Народ в кружке был простой, влюбленный в Эмму Андреевну и свой самодеятельный театр, но ведь одной влюбленности мало, потому-то и случались всякие курьезы.
Как-то увалень Агап Лобов, высокий плечистый мужичище, играя роль подвыпившего купца, так вошел в образ, что, усевшись за стол, забыл, где находится, и рявкнул на свою партнершу Тамару-телефонистку, как бывало, рычал пьяный на свою, им же затюканную, болезненную жену:
– Ты, тудыть твою в качель, дашь пожрать или нет?! – и громыхнул кулачищем по столешнице, добавив такое забористое ругательство, что зал – дюжие пожарные и лесопильщики – упал в лёжку от громового хохота, будь клуб поплоше, наверное, и крыша бы рухнула.
Эмма Андреевна сначала грозила из-за кулис Агапу пальцем, что Лобов переврал текст, но, услышав его брань, рухнула в обморок, и её несколько минут отпаивали валерьянкой, приводя в чувство. Эмма Андреевна заламывала руки, стонала, не в силах вымолвить ни слова, тем более подняться. Однако, когда Лобов, отыграв под незатихающий смех свою сцену, появился за кулисами, Эмма Андреевна тут же резво вскочила с кушетки, подскочила к незадачливому артисту и принялась колотить сухонькими кулачками по его широченной груди, подпрыгивая и норовя стукнуть его по носу:
– Ах ты, паразит этакий, что ты завернул на сцене, а? – кричала она так звонко, что слышно было и в зале, отчего там стоял просто сплошной стон: люди не могли уже и смеяться. – Это тебе сцена или лес? А может это тебе пивнушка?
Лобов хлопал ресницами, держал руки по швам и даже не оборонялся: всё равно Эмма Андреевна не доставала до его лица, а что молотила его по груди, так ему от этого было только щекотно и смешно. Вокруг них сгибались вдвое от хохота кружковцы, а Лобов засмеяться боялся, потому что никогда ещё не видел Эмму Андреевну такой разъярённой. Она ведь сейчас, в гневе, наверное, могла его из кружка выгнать, а Лобов кружок очень любил и с тех пор, как начал играть в самодеятельном театре, капли спиртного в рот не брал. И все-таки, чтобы ни случалось во время спектаклей, Эмма Андреевна любила и театр, и своих актеров, мечтая вместе с ними поставить «Грозу». На роль Бориса Эмма Андреевна решила привлечь молодого инженера Стрельцова, тоже, кстати, Бориса, который приехал на девятый завод после окончания института. А вот кто бы мог сыграть Катерину? Эмма Андреевна уже впала в отчаяние, и…
– И Бог сжалился надо мной! – сказала потом Эмма Андреевна.
Бог или еще кто иной помог старой актрисе, но зашла она однажды в коммутаторную к Тамаре и увидела, что за одной из секций сидит молодая темноволосая женщина. Она мельком глянула на вошедшую старушку и равнодушно отвернулась. Эмма Андреевна всплеснула руками, ахнула: «Она, Катерина! – именно такой и виделась ей героиня „Грозы“: серо-голубые выразительные глаза, бледные щеки. – Натура, видимо, артистичная, волосы, правда, стриженые. Но ничего – парик наденем. Правда, в положении она, но ничего, пока репетируем – родит, – прикидывала в уме Эмма Андреевна, разглядывая Павлу Дружникову. – Как бы её уговорить?»
Но уговаривать Павлу не пришлось: едва услышала, кого предстоит ей сыграть, с радостью согласилась – Катерина и самой Павле нравилась.
Так вот и стала явью давняя мечта Павлы – стать артисткой.
Катерину Павла на премьере играла блистательно и как однажды Агап Лобов, так вошла в роль, что когда подошел момент Катерине броситься с обрыва в реку, Павле за распахнутыми дверями в глубине сцены, где как бы находился обрыв, в самом деле, привиделась холодная, мрачная река. И Павла рухнула без чувств на подложенные для смягчения удара матрацы.
Публика, ошеломленная, молчала. В тишине слышались лишь женские всхлипывания, а за кулисами приводили в чувство Павлу. И едва она открыла глаза, услышала громкие аплодисменты в зале, улыбнулась, готовая выйти на поклон, однако Максим, простоявший рядом на коленях, пока она находилась в беспамятстве, схватил Павлу в охапку и на руках отнёс домой в костюме и гриме, благо дом – через дорогу от клуба.
Максим бережно уложил жену на кровать – дома никого не было, Ефимовна с детьми тоже была на спектакле – упал на колени, прошептал, уткнувшись лицом в грудь Павлы:
– Не дам я тебе больше играть, я сам чуть не умер, как ты в обморок упала.
– Как это не дашь? – удивилась Павла и твердо сказала: – Я буду играть!
Максима словно пружиной подбросило. Он забегал по комнате, заматерился – ругатель, как сказывал в свое время дед Артемий, в самом деле, Максим был страшный, но никогда и пальцем не трогал жену да и ругался-то абстрактно, ни разу не задев ее бранным словом. Пробегавшись, отведя душу в ругани, Максим присел на краешек постели:
– Прости, Панек, но не могу, пойми ты, не могу смотреть, как ты на сцене с другими мужиками целуешься!
– Да мы целуемся понарошку, – улыбнулась Павла. – Это из зала кажется, что на самом деле, а так и губами даже не прикасаемся.
– Все равно не могу! – вскричал Максим, опять вскочил, но тут раздался стук в дверь, и в квартиру с охапками черемухи в руках – на дворе уже цвел май – ввалилась вся их самодеятельная труппа. Товарищи по сцене с восторгом рассказывали, как грохотал зал от оваций, требуя Павлу на поклон. Эмма Андреевна то всплескивала руками, то вытирала слезы кружевным платочком и беспрестанно лепетала:
– Пашенька, деточка моя, вы так талантливы, так талантливы, даже я так правдиво не могла играть Катерину, вы превзошли меня, деточка, милая вы моя. И Борис не смог бы так хорошо играть, если бы не вы, голубушка вы моя.
Стрельцов смотрел на Павлу из-за спин мужиков блестящими яркими глазами, улыбался и слегка помахивал черемуховой веточкой над головой. И от этого взгляда, от густого терпкого черемухового запаха Павле почему-то стало жарко, а сердце шевельнулось неожиданно в груди и забилось неистово и гулко. Женщина постаралась отвести в сторону глаза, чтобы не заметил Борис, а тем более Максим, в её взгляде что-то тайно-запретное.
Максим был очень ревнив. Он и сам не знал раньше, насколько ревнив. Ему было безразлично, как и на кого смотрит Ефросинья, если когда и целовала кого-либо в компании, когда играли в фантики или бутылочки – Максима это совершенно не задевало. Ефросинья даже обижалась иногда, выговаривая Максиму, что раз он её не ревнует, то и не любит. Максим отшучивался, однако, и в самом деле не ревновал. Другое дело – Павла, молодая, образованная, уважаемая людьми, вокруг столько молодых мужиков, которым он был готов глаза повыкалывать, чтобы не пялились на его жену. И страшно боялся, что Павла полюбит кого-нибудь, бросит его, а он жизни без неё не представлял, удивляясь сам себе, как столько лет мог жить с Ефросиньей.
Дикая ревность Максима дошла однажды до настоящей глупости.
Профком завода наградил членов драмкружка в честь Первого мая однодневными путевками в дом отдыха, который выстроили за городом в сосновом бору. Все кружковцы поехали туда парами, решили отдохнуть и Дружниковы.
Мужики тайком от Эммы Андреевны прихватили с собой несколько бутылок водки, и когда сели к вечеру за столы, набродившись за день по лесу, всем досталось по небольшой стопочке. И не пьяные, а настроение поднялось ещё больше. Агап Лобов растянул меха гармошки, которая в его громадных ручищах казалась игрушечной, запел, ему подтянули, однако на месте не сиделось, и Ефим Чайка пробасил:
– Ну, вас к лешему, бабы! Хватит петь, давайте лучше спляшем! – и первый выскочил из-за стола, следом другие начали столы отодвигать в сторону, стулья расставлять вдоль стены.
Максим любил плясать, а еще больше любил, когда жена выходила в круг. Он вылетал ей навстречу, сияя всем лицом, дробно стучал каблуками, вертелся волчком вокруг, и мало кто мог переплясать Дружниковых, если они в кругу вместе. Любил Максим и петь вместе с Павлой, но не терпел, если рядом с ней пели либо плясали другие мужчины. Ревность бешеной волной шибала в голову, лишала разума, и не раз Дружниковы уходили преждевременно из компании, едва Максиму казалось, что кто-то ухаживает за Павлой. Друзья, конечно, знали о его диком ревнивом нраве и старались не раздражать Максима, который на шутку-подковырку в свой адрес отвечал более соленой шуткой, порой и вообще внимания на смешки не обращал, но не мог спокойно терпеть ухаживания за женой. В нем вспыхивало первобытное звериное чувство самца-собственника, который никому не желал уступать свое право владения самкой.
Но ничего этого не знал Борис Стрельцов. Ему нравилась Павла Дружникова, и поцеловать её на сцене норовил он по-настоящему, и обнимал крепче, чем требовалось по сценарию. На репетициях старался всегда оказаться рядом, заговорить. Борис недоумевал совершенно искренне, почему Павла замужем за Дружниковым. Слов нет, Максим – хозяйственный мужик, ловкий, добрый и, наверное, порядочный, если кроме своих детей, воспитывает ещё и сестер жены, но ведь старше Павлы намного, и неграмотный ко всему. Что их связывает? Этого Борис понять не мог. А чувство его к Павле выросло уже настолько, что Борис готов был признаться Павле не только в любви, но и принять на себя обязательства по воспитанию её детей. Потому, когда вступила Павла в круг, он ринулся за ней одновременно с Максимом. Правда, Павла, проплыла, словно пава, по кругу и через пару минут села на место: она была беременна и быстро уставала. Максим не пошел за ней: стиснув зубы, всё выделывал ногами кренделя, сверля взглядом Бориса. Стрельцова тоже захватил азарт, и он решил во что бы то ни стало победить Дружникова в пляске. Агап, глядя на них, забавлялся, все убыстрял и убыстрял темп. В кругу, кроме Бориса и Максима никого уж не осталось, у обоих плясунов рубашки – хоть выжимай от пота, но ни тот, ни другой не хотели сдаться – прыгали, словно драчливые петухи. И неизвестно, чем бы всё кончилось, если б Агап не сообразил, что соперничество разыгралось не на шутку:
– Ну, вас к чёрту, мужики, устал я! – заявил он и громко сжал меха гармони. Та возмущенно ахнула и замолчала.
Зрители разошлись по сторонам, лишь Максим и Борис стояли в центре зала, тяжело дыша, по-бычьи наклонив головы, и буравили друг друга злыми глазами. Потом оба стали медленно пятиться в разные стороны, словно два кота, которые, не зная силы друг друга, не решаются ввязаться в драку.
К вечеру прибыли два грузовика со скамейками в кузове. Кружковцы, уставшие за день, гомоня, принялись усаживаться. И надо же было такому случиться, что вместе с Дружниковыми к одной из машин подошел и Стрельцов. Он с улыбкой предложил:
– Садись, Паня, в кабину. Меньше растрясет.
Максим скрипнул зубами, пробурчал, сверкнув злым взглядом на Стрельцова:
– Мы на другой машине поедем.
Борис пожал плечами и вскочил в кузов, а в кабину посадили Зинаиду Лобову, тоже беременную.
В кабине другой машины сидела уже Эмма Андреевна, и Павле свою помощь предложил Ефим Чайка, протянув руки из кузова:
– Пань, давай сюда, мы тебе место у кабины освободим.
Но Максим вдруг дёрнул жену за руку и прошипел:
– И на этой не поедем!
– Да ведь не будет другой машины, что ты, Максим? – удивилась Павла.
– Сказал: не поедем! – Глаза Максима стали белесыми от злости, усы встопорщились, вспухли желваки на бледных скулах, кулаки сжались. Павла не осмелилась противоречить, первой отошла от машины, устало присела на ступени крыльца.
Максим сказал кружковцам, что Павле стало плохо, и они будут ночевать в доме отдыха, изобразил кое-как улыбку и отправился к жене.
Машины, заурчав, выкатились за ворота, а Максим пошел узнавать, как можно добраться до города, но ему ответили, что до утра никакой машины больше не будет, лишь утром придёт продуктовый фургон. Максим раздраженно сплюнул и, проходя мимо Павлы, приказал:
– Пойдем пешком!
– Ты что? – возмутилась Павла. – Давай переночуем здесь, а утром уедем.
Но Максим ничего не ответил, даже не обернулся, шагая к воротам.
Павла вздохнула и поднялась с крыльца, понимая, что если заупрямится и останется в доме отдыха ночевать, то Максим, который уже явно ничего не соображал, может натворить невесть что.
Идти до Тавды надо было десять километров. При хорошей ходьбе – два часа. Но какой ходок из Павлы, когда ноги устали, а под сердцем сердито ворочается младенец? Максим шагал далеко впереди, по-прежнему не оглядываясь. Уже начинало смеркаться, и Павле стало страшно. К тому же становилось прохладно, и она замерзла, хотя одета в теплый жакет. Весна – не лето, днем солнышко пригреет, а к ночи мороз прихватит. Слабые городские огоньки где-то маячили далеко-далеко, словно на краю земли. Павла крикнула мужу:
– Максим, я устала, давай отдохнем!
– Ничо, дойдешь, небось! – отозвался, не оглядываясь, он.
– Господи, какая же ты сволочь! – вырвалось у Павлы.
– Что ты сказала? – Максим возник из сумерек, отвесил жене пощёчину, развернулся и ушел прочь.
Павла присела у обочины, уткнула голову в колени и тихо, тоскливо заплакала, впервые пожалев о том, что вышла замуж за Дружникова. Всплыли в памяти минуты его насилия в Шабалино, и как она точно также плакала, словно побитая собачонка. И почему-то вспомнился Борис Стрельцов, его ласковые руки, когда он обнимал её трепетно и нежно на сцене.
Максим прошагал примерно километр, когда понял, что сзади не слышно дыхания жены, и вообще кругом тишина, на дороге он один, над головой звездное небо, да выползла из-за леса луна. Сердце Максима на миг замерло от испуга: где Павла? По спине пополз холодный пот, и он побежал назад. Его сердце отчаянно колотилось, словно хотело вырваться из груди, а Павлы нигде не было видно, но, наконец – слава луне! – Максим увидел на обочине сгорбленную фигурку и услышал, как Павла жалобно всхлипывает. Максим рухнул перед женой на колени, осыпал поцелуями её лицо:
– Панёк, ну прости ты меня, дурака, мужика глупого! – он подхватил Павлу на руки, зашагал по дороге, целуя её беспорядочно в нос, губы, глаза.
Так и нёс на руках до самых огней. И хоть с каждым шагом казалось, что Павла тяжелеет, но ведь своя ноша не тяжка. Через пристанский посёлок вышел Максим к самой железнодорожной станции.
– Пусти, – тихо попросила Павла. Она уже успокоилась и даже задремала, убаюканная мерным широким шагом мужа. – Здесь я сама дойду.
– Молчи, молчи, – шепнул ей в ухо Максим. – Молчи, родная, я донесу.
Театр… Несбывшаяся мечта… И пусть в клубе лесозавода небольшая неприспособленная сцена, но Павла всегда чувствовала себя по-настоящему счастливой, вглядываясь со сцены в темноту зала, видя знакомые зачарованные глаза. Может быть, и Гена вырос певучим, что Павла была счастлива на сцене, когда была им беременна.
Максим во время спектаклей метался за кулисами, скрипел зубами, сжимал кулаки, глядя, как по ходу действия его жену – его! – обнимал и целовал чужой мужчина. Одно лишь утешало Максима, что Борис Стрельцов, к которому Максим сильнее всего ревновал Павлу, уехал к великому сожалению Эммы Андреевны: Розен терпеть не мог возле себя инженеров способнее и умнее себя – выглядеть на фоне тупиц, конечно, выгоднее. Но в драмкружке занимались Ефим Чайка и Агап Лобов – мужчины, которые были ниже по интеллекту Павлы и никак не могли заинтересовать её, однако Максим этого не понимал. И все-таки, как бы ни злился Максим, сколько бы ни закатывал скандалов, Павла продолжала заниматься в драмкружке, хотя перешла на работу в редакцию.
Новая работа нравилась Павле: новые знакомства, разные встречи, всегда она в гуще событий – она получила то, чего не хватало ей в семейной жизни. Максим при всей своей деловитости и хозяйственности, природной сметливости был совершенно необразован, умея лишь расписаться, кое-как прочитать небольшой текст. Впрочем, он и читать не любил, а писать и вообще не умел. Он в пол-уха слушал радио, на газеты даже не смотрел, политикой не интересовался, и Павла не переставала удивляться, как он оказался добровольцем в Красной гвардии: единственное, что знал из программы большевиков, что те «за бедный народ», как смог без всякой пропаганды увлечь за собой односельчан в колхоз?
Сбылось и предсказание Лебедева: Розен чуть дара речи не лишился, когда увидел её корреспондентское удостоверение, долго изумленно молчал, не зная, как вести себя с бывшей бесправной, на его взгляд, телефонисткой, а теперь опасным человеком – работником городской газеты. Решил, что грубость – себе дороже, и Павла усмехнулась уголками губ – широкая улыбка редко бывала на ее лице – наблюдая, как засуетился Розен, предлагая сесть, выпить чаю.
Смятение Розена Павле было понятно: вдруг из-за старой обиды «накатает» Дружникова на него фельетон, ведь в его работе огрехов немало. Но не знал Розен, что Павла не умела таить злость, не умела мстить, хотя возможность для того имела.
В то тревожное время газетчиков боялись так же, как и «энкаведешников» – те и другие могли принести непоправимый вред человеку, если вопреки требованию Феликса Дзержинского, первого председателя ВЧК, сердце имели холодное, а руки – «нечистыми». Он внушал своим сотрудникам: «У чекиста должны быть холодная голова, горячее сердце и чистые руки». Павлино сердце было отзывчивое на беду, доверчивое, а о том, чтобы воспользоваться своим положением с пользой для себя, она и помыслить не могла из-за жизненных принципов, усвоенных от Егора Ермолаева.
В Тавде знали, что Павла Дружникова в основном пишет критические статьи, и когда она появлялась в магазинах, то заведующие чуть в обморок не падали – «простодырой» Дружниковой не предложишь взятку, не вручишь пакет с дефицитными продуктами: не возьмёт. Ефимовна иногда ворчала на такую бескорыстность дочери, но та, точь-в-точь как и Егор, отмахивалась от матери.
Шел тридцать седьмой год, который стал одной из самых трагических страниц в книге истории страны. Словно встала над землей радуга, засияла всеми цветами, но вот перемешались они, и остался один цвет – чёрный…
Подобны цветам радуги были статьи в газете о столетнем юбилее Пушкина, о том, что создан скоростной паровоз «Иосиф Сталин», а на поля вышел мощный комбайн «Сталинец-5», что построен канал «Москва-Волга», а на Северный полюс доставлены зимовщики Папанин, Кренкель, Ширшов, Федоров и Отто Шмидт, который возглавлял полярную экспедицию. Доставил их на Северный полюс летчик Михаил Водопьянов, который в тридцать четвертом году спасал экипаж парохода «Челюскин», затертого льдами во время попытки пройти по трудному Северному морскому пути из Мурманска до Владивостока. В Тавде тоже были приятные известия: приехал передвижной цирк, и народ валом валил в Сталинский сад в летний театр посмотреть на иллюзионистов и аккробатов, и в то же лето – 20 июля – поселок Верхняя Тавда стал городом Тавда.
Ефимовна, разыскивая в газете фамилию дочери, медленно, шевеля губами, читала все подряд, а потом за ужином спрашивала: