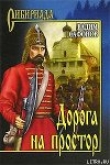Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 64 страниц)
И так было всегда: младшие сестры вдвоем сплоченно шли в атаку на старшую. Лишь спустя несколько десятилетий, Роза, которая всегда подражала Зое, всегда принимала ее сторону, тянулась к ней и за ней, поняла, наконец, что Зоя не была образцом для подражания. Просто Зоя, по натуре властная и эгоистичная, всегда стремилась сломить морально, подмять других под себя, стремилась командовать ими. Она была карьеристкой, но не имела ни достаточных знаний, ни хороших организаторских способностей, кроме умения льстить и угождать нужному человеку. Достигнув вершины своей карьеры – должности инспектора отдела кадров одного из режимных городов области, куда вынуждена была уехать из Тавды – отсюда были и ее связи, которыми она пользовалась сполна – решила, что это дает ей право быть старейшиной рода Ермолаевых. Ну, а мать и Павлу она не брала в расчет.
Смирнов приехал веселый, привез Шурке орешков кедровых да ведро брусники. Он целыми днями возился, не уставая, с девочкой. Да и некому, кроме него, было с ней водиться: Лида жила у Насекиных, Ефимовна после попытки младших дочерей «вправить мозги» Павле, тоже ушла от нее – боялась рассориться с ними, да и стыдно было, что натравила их на Павлу. Через пару недель спокойной, безмятежной жизни Павла успокоилась, почти забыла о ссоре. Но не забыли сестры.
В письмах к Виктору Зоя в самых мрачных красках и злобных тонах написала, что его мать «совсем сдурела, заимела хахаля-забулдыгу, приняла тунеядца в дом». И неудивительно, что Виктор, приехав в отпуск, первым делом отправился не к Дусе, которая получила комнату в щитовом доме и жила на окраине города, а к матери. В нем клокотала ярость и недоумение: как мать могла забыть Максима, которого Виктор мало сказать – почитал, он его боготворил? Он с трудом терпел Кима, а тут место Максима рядом с матерью занял какой-то пьянчужка?
Виктору и в голову не приходило, что мать – еще не старая женщина, ей, как и его молодой жене, нужны тепло и ласка мужских рук, защита. Нужны не только любовь и уважение детей, но и мужчины – тоже, что у нее может быть отдельно от всех личная жизнь. Он понимал одно: мать стала гулящей, и виноват в том некто Смирнов – так всегда звали Николая Константиновича Павлины родственницы-женщины. В поезде он выпил, его распирала отвага и желание оградить мать от злодея. И когда Виктор распахнул дверь квартиры матери, ярость его переливалась уже через край. Он молча выдернул из-за обеденного стола Смирнова и потащил его к дверям, рыча: «Утоплю гада в проруби!»
Павла, растерявшись в первую минуту, бросилась в сыну, повисла на его руках:
– Витя, зачем?! Не смей!!
Но Виктор выволок на улицу Смирнова, который даже не сопротивлялся, ведь старший сын Павлы – здоровый парняга, в десантники хилых не берут – молча тащил его, заломив руки, к реке. А на руках Виктора висела простоволосая, в одном платье, Павла. Это еще больше ярило парня: это надо же – в одном платье на мороз выскочила ради хахаля.
– Витя, опомнись! – кричала Павла.
На крик Павлы к ним подскочили двое мужиков, живших в доме, ухватили Виктора за руки, но тот двумя приемами разметал их по сторонам в сугробы, и только тогда до его сознания достиг безумный, отчаянный вопль матери: «Опомнись! Зачем?!! Тебя посадят!»
Виктор развернулся на каблуках и стремительно зашагал прочь, оставив на дороге перепуганного Смирнова и плачущую возле него мать. Позднее, разобравшись в ситуации, сообразив, что тетушки не всегда доброжелательны к матери, Виктор принял ее сторону и даже извинился перед Смирновым. Видно, судьба-хранительница Николая Смирнова не позволила Виктору переступить грань своего разума и смертную черту Смирнова, не то мог бы парень и впрямь оказаться за решеткой.
Павле хорошо было со Смирновым. Ни с одним мужчиной не было так легко, как с ним. Она расцветала душой, чувствовала, что может быть красивой, желанной, и не только может – в самом деле, это так. Вот одно беспокоило: Смирнов жил у нее уже который месяц, а работу не искал. Деньги, полученные им при окончательном расчете, быстро иссякли, потому что привычкам своим Смирнов не изменял: курил «Казбек» и каждое утро предпочитал облачаться в свежую, только из магазина, рубашку, тем более не надевал заштопанные носки. Павла случайно подала ему однажды такие носки, так Смирнов закатил скандал, дескать, ему не по чину носить ремки. Однако так долго продолжаться не могло: здоровый мужик сидел дома, желал жить в роскоши, а кормился за счет жены и при том горевал, что роскоши не было.
– Коля, – сказала ему однажды Павла, – нашел бы ты себе работу. Трудно на одну зарплату жить.
Смирнов молчал. Долго молчал, столько, что Павла даже испугалась: обиделся Николай, вот соберется и уйдет, а она уже прикипела к нему сердцем, полюбила. Смирнов же просто не знал, что сказать.
Как объяснить выросшей в рабочей семье, жившей в глухомани женщине (сам он уже забыл, что и его корни – рабочие), что ему, избалованному любовницами, удачей, тоскливо в этом городишке, оторванном от шумных городов целой ночью пути по железной дороге? Как объяснить, что ее «Север» – жалкая лачуга в сравнении со столичными гостиницами, что река – не океан и даже не озеро Байкал, куда он ездил ловить омулей, что проработав полжизни на ответственной партийной работе, он просто не мог и не желал иметь не престижную для себя работу? Как объяснить, что и делать он ничего, кроме как думать и кем-то руководить, не умеет? Ответить, однако, надо было, и он сказал:
– Завтра схожу в одно место.
Но куда он мог пойти, человек, не приспособленный к жизни, не умевший забить гвоздь, расколоть полено, привыкший только повелевать?
На следующий день Смирнов отправился на один из заводов, потом на другой, третий, но всюду были нужны рабочие, а не экономисты. Так прошла зима, наступила весна. Смирнов, так и не найдя подходящую для своего самолюбия работу, начал даже кое-что продавать из своих вещей и вновь ударился в запой, но однажды вдруг сообщил:
– Я хочу поехать в Тюмень. Там город больше, с работой, наверное, легче. Не хочешь со мной?
– Ну что же, Тюмень так Тюмень, – ответила Павла спокойно, подумав, что их отъезд, может быть, укрепит ее шаткое семейное счастье, утихнет и непонятная ненависть родных к Смирнову.
Ефимовна, узнав о решении старшей дочери, заполошно закричала:
– Панька, да ты в уме ли? Поехать с неизвестным мужиком да незнамо куда! Окстись, девка, а то за волосья оттаскаю! – но Павла никак не отреагировала на ее возмущение, и мать спросила деловито. – А Шурка-то как?
Павла улыбнулась:
– Мам, я же не маленькая. Мы с Колей договорились: пусть пока с тобой поживет, а как мы устроимся, так и ее заберем. Деньги присылать будем.
– Да ведь у Розки двое, кто за ними смотреть будет, коли я с Шуркой останусь? – возразила мать.
– Мама, как же мои дети росли, когда тебя рядом не было? Неужели ты не понимаешь, что я люблю Николая? А Розины дети больше Шурочки, Толик вон уже и в школу ходит.
– Ой-ей-ей! Любовь каку-то выдумала под старую-то… – прямолинейно, как всегда, выразилась Ефимовна. Странно ей было слышать, что Павла, которой уже почти под сорок, о любви заговорила. – Вот бросит он тебя. Поматросит да бросит. Как жить с таким: нож наточить, и то не умеет? Смехота, а не мужик, то и мужицкое, что в штанах, за тем, видно и тянешься.
– Ой, мам, отстань! – сверкнула глазами Павла.
И Ефимовна замолчала. Она до сих пор боялась таких посверков глаз Павлы, хотя держалась с ней всегда более раскованно, чем с младшими, потому что Павла чаще всего отмалчивалась, редко позволяя себе ссориться с матерью. Младшие же сразу начинали огрызаться, а как выросли – так и грубить. К тому же брал свое и возраст, подступали болезни, и все чаще Ефимовна чувствовала себя зависимой от младших дочерей, потому что не было у нее пенсии. И если Павла и Максим по доброте своей душевной содержали ее с детьми, никогда не попрекая ее, довольно сильную и здоровую женщину, способную работать, то младшие дочери, у которых она всегда была на положении домработницы, могли сделать это запросто, вот и отводила Ефимовна душу с Павлой, намолчавшись у младших.
Тюмень, город юности, встретил Павлу неласково. Лил дождь. К тому же было воскресенье, учреждения не работали, вот и пришлось сутки сидеть на переполненном вокзале. Нашли уголок, притулились сначала у окна на чемоданах, а потом часть скамьи освободилась, на ней они основательно и устроились.
Смирнов немного выпил в поезде и был оживлен, сыпал анекдотами. А Павле было грустно: какая жизнь их ждет? Все неясно и зыбко, как в тумане, потому что ехали фактически наобум, надеясь завербоваться куда-нибудь на север тюменской области, где, по слухам, приличные заработки. Тревожило и то, как там Шурка, Лида, Гена? Вышла из вокзала покурить – укоренилась у нее военная привычка – не утерпела, подошла к газетному киоску, купила конверты и почтовую бумагу. Тут же, возле киоска, наскоро написала письмо, опустила в почтовый ящик на стене вокзала. И вновь жадно закурила.
– Держите! Держите! – отвлек ее от дум крик. – Да держите же! Помогите!
Павла повернула голову на крик и увидела, что от привокзального ресторана бежит, неловко переваливаясь с боку на бок, дородная буфетчица, а впереди – всклоченный парень в помятой одежде, с двумя бутылками водки в руках. Он перепрыгивал через кусты в скверике, через невысокие деревянные бордюрчики, лавировал среди кричащей суетливой толпы. Лицо у него было испуганное, но вот-вот, и он спрячется в толпе, по-крайней мере, парень, видимо, на это надеялся. Буфетчица тоже это поняла и в бессильной ярости запустила вслед вору бутылкой водки, которая была у нее в руке. Бутылка грохнулась об асфальт, брызнули в разные стороны осколки, задели кого-то, и пострадавшие обрушили на буфетчицу поток брани:
– У-у! Шалава!
Но ее призыв о помощи все же был услышан, и несколько мужчин преградили путь вору. Парень метнулся в одну сторону, в другую, оглянулся затравленно: буфетчица тоже приближалась, на лице у нее застыла зловещая ухмылка, дескать, попался, голубчик. И тогда вор вскинул над головой бутылки, словно гранаты, и бросил их себе под ноги, едва успев зажмуриться от стеклянных брызг. Так его и подхватили под руки – с крепко зажмуренными глазами, с руками, безвольно брошенными вдоль тела. И такая безысходность была в его фигуре, что Павла подумала: ведь и она, как этот парень, бежит по жизни, убегая от несчастий, а они все равно ее настигают. Вот и сейчас она, как он, словно с зажмуренными глазами стоит, боится открыть – что там вокруг и впереди ждет ее? Но парня смеющиеся мужики отпустили, несмотря на причитания буфетчицы, ведь в руках у него ничего не было, а что бутылки разбил, так буфетчица и сама упражнялась в «гранатометании». Он пошел прочь сначала осторожно, не веря, что свободен, а потом скакнул в кусты и – был таков. Буфетчица возмутилась:
– Ироды, что вы сделали, его же в милицию надо свести, он же должен хотя бы за разбитые бутылки заплатить!
Один из мужиков пресек ее:
– Тетка, хватит, бузить, ты втрое больше заработаешь на нас же, оправдаешь свои бутылки.
Да, парню сейчас повезло. Повезет ли ей? Правильно ли она сделала, что уехала со Смирновым?
В душе у нее шевелилась обжигающая вина перед семьей, оставленной в Тавде. Она и Смирнов были уже на вокзале, когда прибежали Гена с Лидой – Павла не сообщила им о своем отъезде, лишь оставила записку на столе. Оба, набычившись, смотрели на Смирнова, и когда Павла сказала детям: «Ну, попрощайтесь с дядей Колей», – Лида заносчиво вскинула голову, обожгла мать злым взглядом и, схватив брата за руку, помчалась прочь: девушка люто ненавидела этого человека, разрушившего, как ей казалось, их семью. Ей было невдомек, что семья стала рушиться с ее уходом к Розе, ей, как и всей родне, непонятна была душа матери, чье поведение девушке казалось скверным, и уж совсем безумством Лида считала решение матери уехать. И чтобы она еще стала прощаться с этим пьяницей?!! Да никогда!
Лида опомнилась на пешеходном мосту, переброшенном через железнодорожные пути, вспомнила, что и с матерью тоже не попрощалась, ринулась обратно, все так же волоча за собой Гену. Но матери на перроне уже не было, а номера вагона ребята не знали. И тогда хлынули слезы из глаз, потому что Лиде показалось: никогда она не увидит мать. Глядя на нее, и Гена зашмыгал носом. Павла об этом не знала, как не знали и дети угрызений совести матери, забившейся в уголок своей полки – она готова была уже сорваться с места и выскочить из вагона, чтобы вернуться к детям, но поезд плавно тронулся, поплыли мимо перрон и кусты акации, что росла за ним.
Павла поехала искать лучшую долю и надеялась, что найдет ее.
Павла рассказала Смирнову об увиденном, лишь о своих невеселых думах умолчала. Смирнов, оторвавшись от газеты, произнес:
– Кстати, пора бы и нам подзаправиться. Надо бы в ресторан сходить, а, Поля? – и замер в ожидании, что Павла ответит. А та вынула из кошелька сто рублей, подала Смирнову. Это был весь их капитал, потому что большую часть денег от расчета в «Севере» она отдала матери, думая, что при скромных потребностях оставшихся денег хватит до первой получки.
– Купи пирожков да бутылку ситро, – сказала она.
Смирнов пошел в ресторан.
Шли минуты, текли часы, а его все не было. Павла боялась отойти от вещей: на вокзале шныряли подозрительные типы, а попросить соседей по скамье приглядеть за вещами постеснялась – у тех своих забот полон рот: вторые сутки не могут купить билеты.
Смирнов появился к вечеру пьяный, плюхнулся, довольный, на скамью, подал ей два пирожка в замасленной рваной бумаге:
– Вот поешь. А ресторан – вполне приличный, но это – не Москва, не Хабаровск и даже не Краснодар.
– Ты где был? – возмутилась Павла.
– Как где? В ресторане.
– Ты что? Пропил деньги?
– Деньги! Разве это деньги? Паршивые сто рублей! Да у меня в Хабаровске такие бумажки на шкафу пачками валялись! – презрительно фыркнул Смирнов.
– Здесь тебе не Хабаровск, и ты не работник крайкома, ты… ты… – Павла силилась найти подходящее слово, но Смирнов опередил ее, надменно выгнув бровь:
– Что такое? Ты укоряешь меня своей жалкой сотней? И вообще, кто ты такая? Иди куда хочешь! – и тут же, склонив голову на плечо Павлы, заснул.
Два чувства боролись в Павле: гордость и самолюбие. Гордость велела сбросить с плеча красивую растрепанную голову. Самолюбие зудело ехидно: «Ты думала, и впрямь, Смирнов искренне привязался к тебе? Да у него, небось, таких, как ты, сотни были, сам похвалялся. Сорвалась с места, взбаламутила всю жизнь, а теперь как? Обратно, да? Ну-ну… Что же люди подумают?» – жаркая волна стыда, словно кипятком, окатила ее с ног до головы.
– Нет уж! – решила Павла. – Не для того я сошлась ним, чтобы он бросил меня на дороге. Не на ту напал.
Павла осторожно шевельнула занемевшим плечом, и Смирнов неожиданно уткнулся головой ей в колени. Павла положила ему на макушку руку и вдруг поняла, что никто ей, кроме этого бестолкового и непрактичного в обыденной жизни человека, не нужен. Он – ее мужчина, она – его женщина, что нет им пути назад, а только вперед, в неясное призрачное будущее. Поняла, что полюбила его со всеми достоинствами и недостатками, что готова пойти за ним на край света. И уже пошла. Но предстоит борьба с ним за него же: Смирнов – хороший человек, но его неодолимо тянет вниз, на самое жизненное дно, безволие и пагубная привычка пить без меры по любому поводу и без повода. Сумеет ли она победить в этой борьбе? Павла этого не знала.
Пока Смирнов спал, Павла сдала вещи в багажное отделение, где освободилось место. Умылась в туалете, привела в порядок волосы. Несколько секунд смотрела на усталую серьезную женщину в зеркале, которая печально взирала на нее. Пошарив по карманам, нашла немного мелочи, пошла в буфет, купила пирожков, чаю и поела. Когда вернулась в зал ожидания, то сразу же увидела растерянное лицо Смирнова. Увидев ее, он радостно заулыбался:
– Поля! А я думал…
– Интересно, что? – холодно осведомилась Павла.
– Ну… что ты бросила меня. Вещи взяла и уехала, – и уже спокойно сообщил. – Черт! Голова трещит!
– Вот что, Николай Константинович, – все также холодно сказала Павла, – вы тут мне вчера заявили, что я вам не нужна, и могу возвращаться обратно. Так вот, Николай, никуда я от тебя не поеду. Не за тем сходилась. Позорить себя не дам.
– Ну не поедешь, так не поедешь, – вяло махнул рукой Смирнов. – Тоже… нашла, кого слушать – пьяного! Кстати, опохмелиться не на что?
– Не на что! – отрезала Павла. – Иди, умойся, и пойдем узнавать насчет работы.
«… Вечерний звон, вечерний звон…» – пел Смирнов. Задушевно пел. Пожалуй, даже тоскливо.
Оказались они на барже случайно.
В Тюмени подходящей работы не нашлось. Павла готова была на всякую, а Смирнов морщился: никто не обращал внимания на его диплом экономиста, всюду, как и в Тавде, нужны просто рабочие умелые руки, зарплату же предлагали при этом невысокую.
Сначала Павла разозлилась на него: денег нет, а он работу перебирает. «Впрочем, – подумалось позднее, – может, он и прав, что не соглашается на мало оплачиваемую работу, ведь и уехали из Тавды, чтобы заработать денег». К вечеру, когда еле ноги передвигали от усталости, бегая по конторам, наткнулись на вербовщика, и тот живо оформил договоры в трест «Ханты-Мансийсклес», правда, не сказал конкретно, где они будут работать, мол, на месте разберутся с вами. Подъемные тоже не заплатил, дескать, и это утрясется в Ханты-Мансийске, а то знаем мы вашего брата-вербованного: денежки получите, а сами – «аля-улю», ищи потом ветра в поле. Посоветовал, правда, что до Хантов – так в просторечии назывался Ханты-Мансийск – можно добраться на буксире, устроившись матросами. Помог даже договориться с капитаном одного из буксирных катеров, которые буксировали в Ханты баржи с грузом.
И вот они плывут. Неделю уже плывут.
Павла встала: пора на вахту. Вышла на палубу. Смирнов стоял, опершись о леер, смотрел на лесистые берега Тобола. Солнце готово было уже свалиться за лес. Небо безоблачное, тихо. Эту тишину нарушает лишь слабое журчание воды за бортом, да впереди постукивает движком катер.
– Эй, – крикнул с катера шкипер, – сейчас фокус увидите! Смотрите в воду!
Смирнов первым бросил взгляд вниз и удивленно толкнул Павлу локтем:
– Смотри, смотри, Поля! И в самом деле – чудо.
Павла глянула за борт и тоже удивилась: река разделилась. Слева – темная вода, справа – рыжая. Это Тобол влился в Иртыш, и пока чистые струи Тобола не смешались с иртышской водой, так и плыли они, словно по какой-то нарочно проведенной линии – таков был фарватер реки.
Шкипер крикнул, что скоро Тобольск.
Смирнов махнул рукой, дескать, все ясно, будем готовы. Он распахнул ватник, притянул к себе Павлу, и та, прижавшись к горячему плечу, запела:
– Вечерний звон, вечерний звон…
– Бом… бом… бом… – вторил ей Смирнов.
Глава Х – Соловушка
Только солнце размашисто брызнет -
Снова спрячется у ворот…
Как извилисты линии жизни,
Если б все это знать наперед.
*****
… А предки были птицами,
И лет тому не счесть.
Мы изменились лицами,
Но в каждом птица есть.
С. Островой
Шурка лизнула белый твердый кусок, величиной с ее кулачок и опять заныла:
– Баба, баба, к маме хочу…
– Господи, да молчи ты! Горе мое! Уехала твоя мама.
– Куда? – требовательно спросила девочка.
– Куда-куда… На кудыкину гору!
– А почему? – не отставала Шурка.
– Потому что… Шлюха она, твоя мама!
Такого слова Шурка не знала, но слово ей не понравилось. И Шурка посмотрела на бабушку сердитыми серо-голубыми глазами, в которых уже угадывалось упрямство.
– У-у! – Бабушка замахнулась на девочку тряпкой-прихваткой, которой только что пользовалась, чтобы не обжечь пальцы, передвигая с места на место кастрюлю. – Так же смотришь, как и мать твоя шалопутная! – Ефимовна вдруг подхватила Шурку на руки, начала ее целовать и плакать, приговаривая: – И где же носит ее, горемычную, где она есть, головушка бедная, окаянная…
Шурка молча и серьезно смотрела на бабушку: она уже давно привыкла к быстрой смене ее настроения – то ругается на нее, то вдруг заплачет, а потом опять ругается, но уже на маму, которая почему-то куда-то давно исчезла, Шурка же сильно по ней соскучилась.
Открылась дверь, и в комнату вошли тетя Роза и ее муж Александр, громадный, в белом полушубке. Шурка любила дядю Сашу, потому выскользнула из объятий бабушки и бросилась к дяде.
– Ух, ты! Выросла у нас девка, выросла! – он подхватил Шурку на руки, подбросил слегка вверх, и девчонка завизжала от восторга, почувствовав, что на мгновение зависла в воздухе, а потом мягко упала в сильные руки дяди Саши. – Собирай ее, мать, к нам, елку будет смотреть – мальчишки вчера нарядили. Давай, мать, и ты к нам, чего ты будешь одна в новый год сидеть?
– Нет, – отказалась бабушка, – далеко к вам идти. Гена с Лидой к Зое пошли, вот и я туда же пойду. – Зоя теперь жила тоже на улице Сталина и работала комендантом в студенческом общежитии лесотехнического техникума.
Пока бабушка укутывала Шурку, Роза спросила:
– От Пани есть что? Где она?
– Ох, – вздохнула бабушка, – в каком-то Ханты-Мансийске. И где это?
– На севере, – пояснил зять.
– На севере, – опять вздохнула бабушка. – И что делать? Болею я. Шурку с кем оставлять?
– Деньги хоть присылает? – Роза смотрела с усмешкой, ожидая отрицательного ответа.
– Присылает, – и бабушка опять заплакала.
– И чего ты ее, блудню, жалеешь? Напиши в горком Потокову, партийная она. Как взгреют, так и про любовь забудет, примчится, как миленькая. Или прав родительских лишить надо.
– Роза, чего ты болтаешь? – рассердился Саша. – «Взгреют, прав лишить…» Да ведь человек она, живой человек! Ну, вышла замуж, пусть живет, мало ли что вам Николай не нравится. Вам-то что? Все с Зойкой баламутите, а зачем? Не слушай их, мать, не дурак же Николай, зря майора не дадут, – Насекин, будучи военным, очень уважал людей, имеющих высокие воинские звания. – Может, все у них еще наладится, и Шурку, как обещали, заберут. Чего вы все скрипите?
– Да я что? Я – ничего, – забормотала Роза. Она и впрямь не лезла бы к старшей сестре с советами – у нее самой жизнь устроена. Насекин, хоть и старше ее намного, человек порядочный. Да вот Зоя частенько ее подзуживала, говоря о Павле со злостью и презрением. Роза понять не могла, почему Зоя относится к старшей сестре с таким пренебрежением. То ли завидовала Павле, ведь Зоин муж, Топорков – обычный шофер, выпить тоже не дурак, а Смирнов, хоть и пьяницей его считают, имеет высшее образование, был большим начальником, майор в отставке, воевал, награды имеет, люди его уважают. Ее Насекин – военный человек, сержант, а войны не знает, все время служил в «зоне». Может, и правда, оставить Паню в покое, пусть живет, как знает – не маленькая? Решит Роза так, а Зоя вновь «заведет» да науськает на старшую сестру.
– Ну, пошли! – сказал дядя Саша, когда Шурка была готова в дорогу. Он вскинул ее на плечи. – Держись, девка, поедем к нам.
На улице было темно и морозно. Дядя Саша вышел на железнодорожные пути и зашагал по шпалам. Звезды посверкивали в небе, словно подмигивали Шурке, и ей стало весело. Девочка сложила губы трубочкой и дула сверху на дядю Сашу. Тот притворно сердился и грозил:
– Вот скину сейчас тебя в снег, баловница! Возьми лучше фонарик и свети на дорогу, – и подал ей железную коробочку, у которой можно было покрутить колесико, и дорога становилась то желтой, то красной, то зеленой. И когда впереди загорался зеленый свет, дядя Саша дурашливо взбрыкивал и кричал:
– Но-о! Коняшка, вперед! – и припускал бегом по тропке. Тетя Роза сердилась на них, но Шурка понимала, что это не со зла.
Потом они шли вдоль длинного высокого забора, которым был огорожен лесокомбинат, где (Шурка слышала это из разговоров взрослых) работала сестричка Лида, и дядя Саша забрал фонарик у Шурки, потому что на столбах возле забора горели фонари.
Вскоре Насекины дошли до своего дома в поселке, где жили военнослужащие из охраны «зоны». И когда ее раскутали в теплой кухне, то обнаружилось, что один валеночек с Шуркиной ноги потерян. Тетя Роза принялась ругать мужа, мол, чуть не заморозил девчонку, а тот весело отговаривался, и тетя Роза перестала сердиться, тоже развеселилась от этого маленького приключения и уже не всерьез, а в шутку посылала дядю Сашу искать Шуркин валенок. И они стояли так посреди кухни и хохотали – Шурка, тетя Роза, дядя Саша, их сыновья – Толик с Володей. Тетя Роза всегда была веселой, если рядом не было тети Зои, которая вечно была чем-то недовольна. Тетя Роза при тете Зое как-то притихала, и у них не было иного разговора, как только ругать Шуркину маму. И за это Шурка не любила тетю Зою.
Насекины занимали щитовой коттедж, где были две комнаты и кухня. В одной комнате – спальня взрослых, другую занимали дети – двоюродные братья Толик и Володя. Шурка любила их больше, чем Юрку Ермолаева, который жил близко от нее с бабушкой – на той же улице: он все время норовил обидеть Шурку и никогда не давал играть с его игрушками. И хотя Шурка росла не плаксой, все же умудрялся своими дразнилками, щипками да толчками доводить ее до слез.
А братья Насекины, наоборот, ее всегда защищали.
Вовка, младший из братьев, взял Шурку за руку и повел в комнату родителей. Девочка вошла и замерла в изумлении. Она увидела дивно пахнущее, зеленое чудо, все в цветных огоньках и стеклянных блестящих игрушках.
– Что это? – шепоточком спросила Шурка, прижав пухлые ладошки к груди. – Такое красивое!
– Елка! Ты что, Шурка, совсем неграмотная, не знаешь, что такое елка? Книжки не смотришь? – удивился Вовка.
А откуда быть Шурке грамотной, если бабушка едва по слогам складывает воедино печатные слова, книжки с Шуркой не рассматривает, да и нет у нее никаких книжек. Сестре Лиде было не до нее, заневестилась сестричка, как говорила бабушка, запохаживал к ней парень, живший неподалеку от Насекиных, с чудным именем – Август. Десять верст от Белого Яра до Сталинской для Августа – не околица, каждый день прибегал и всегда приносил кулек конфет Шурке. Пока Лида вертелась перед зеркалом, прихорашивалась, Август усаживал Шурку на колени, покачивал ее, рассказывал сказки, а Шурка, сосредоточенно нахмурив брови, уминала конфеты, пока бабушка, спохватившись, не забирала бумажный кулек: «Хватит, а то зубы выпадут!» И хотя бабушка частенько ворчала на Шурку, забирала конфеты, девочка все равно ее любила, и когда укладывались спать, сворачивалась клубочком у бабушки под рукой и сладко засыпала.
Под елкой лежал полосатый мешок, и в нем что-то было. Шурка спросила у Вовки: что?
– Это Деда Мороза мешок, его сегодня смотреть не положено, – объяснил брат.
– Почему? – заинтересовалась Шурка, спрятав руки за спину, потому что ей очень хотелось посмотреть, что там – в мешке, и она боялась, что руки сами собой полезут в мешок.
– Ты что? Неграмотная? – удивился вновь Вовка. – Ведь завтра новый год! Завтра и подарки будут. – А сам украдкой все-таки прикоснулся к мешку: в самом деле, что там – в мешке?
Утром Шурка перелезла через Вовку – она спала у стенки – выскользнула из комнаты, подкралась к двери другой комнаты, где стояла елка (вдруг ее украли?), заглянула в щелку. И от сердца отлегло: стоит зеленая красавица, едва подрагивая колкими веточками, когда по улице проезжает машина. Только мешка с подарками под елкой не было. «Украли!» – всполошилась девочка, и открыла пошире дверь. Мешок стоял по-прежнему рядом с елкой, только с другого края. Шурка шумно и облегченно вздохнула, застыв на месте. Насмотревшись на елку, она вернулась в комнату братьев и вновь залезла в постель. Проснулась оттого, что мальчишки тормошили ее и весело дразнили:
– Соня-засоня!
– А вот и не соня! – возмутилась Шурка. – Я первой увидела, что мешка под елкой нет. Он совсем в другом месте!
– Глазастая какая, – улыбнулась тетя Роза, облачая Шурку в новое голубое платье с оборками и такого же цвета туфельки. Она любила племянницу, завидовала Павле, что у той есть и мальчишки, и девчонки, а вот у нее дочушки нет. Роза даже иногда подумывала забрать Шурку к себе, раз мать ее где-то шлындает, удочерить, пусть растет в неге и ласке: Шурка – славная девочка, смышленая лопотунья и очень ласковая.
К обеду и тетя Роза принарядилась в такое же голубое, как у Шурки платье. Тут и соседские ребятишки, Вовки-Толькины друзья пришли, все нарядные и красивые, и все же братья, казалось Шурке, самые красивые и нарядные.
Тетя Роза устроила хоровод, и все дружно запели песню про елочку, потом она затеяла игры со старшими ребятами, а младшие, вроде Шурки, стояли в сторонке и громко хлопали в ладоши. Шурка смотрела сияющими глазами на своих ловких и сильных братьев, на тетю Розу и радовалась, считая их самыми лучшими и красивыми на свете. Потом и малышей тетя Роза расшевелила, заставила кого петь, кого плясать, а Шурка, которую поставили на табурет, чтобы все видели девочку, рассказала стихотворение про Таню, которая уронила в речку мячик и громко заплакала. И тут распахнулась в прихожей дверь – в дом вошел кто-то большой, с белой бородой и посохом в руках.
– Ура! – завизжала малышня, бросаясь навстречу вошедшему. – Дед Мороз пришел!
– Ага, вот я вас заморожу сейчас, – грозно крикнул Дед Мороз, стукнул о пол посохом, и хотел сграбастать всех в охапку, но ребятишки разбежались в стороны, а Шурка не успела. Стояла, зачарованная, смотрела на диковинного деда, почему-то одетого в дяди-Сашин белый полушубок без погон. Ей и страшно: вдруг и вправду заморозит, и любопытно, почему это глаза у деда Мороза такие знакомые, уж не дяди ли Сашины?
– Ух, ты, какая смелая девочка! – зарокотал притворным басом Дед Мороз и знакомо, по дяди-Сашиному, весело подмигнул. – Тогда тебе первой и подарок. Держи! – он сунул руку в мешок и вытащил оттуда медвежонка с блестящими глазенками, кожаным носом, с руками-ногами, которые можно было вертеть как угодно: заставлять шагать, здороваться, отдавать честь. Шурка в первый миг онемела от восторга, стояла, прижав медвежонка к груди, но потом опомнилась, приподнялась на цыпочки и настойчиво дернула деда Мороза, который вытаскивал из мешка подарки другим детям, за подол полушубка. Тот обернулся, и тогда Шурка поманила его к себе пальчиком, а когда дед Мороз наклонился низко-низко, к самому ее лицу, Шурка прошептала:
– Дядя Саша, я знаю, это – ты…
– Ага, догадалась, – усмехнулся дядя Саша в свою ватную бороду и зашептал Шурке в самое ухо. – Молодец, только никому не рассказывай, что это я! Это будет наша с тобой тайна.