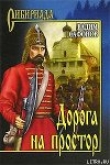Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 64 страниц)
– Шурочка! – выскочил Касим из машины. – Здравствуй!
– Ой, Касим! – всплеснула Шура руками. – Ой, а я тебя не узнала…
Касим хотел ее обнять, но девушка скользнула в сторону.
– Шурочка, прости меня, – он опустил голову. – Знаешь, я все время думал о тебе, и понял, что я – болван, столько глупостей тебе болтал, обиделся, что не вышла, хотел заставить ревновать…
Шура улыбнулась:
– Да ладно, Касим, я все уже забыла. Это ты меня прости, что голову тебе дурила, ты красивый парень, и нравишься мне, но ты прав, лучшей жены для таджика нет, чем таджичка.
Касим заулыбался так широко, так засияли его глаза, прямо-таки огнем загорелись, что у Шуры потеплело на сердце. И все же она сказала:
– Касим, извини, мне идти надо.
– Шурочка, а мы встретимся с тобой? Ну, просто так, в кино сходим, в парке погуляем, ты не думай ничего плохого… – заторопился он, увидев, как Шура нахмурилась. – Честное слово, я все понял! Конечно, девушка сама может выбирать себе парня, а парень не должен обижаться, если ему откажут. Но ведь и нет ничего плохого в том, если парень и девушка просто дружат… – он смотрел умоляюще, ожидая ее согласия.
– Ой, Касим, – погрозила ему пальцем Шура, – ой, мягко стелешь, да жестко спать придется.
– Не понял… – озадаченно посмотрел на нее Касим. – Постель всегда должна стелить женщина.
– Я не о том, Касим. Но встречаться нам не стоит, я через неделю уезжаю на работу. Так что всего тебе хорошего, – и она протянула, прощаясь, Касиму руку. Касим неожиданно наклонился и поцеловал эту руку. Шура почувствовала, как заалели ее щеки, однако не вырвала резко руку из пальцев Касима, осторожно высвободила ее, и пошла, не оглядываясь, по улице.
Видела однажды Шура и Антона Букарова, оказавшись случайно на вокзале – улица Ленина и перрон вокзала по-прежнему оставались тавдинским «Бродвеем», где молодежь гуляла вечерами, но подойти к нему не осмелилась. Так было всегда: она могла свободно и спокойно говорить с любым парнем, но не с тем, кто ей нравился. Ее язык деревянел, она была не в силах вымолвить и слово, или же болтала чушь, как было с Артемом Лебедем.
Антон был в штатском, однако Шура знала, что Букаров окончил военное училище, и вот сейчас уезжает из Тавды, вероятно, к месту службы, и, значит, она, скорее всего, никогда больше не увидит Антона. И все-таки девушка не могла сдвинуться с места, чтобы сделать хотя бы шаг навстречу Антону, хотя бы махнуть приветственно рукой.
Полгода назад, когда она была на последней практике в Тавде, школьная подружка Наташка сказала, что Букаров приехал в отпуск, и подзудила Шуру позвонить ему. Настроение у Шуры было шалое, бесшабашное, и она тут же набрала знакомый номер. Антон ответил и, казалось, совсем не был удивлен ее звонку. Они болтали обо всем понемногу, лишь о главном ни словечка: когда и где свидятся. Поболтав полчаса, Шура и Наташка отправлялись в кино, а Букаров уже никуда не поспевал: жил на окраине города. Так они и не встретились тогда, так и не решилась Шура признаться ему, что думает о нем постоянно, тоскует, видит во сне, мечтает о том, когда увидит его…
И вот она увидела, молча смотрела на него, и Антон смотрел на Шуру, а потом вскочил на подножку вагона. Ей хотелось крикнуть: «Остановись, я люблю тебя! Напиши мне хоть несколько строк, я так хочу быть с тобой, хочу быть твоей любимой, но я не знаю, как тебе об этом сказать, что сделать, чтобы ты понял: я тебя люблю-у-у!!» В одном из окон Шура увидела Антона, с грустью, как ей показалось, смотревшего на нее, и Шуру тоже окутала глубокая печаль.
«Знаю, ты равнодушен ко мне, но и все-таки я пишу…»
Директор техникума не обманул. Действительно, Шура только числилась в объединении «Полиграфист», а работала в областном управлении полиграфии, издательств и книжной торговли, где оказалась самой молодой. И потому главный инженер стал давать ей различные поручения, как своему секретарю: съезди туда, принеси то, напечатай это… Сначала Шуре это не понравилось, но надоедало возиться со скучными документами по нормированию, потому с удовольствием стала уходить из управления, благо главный разрешал не возвращаться, заметив, как новая молоденькая подчиненная, быстро выполнив свое задание, начинала маяться от безделья. Шура бродила до темноты по улицам города, который раньше ей не нравился своей серостью домов и угрюмостью. Теперь же она с каждым днем все больше и больше влюблялась в свердловские проспекты, в его то широкие и красивые, то маленькие и неказистые площади, она любила стоять на мосту через Исеть и смотреть, как с шумом вода из пруда срывалась с маленькой плотинки вниз, шумя и пенясь текла дальше. Иногда Шура садилась в первый попавший автобус или троллейбус и часами колесила по городу, переходя с одного маршрута на другой. Жила Шура в общежитии объединения в районе Вторчермета, пыталась выпросить комнату, чтобы перевезти мать, но у нее так ничего и не получилось, и Шура стала постепенно впадать в уныние от этого, не зная, что делать. Павла Федоровна постоянно жаловалась в письмах на свои многочисленные болезни, а когда Шура приезжала, то плакала по той же самой причине, упрекая дочь, что не берет ее с собой: она считала, что Шура вырвалась на свободу, ей и дела нет до матери, как и старшим детям.
Однако долго работать Шуре Дружниковой в Свердловске не пришлось. В Тавде стало вакантным место мастера, и Шура решила перевестись в Тавду, тем более что ей так сделать предложила бывший мастер Алина Степановна, назначенная директором типографии.
Начальник управления сначала не хотел отпускать Дружникову в Тавду. Девушка ему нравилась своей серьезностью и в то же время готовностью в любой момент расхохотаться над шуткой, своей открытостью души, излишней, может быть, прямолинейностью и честностью. Наверное, трудно будет ей в жизни, оттого ему, пожилому человеку, которому Дружникова годилась во внучки, хотелось уберечь ее от жизненной скверны. Правда, своенравна и упряма, уже успела показать свой норов: однажды не явилась на субботник по уборке улиц, заявив, что работникам коммунальной службы следует лучше выполнять свои обязаности, тогда не будет необходимости заставлять это делать других. Он влепил ей выговор, однако сделал это не от злости на нее, а скорее для острастки, чтобы научилась выполнять распоряжения начальства. Но Дружникова умна, умеет хорошо и быстро работать, сразу схватывает суть дела, ее деловитость не вызывала сомнений, на нее можно было положиться, и у нее может удачно сложиться карьера, если она будет работать в областном управлении. Потому сказал:
– Нет, и не думай, не отпущу.
– Но ведь Тавда – мой родной город, там живет моя мама. Не в другую же область я прошу меня перевести! – вспылила Шура. – Там у нас квартира, мама болеет, ей трудно жить одной, а к себе взять ее не могу.
– Подожди годик, дадим и тебе квартиру в новом доме, вот и возьмешь мать к себе, – пообещал начальник управления. – Может даже, и в общежитии комнату найдем через пару месяцев, потерпи немного. А то поезжай в Кушву директором. Это все же лучше, чем работать мастером, я сам был мастером, знаю, что это такое – собачья работа, – Помазкин смотрел благожелательно, и Шура верила, что желает ей добра.
Но Шура терпеть не хотела, никакие варианты, кроме перевода в Тавду, ее не устраивали: почему-то показалось, что если не отпустят, то это – конец всему. А чему – всему, и объяснить не смогла бы, лишь страстно захотелось домой, в Тавду, и она готова была уехать самовольно, вопреки здравому смыслу. Однако начальник управления продолжал уговаривать, доказывать, что не стоит уезжать в Тавду, а Шура приводила все новые и новые аргументы целесообразности этого, и когда их исчерпала, то просто расплакалась. Крупные слезы текли по щекам, она их размазывала по лицу, а начальник управления обескураженно смотрел на плачущую, до невозможности несчастную девчушку, наконец, осознав, что бесполезно удерживать ее: упрямица может добиться увольнения другим способом, то есть безобразным отношением к своим обязанностям, а наказывать ее не хотелось. И тогда он сердито закричал:
– Да поезжай ты в свою Тавду, только не реви, я терпеть женские слезы не могу!
Удивительно, но Шурины слезы тут же высохли, она улыбнулась так широко и счастливо, что Помазкин перестал на нее сердиться. И ни в тот момент, ни позднее, Шура так и не смогла даже самой себе вразумительно объяснить, почему так рвалась в родной город. А ее туда вела судьба…
В Шурины обязанности, кроме разработки новых норм, входило также инспектирование районных нормировщиков. Ее молодая начальница Людмила Гришанова предпочитала гонять по командировкам Шуру, и та за полгода, что работала в областном управлении объехала половину типографий.
Что-то не ладилось у Людмилы с руководством управления. Наверное, потому она, получив выговор от Помазкина, потому что, как и Шура, не явилась на субботник, тут же отправилась в больницу и получила освобождение от работы в связи с нервным расстройством. А спустя неделю после того Романенко, главный инженер, в обед сказал Шуре:
– Если хочешь, я отвезу тебя в столовую, – к тому времени управление стало структурным подразделением облисполкома, и сотрудники стали ездить в столовую облисполкома – там готовили лучше, и цены были ниже, чем в рабочей столовой полиграфкомбината.
Шура пожала плечами, мол, отвезите.
Однако Романенко не поехал в столовую, остановился возле небольшого кафе. Шура с любопытством стала ждать продолжения: она уже давно заметила, что главный неравнодушен к ней, хотя и не предлагал переступить запретную линию отношений.
Романенко учтиво пропустил ее вперед себя, усадил за столик, и пока ожидали официанта, сказал:
– Я давно хотел поговорить с тобой…
Шура лукаво посмотрела на инженера:
– О чем?
– Я хочу сказать, что неправильно себя ведешь.
Шура удивленно взглянула: «Не поняла».
Романенко начал говорить медлено, подбирая слова, мягко, словно не желал обидеть девушку:
– Ты не выполняешь моих распоряжений…
Шура протестующе вскинулась:
– Как это не выполняю? Даже больше, чем полагается по должностным инструкциям, – она имела в виду свое негласное положение личного секретаря Романенко.
– А как расценить то, что, когда я велел тебе после планерки написать объяснительную, почему не явилась на субботник, ты заявила, что не имеет смысла. Хорошенький ответик!
– Конечно, не имело. Выговор-то мне и так вкатили, без всякой объяснительной.
– Я думаю, ты у Людмилы на поводу пошла, но ведь каждый человек имеет право на свою точку зрения, и ты – тоже…
– Я ее имею, – сказала Шура.
– Не тянись за ней, – Романенко словно и не слышал ее реплики. – Не веди себя, как изнеженная барынька. У вас было разное детство.
– При чем тут мое детство? – сверкнула глазами Шура.
– А притом, что ты способна и сама мыслить, а не фыркать по каждому поводу в угоду Людмиле.
– Я и не фыркаю. Но считаю, что выговор получила ни за что. Кому нужны эти бестолковые субботники? Метлой мести могут и дворники, только пусть работают добросовестно. А у нас – будем на субботнике или нет – все равно вычтут из зарплаты, сколько потребуются. Какое мне дело до войны во Вьетнаме? То есть, я хочу сказать, что мне не жаль, что моя пятерка пойдет на рубашки вьетнамским ребятишкам, да ведь, наверное, не дойдут мои деньги до ребятишек.
– Ты с ума сошла? В чем обвиняешь партию и правительство? Нет, ты права, рано тебе еще в партию вступать… – Романенко в управлении возглавлял партийную организацию и завел однажды разговор, не желает ли она вступить в партию, и Шура ответила, что быть коммунистом – великая честь, и она пока той чести не достойна.
– Да ни в чем я не обвиняю, – пожала плечами Шура, – просто размышляю. А только бы лучше мне на ту пятерку домой съездить. Ну а если все равно деньги вычтут, так стоит ли на субботник ходить? – и она весело рассмеялась.
– Ох, какая же ты еще бестолковая девчонка, Шура! – вздохнул Романенко. – Ни грамма хитрости в тебе, ни в чем выгоды для себя не ищешь. А Людмила вот желает в партию вступить. Уж лучше бы ты пожелала. Вот зачем ты хочешь из Управления уйти? Плохо тебе здесь?
Шура шевельнула вновь плечами, дескать, не плохо. Романенко понял ее правильно, потому сказал:
– Вот и не дури. Забудь о переводе. Тем более семинар мастеров скоро, а Людмила сделала вид, что заболела, тебя подставила под удар. Кто будет по нормированию с мастерами заниматься?
– Да ладно, – усмехнулась Шура, вот, мол, ты чего боялся: как бы семинар не сорвался, а до меня тебе и дела нет, – проведу я этот семинар, все равно ведь документы по новым нормам я готовила.
Семинар проходил в Нижнем Тагиле, городе сером и задымленном множеством заводов, хотя достаточно было и одного металлургического комбината, чтобы испоганить атмосферу над городом. Помогали ей уже знакомые нормировщики Нижне-Тагильской типографии – Ольга Дмитриевна и Мария Андреевна. Последней до пенсии осталось года три, и она панически боялась, чтобы ее не сократили. Поэтому выполняла каждую просьбу Шуры. Заставь она ее каждые пять минут чай подавать, и Мария Андреевна подавала бы с превеликим удовольствием. И совсем другой была Ольга Дмитриевна, семидесятилетняя старушка, маленькая, кругленькая словно колобок. Энергия била из нее как из живого источника и передавалась каждому, кто был с ней рядом. Ольга Дмитриевна давно уже на пенсии, денег ей хватало – она была одинокой, но скучно дома, потому и работала. Впрочем, как считала Шура, никто лучше ее не знал нормирование наборных процессов, где возникало множество нюансов.
Свою часть семинара Шура провела легко. Она уже не стеснялась, как было в первые командировки. Нормирование всегда шло у нее в техникуме хорошо, поэтому освоилась с работой быстро. Но вот с волнением Шуре было справиться нелегко – у многих мастеров и нормировщиков она стажировалась, когда стала работать в управлении. Однако справилась.
Одним словом, Шура была собой довольна, и Помазкин, видимо, тоже: он улыбался ей ободряюще все время.
Вернувшись из командировки, Шура опоздала на работу в самый первый же день.
Утро выдалось морозное, заиндевелое, и транспорт, казалось, тоже замерз. Шура опоздала на полчаса и на планерку, естественно, не пошла. Романенко тоже сидел на своем месте, но даже не обратил внимания на Шуру. И в этот момент в кабинет заглянул Помазкин, посмотрел на Шуру, позвал Романенко к себе. Тот передернул плечами: никто его так не выводил из себя, как директор Серовской типографии и сам Помазкин. Людмила говорила Шуре, что Романенко рассчитывал после ухода Помазкина на пенсию стать начальником управления – все шло к тому, а Помазкин работал и не думал об уходе.
Вернулся Романенко какой-то странный. Шура исподтишка наблюдала, как он меряет длинными журавлиными ногами кабинет. Он похмыкивал удивленно и бросал загадочные взгляды на Шуру. Девушка забеспокоилась: нагорит за опоздание – Помазкин сам никогда не опаздывает и не любит, когда опаздывают другие. А тут Шура не только пришла на работу позднее, да еще и на планерку не пошла.
Наконец, Романенко произнес:
– Шура, тебе говорили, что ты хорошо провела семинар?
– Нормировщики говорили, ну и что? Я ведь сама эти нормы разрабатывала, было бы удивительно, если бы не сумела провести занятия.
– Да нет, Помазкин не говорил? Впрочем, это на него похоже, – досадливо сморщился главный инженер, – он и здоровается со всеми сквозь зубы. А мне, между прочим, сказал, что доволен тобой. Иди, он тебя зовет, о чем-то поговорить хотел. Кстати, уезжать не раздумала?
Шура упрямо помотала головой и пошла к начальнику управления.
Секретарша, увидев Шуру, засияла улыбкой:
– Поздравляю, Шурочка!
– С чем? – сдержанно улыбнулась девушка: она недолюбливала немного туповатую и льстивую секретаршу, которая училась заочно в Куйбышевском полиграфическом техникуме, и Шура дважды писала ей контрольные работы.
– Ой, неужели ты не знаешь? Петр Васильевич так тебя сегодня на планерке хвалил, так хвалил! Сказал даже, что жалко тебя в Тавду отпускать.
Шура сразу внутренне взъерошилась: похвала – хорошо, но как бы Помазкин и в самом деле не заерепенился с ее переводом в Тавду. «Уеду, сбегу!» – разозлилась Шура.
Она вошла в кабинет и остановилась у дверей в ожидании, что скажет Помазкин, который что-то писал на бланке приказа.
– Проходи, что застыла у порога, – проворчал начальник, не поднимая головы. – Проходи, – кивнул на стул, мол, усаживайся.
Шура примостилась на краешке стула, вопросительно посмотрела на Помазкина.
– Ну, небось, разболтали уже тебе, что мне понравилось, как ты семинар вела? – грубовато спросил он.
Шура коротко кивнула.
– Вот сороки! – вроде бы как сердито воскликнул Помазкин, но глаза улыбались. – Ведь велел только тебя пригласить, а они уже все разболтали. Сороки! А почему ты на работу сегодня вышла? Отдохнула бы.
– Да ведь дело есть. Надо проанализировать семинар.
– Ну ладно. Вышла так вышла. Людмила вон после каждого семинара неделю отдыхала, отгулы брала. Ну ладно. Не о ней речь. Ты не передумала переводиться?
Шура молча покачала головой: нет.
– Зря. Ох, зря так поступаешь. Подумай о будущем своем. Здесь – перспектива, а там что? Будешь трубачить мастером, пока директор на пенсию не уйдет, да и уйдет ли? Я вот не ухожу – скучно дома сидеть пенсионерить, бедный Романенко весь извелся из-за этого, – и засмеялся. – Веселов звонил, сказал, что через неделю уезжает, я уже приказ о назначении нового директора написал. О мастере вопрос пока не решен, там ведь мастер на правах главного инженера – и снабжение, и машины должен знать, и в полиграфии должен быть спец.
Помазкин придвинул к себе телефон и набрал номер. Через некоторое время трубка откликнулась, и Помазкин сказал:
– Приветствую тебя, Веселов. Приказ о твоем увольнении и назначении директором Алины Степановны я подписал. Поезжай спокойно в свои Бендеры. Слушай, ты Дружникову знаешь? Ага… – Помазкин слушал и медленно кивал головой, соглашался с тем, что говорил ему Веселов. – Ага… Ну, бывай! – Помазкин положил трубку на место, взглянул усмешливо на Шуру. – Слушай, а ведь Веселов тебя хвалил, сказал, что лучшего мастера, чем ты, не найти. Н-да… Ну что же, поезжай в свою Тавду. А жаль, ох, как жаль тебя отпускать. Ты, конечно, девица упрямая и своенравная, однако жаль тебя отпускать. Может, передумаешь?
Шура мотнула отрицательно головой. Судьба вновь ставила ее перед выбором, и она его сделала.
С нетерпением ожидала перевода Шуры в Тавду и Павла Федоровна. Ей не хотелось уезжать из города, где нашел последнее успокоение Смирнов, она желала после смерти лечь в землю рядом с ним, чтобы и там, в послежизненной тьме, быть с ним, а случись это в чужом городе, такой возможности не будет. О том, что может сломать дочери карьеру, она не думала, считая, что, «где родился, там и пригодился». Она и сама никогда не думала о своей карьере, работала, куда направит горком партии. Неизвестно, какая жилплощадь, да еще и будет ли она в Свердловске, а в Тавде – хорошая двухкомнатная квартира.
Павла Федоровна часами сидела перед стареньким телевизором, который подарила ей старшая дочь Лидия, вместе с Виталькой Изгомовым, тем самым Виталькой, над которым когда-то в детских играх верховодила Шура.
Виталий часто бывал у Павлы Федоровны. Заглянул однажды к ней с братом Анатолием, который был средним из братьев Изгомовых и почитал Павлу Федоровну как мать. Анатолий – красавец и женский баловень – всегда приводил к Дружниковой свою очередную зазнобу, церемонно знакомил и тайком спрашивал:
– Ну как, тетя Поля, моя жена?
– Надолго ли? – лукаво улыбалась Дружникова, зная, что Анатолий запросто мог расстаться с любой женщиной. Он ответно улыбался: широко, белозубо:
– Ну надолго или нет, а жена.
Анатолий женился рано, еще до армии, вернувшись, развелся: не поладила молодая женщина с Изгомовой, и как Анатолий не упрашивал жену не рушить семью, все же она ушла от него. И покатилась жизнь Анатолия по воле ветра, как перекати-поле, за год менял по две-три женщины и никак не мог остановиться на одной, разобиженный на всех женщин, однако хранил в душе образ первой жены Любаши. Павла Федоровна знала его историю и лишь посмеивалась над ним беззлобно, намекая на старый-престарый анекдот:
– Толик, что ты ищешь в женщинах, кусок сахара что ли?
Виталию нравилось говорить со старой женщиной, которую он помнил молодой и красивой. Но самое главное, брат рассказывал, что она часто посещала больного отца в то время как мать, оправдывая свое прозвище, бродила днями по городу, а до больного мужа дела ей не было. Антон Федорович так и умер на руках у Павлы Федоровны, которую он, сирота, всегда называл сестренкой. Умер легко и просто, так, наверное, умирают самые счастливые и безгрешные: закрыл глаза, и все – отлетела душа в мир иной. Виталию нравилось, как Павла Федоровна слушает: уставится на собеседника немигающим взглядом и слушает. Может, кому и мешал такой взгляд, а ему – нет. И он мог часами рассказывать о своей безалаберной жизни.
– В армию меня мать семнадцати лет выпихнула, на месяц раньше до дня рождения. Пошла в военкомат и пожаловалась, что я ее бью, и пригрозил убить. А этого никогда не было. Толик вот чуть ее вилами не заколол из-за жены, а я никогда не трогал. И в отпуск из части никогда не приезжал: она же написала в часть, что я, мол, в письме пригрозил, что вернусь – убью.
– Виталик, извини меня, это ведь я написала по ее просьбе, – призналась Павла Федоровна.
– Вы? – изумился Виталий.
– Она такие вещи про тебя говорила, что я подумала: ты хуже зверя, такой поганец. Вот и пожалела ее.
– Ну да… Наврать она умеет, не зря же Бродней зовут: всю жизнь по Тавде ходит и сплетни собирает да людей ссорит. Одному про другого гадость скажет, а потом к нему же пойдет и про первого наплетет. А потом глядит да радуется, как люди ссорятся.
– Виталик, да разве можно такое про мать говорить?
– Да если б это мать была настоящая, а то ведь она – хуже мачехи! Все наши из дома ушли, как только шестнадцать исполнилось. И Тоня, и Надя, и Вовка, и Толик. Толик вообще у тети Фени жил. И я ушел – женился, к жене и ушел.
– Ты был женат? – удивилась Павла Федоровна.
– Ну да. Надоело дома до смерти! И сейчас бы ушел, да некуда.
– А жена-то где?
– А-а… – махнул Виталий рукой. – Это моя жизненная ошибка. Разошлись мы. Я еще в армии служил.
История его женитьбы оказалась коротенькой. Женился Виталий и впрямь, чтобы из дома уйти. Учился в «ремеслухе», а там у сторожихи дочка – такая из себя вся крученая, глазками постреливала по сторонам, вот и «подстрелила» Витальку Изгомова, стеснительного спокойного паренька. А тому интересно показалось – как это с женщиной в постели быть, сладко ли? Оказалось – сладко, и вскоре они поженились. Но семейная жизнь – не гулевая жизнь, это поняли оба сразу, стали поругиватья потихоньку, но теща всегда держала сторону зятя, потому сразу и не разбежались. Потом и ребенок родился, которого Виталий нарек в честь погибшего брата Николаем. И тут собственная маменька «организовала» Виталию армию, загнали добра молодца на самый Амур-батюшку.
Вслед за мужем потянулась и жена Дина: молодке показался долгим срок спать одной в холодной постели – три года службы мужа в морских частях погранвойск. И все бы хорошо: не пустили морячка домой в отпуск, так жена сама приехала, ходи себе в увольнение, милуйся с ней. Но сыграла шалапутная натура женушки с Виталием плохую шутку – загуляла молодка. С одним да другим… Как узнал – не поверил, решил наведаться. Пришел. Сынишка к нему: «Папа…» – только лепетать начал, а жена показывает на другого, который развалился на кровати, вот, дескать, твой отец. Не стерпело сердце Виталия такой насмешки, забунтовало, и молодых развели в Благовещенском суде. И там Дина заявила, что Изгомов – не отец ребенку и даже благородно отказалась от алиментов, впрочем, какие с солдата алименты? Вспоминал о том Виталий, злился, что провела его девка, залетела от невесть кого, а он, как последний дурак, позор ее прикрыл – тогда все еще считалось позорным рожать вне брака. Это уж позднее матерей-одиночек чуть ли не в ранг героинь обратили, льготы им были определены – квартиру получали вне очереди, пособие было значительное.
– Ну, а если дома жить не хочешь, почему тогда вернулся, остался бы в армии, да и все, – осведомилась Павла Федоровна, выслушав рассказ Виталия.
– Да я и сам не знаю, зачем вернулся. Я же на Амуре служил в морчастях погранвойск. Решили мы все, кто со мной дембельнулся, поехать на БАМ.
– Что же не поехал?
– Поехал, да нас почему-то направили в Тюмень из-за дурацкого указания, что там должен был формироваться специальный комсомольский эшелон. А там что-то не состыковалось, вот мы и застряли в Тюмени на неделю. Я и попросился у старшого съездить в Тавду на денек-другой. Я даже вещи из камеры хранения не взял, в чем был, в том и поехал. Ехал в поезде до Свердловска, и всю дорогу в тамбуре чуть не плакал, думал: приеду, с родными увижусь – у нас же большая родня, четыре фамилии в роду, на могилу, думал, к отцу схожу, а домой не пойду. А приехал – пошел. Мать увидела меня, расплакалась, стала прощения просить. Я и остался, пожалел ее – старая все-таки, думал – изменилась она. Да какое – изменилась: все также пьет, так же по Тавде ходит славит. А в доме бардак да пьянки квартирантов. Можно я у вас поживу?
– Нет, Виталик, у меня дочь взрослая, незамужняя, скоро домой приедет. В качестве кого ты у нас жить будешь? Как я объясню людям – брат, жених? Извини, дочь позорить не хочу.
– Да ладно, все нормально. Я понимаю, но жаль, конечно. А я жениться опять хочу. Надоело все. Изгомиха опротивела.
– Виталик, – укоризненно покачала головой Павла Федоровна, – как же ты про мать нехорошо говоришь…
– Ай да! – раздраженно отмахнулся Виталий. – Какая она мать? Кукушка – и та лучше. Подкинула яйцо, и птенец не знает, какая его мать стерва. А мы все видим и знаем.
Виталий уходил, а Павла Федоровна все думала, как же порой жизнь бывает сложна. У нее – одни проблемы, у ребят Изгомовых – другие. Неприкаянные они какие-то. Что старшие, что Виталька. А парень он, кажется, неплохой. Услужливый, вежливый. И в магазин сходит, и дров для титана в ванной заготовит. Предлагал даже кухню кафелем отделать, да Павла Федоровна не согласилась: денег нет. А главное – спиртного почти в рот не брал, разве что по праздникам пару рюмок пропускал.
Шуру на вокзале встретили мать и среднего роста парень с красивым лицом. На его лоб спадал вьющийся чуб, глаза – карие, ласковые и доброжелательные. Но улыбка показалась почему-то язвительной, может быть из-за тонких губ. Он был в новом, недавно сшитом костюме, и чувствовал себя в нем явно неуютно.
– Знакомься, Шура: это – Виталик Изгомов, сын Нины Валерьяновны Изгомовой. Помнишь его?
– Виталька? Ты ли? – рассмеялась Шура. – Был такой шкет, а сейчас – парень хоть куда!
Щеки Виталия вспыхнули румянцем: не ожидал, что девчонка, которую он видел на фотографии у Павлы Федоровны, встретит его насмешкой. И обиделся: воображала, подумаешь – имеет образование большее, чем у него. Но это было неправдой. Шура никогда не старалась показать свою образованность, она считала, что средним техническим образованием кичиться не стоит, впрочем, высшим – тоже. Для нее не имело значения то, сколько человек учился – восемь классов или закончил ВУЗ. Главное для нее – душевные качества. Она всегда была верным другом, не способным на предательство, а если и посмеивалась, то всегда беззлобно. Виталий этого не знал и обиделся. Однако помог донести вещи до дома, потом извинился и ушел. Но девушка ему понравилась, хотя Виталий того не показал.
Виталий случайно увидел Шурину фотографию на столе в ее комнате, где Павла Федоровна попросила заменить лампочку в люстре. По бокам стола стояли книжные полки, явно кем-то сработанные, а не купленные в магазине. Виталий поинтересовался, кто делал полки, потому что увидел опытным взглядом огрехи в работе.
– Да Шурочка сама сделала.
Виталий не поверил: чтоб девчонка да столярничала?
– Правда-правда, – горделиво уверила его Павла Федоровна. – Она у меня все умеет делать. И ремонт в квартире сама делает, и шьет, и в электричестве разбирается.
Виталий недоверчиво хмыкнул, дескать, что-то много положительных качеств у девчонки, однако проникся к Шуре симпатией.
Не успели мать с дочерью наговориться, наглядеться друг на друга, как явилась Изгомова. Шуре она не нравилась, но была благодарна ей за то, что Изгомова иногда помогала матери, правда, не бесплатно. Сделав на копейку, плату требовала на рубль. Нет, она не ставила условие: я тебе, ты – мне. Павла Федоровна рассказывала, что Изгомова ночевала у нее почти каждую ночь. Выполнив просьбу, казалось бы, за спасибо, являлась к вечеру, разваливалась на хозяйской кровати прямо в одежде и, вроде бы, шутя, требовала ужин да к нему бутылочку.
Павла Федоровна, скрепя сердце, выполняла это требование, но выгнать нахальную бабу не могла: зимой она по-прежнему не выходила на улицу, и, кроме Изгомихи, никто не мог за нее сходить хотя бы в магазин. Это уж позднее стал Виталий помогать.
Изгомова сразу же с порога, как обычно, со смешком спросила:
– Хи-хи… А поесть у вас есть что?
– Садись, Валерьяновна, – пригласила Павла Федоровна, – мы как раз обедаем.
– К обеду и бутылочку надо, а то обед не в радость, – хихикнула опять гостья.
Шура молча отправилась в магазин, купила вина. Ей этого не хотелось, но решила разок из благодарности ублажить Изгомову. Вернувшись, поставила бутылку на стол, извинилась и ушла в свою комнату, сославшись на усталость после дороги. Вскоре покинула дом и гостья. Да и чего зря сидеть, если постель ей не приготовили, а бутылка пуста?
Перед уходом она сделала неожиданное предложение:
– А что, Федоровна, давай поженим твою Шурку да мово Витальку. Я им дом свой отдам, а сама к тебе переберусь. Тебе со мной веселее будет.
Павлу Федоровну передернуло от мысли, что Лягуша – так она звала Изгомову за широкий тонкогубый рот, делавший ее улыбку лягушачьей – будет свекровью ее Шурочки. Но вежливо ответила:
– Дочку я неволить не буду. За кого захочет, за того и замуж пойдет.
– Мам, зачем ты ее привечаешь? – спросила Шура, когда Изгомова ушла. – Такая она противная, злая, по-моему.
– Ты права: и противная, и злая, да ведь за добро добром платить надо. А она мне, хоть и небескорыстно, помогала.
Шуре новая работа понравилась, хотя весь день проходил в хлопотах. С рабочими она поладила сразу, и с директором – тоже. Всех Шура знала, потому что работала в типографии во время практики. А вот с Нетиным отношения никак не ладились. Шура уже не приставала с шутками к парню, обращалась только по делу. Да и как могло быть иначе, если уехала девчонка-практикантка Шура, а вернулась мастер Александра Павловна. Но рабочие заметили сразу же перемену в обличьи Коли. И тут же довели до сведения Шуры свои предположения: