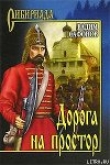Текст книги "Дорога неровная"
Автор книги: Евгения Изюмова
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 27 (всего у книги 64 страниц)
В поле плачет вьюга и хохочет метель,
на дороге маячит одинокая тень.
Ветер бьет ее сбоку, и в затылок, и в грудь,
только негде той тени прикорнуть, отдохнуть.
Тень прошла все дороги, все овраги, леса,
в кровь истерзаны ноги, в седине волоса.
Ей пора отдохнуть бы, только где же тот дом,
где согрели ее бы, обласкали теплом?
И бредет, спотыкаясь, бесприютная тень,
как былинка, качаясь, ищет светлый свой день…
Завтракая перед уходом на работу, Павла удивилась, что Витя тоже встал, принялся за еду.
– Ты что? Спи, рано еще, – сказала Павла сыну.
– Не рано, – сын деловито очищал картофелину, макал ее в соль и с аппетитом ел. – Я, мам, решил на завод пойти работать. Трудно ведь тебе одной с нами. Я с ремеслухой, ребятами из ремесленного, говорил, так они сказали, что на гидролизном нужны люди в котельную. Вот я решил пойти да устроиться. Сегодня мне на работу надо в день.
Павла задумчиво посмотрела на старшего сына. Четырнадцатый год парнишке. И маленький еще, однако, уже и взрослый, раз сам решил для себя, что ему делать. Может, и правда, отпустить его? Рабочая карточка лучше отоваривается. Нет-нет, мал он еще, хоть и крепок с виду. Мал.
– Эх ты, работничек мой! – погладила она его по густой темной шевелюре. – Хоть шестой класс окончи, а летом и пойдешь на работу, – она обняла сына за плечи. – И не спорь. Я работаю, Роза работает. Хватит нам!
– Ага, – буркнул насмешливо сын. – Работает, дак ведь для себя, – намекнул он на то, что Роза мало вносит в семейный бюджет. А Павла молчала, деля продукты, полученные по своим карточкам, на всю семью. – На подсочке всю свою и твою одежду испортила, а разве тебе что-то купила взамен?
Не послушался Витя мать, устроился все-таки на гидролизный завод мотористом насосного агрегата.
И опять покатилась жизнь своим чередом. Но никогда Павла больше не замышляла убить себя и всю семью, зажимала душу в кулак и тянула семейный воз дальше. Иногда брала в руки гитару – научилась играть на ней еще до войны, когда занималась в театральном кружке, пела грустные песни и рыдала. Так горько, что дети стали прятать от нее гитару – они не любили, когда мать плакала.
Победа ворвалась в дом Дружниковых вместе с ликующим голосом радиодиктора Левитана. Никто, как он, не мог произнести с такой завораживающей силой: «Говорит Москва! От советского информбюро!..» Этот голос звучал из черных тарелок громкоговорителей, которые были включены днем и ночью, чтобы не пропустить сводку Совинформбюро. К нему привыкли, по интонации могли уловить, какую он скажет весть – радостную или горькую. И в том, и в другом случае дрожь пробегала по спинам, и не даром ходил по стране анекдот, что Гитлер, якобы похвалялся, что, войдя в Москву, первым делом разыщет Левитана и подвесит его за язык. Но в Москве Гитлер не только не бывал, он ее даже и не видел, а тем счастливчикам, которые с двадцать пятого километра Волоколамского шоссе пытались разглядеть ее в бинокли, русские солдаты при защите Москвы крепко дали по скуле. А получив «пинок» под Сталинградом, покатились фашисты обратно.
Весенние ночи на Урале светлее день ото дня, в мае они – ясные, тихие, почти летние. Павла часто с вечера долго вертелась, ворочалась в постели – бессонница одолевала ее вместе с невеселыми думами. Вот и в тот незабываемый день лишь под утро сумела заснуть, и вдруг…
– Говорит Москва! – грянуло по дому так ликующе, что даже спросонок Павла поняла: Левитан сейчас что-то важное сообщит, вероятно, даже о Победе, ведь советские войска уже в Берлине, над рейхстагом – красный флаг. Она машинально посмотрела на часы-ходики: не пора ли на работу.
А голос Левитана набирал силу, и сказал, наконец, самое главное, самое важное и долгожданное слово – Победа!
В доме захлопали двери, Ксения-соседка, такая же бедолага-солдатка, как и Павла, забарабанила кулаком в дверь Дружниковых:
– Паня-а-а!!! Победа!
Павла, на ходу надевая халат, босиком выскочила во двор, где уже собрались все, кто жил в доме. Люди обнимались, кричали всяк свое, не слушая друг друга. Вслед за матерью из дома вылетели и Витя с Геной, размахивая красным платком Павлы, в котором она исходила все дороги Жиряковского сельсовета. Мальчишки отодрали штакетину от забора, прибили к ней платок, влезли на крышу, и затрепетал над домом флаг, захлопал на ветру, а мальчишки восторженно выплясывали на самом коньке немыслимый дикий танец под громкое «ура!», которое от их дома катилось куда-то в центр города.
Павла спохватилась, вбежала в дом, быстро оделась и поспешила на работу. На улицах уже было полным-полно людей, все, как и Павла, спешили на свои заводы, туда, где проработали всю войну, к тем, с кем делили тяготы военной жизни, каждый, наверное, думал, что именно он первый принесет весть о Победе, работавшим в ночную смену. Знакомые и незнакомые, плача и смеясь, приветствовали друг друга, обнимались и бежали дальше.
Сердце Павлы бухало молотом, она задыхалась, но ни разу не остановилась отдохнуть, пока не добежала до лесохимической артели имени Кирова, куда направили ее замполитом после ликвидации городской радио-редакции, где работала редактором, вернувшись в Тавду из Жиряково. Во дворе артели бушевало море улыбок, женщины размахивали косынками над головой, мужчины подкидывали вверх кепки. Лица – светлые и радостные, только нет-нет да блеснет на глазах слеза у тех, кому ждать с фронта уже некого.
– Ну, замполит, с Победой нас, с великой Победой! – такими словами встретил Павлу председатель артели Федор Иванович Зенков и расцеловал ее в обе щеки. – Начинаем сейчас митинг, тебя ждали, знали, что прибежишь, – и закричал во весь голос: – Товарищи! Все вы слышали по радио, что немцы капитулировали! Войне – конец! Скоро ваши мужья и сыновья, отцы и братья с победой вернутся домой! Слава им, товарищи!
– Ур-ра-а!!! – взметнулось ввысь.
– Мы… – хотел продолжить свою речь Зенков, но вдруг споткнулся на слове, вытер глаза рукой и шепнул Павле: «Говори сама, Павла Федоровна, не могу я! Мой-то сын не дожил до победы…» – и отвернулся, чтобы скрыть набежавшие слезы, лишь плечи заходили ходуном от сдерживаемых рыданий.
А у нее и самой горло перехватило спазмом, она прижала ладони к шее, словно хотела помочь словам прорваться наружу, но слова застряли, и Павла несколько секунд стояла, онемевшая, перед людьми, сумев лишь выговорить:
– С Победой вас, дорогие товарищи… – и тоже заплакала – тихо, горько, и люди поняли, почему она не может говорить: муж ее уже не вернется с войны, потому что «пропавший без вести» к концу войны, когда уже исчезала надежда на возвращение фронтовика, очень часто значило – «погибший».
В тот день заводы не работали, это был первый за всю войну радостный выходной день. По такому случаю в заводских столовых для рабочих устроили праздничный бесплатный обед, прибавив к нему и сто грамм водки. И хотя все поздравляли друг друга с победой, в иные стопки капали слезы горечи – не все вернутся с фронта…
Мчится танк по полю, мчится прямо на Павлу. Она и рада убежать, да нет сил. И в последний момент из-под самых гусениц ее выхватили сильные надежные руки. Кто это? Улыбчивое лицо, озорной прищур глаз, ворошиловские усы щеточкой…
– Максим! – бьется между стен крик. – Ты жив?!
А вместо ответа рядом слышится чей-то разговор:
– Температура не спадает. Доктор, что будем делать?
– Надеяться на организм. Сердце вот слабое, это плохо.
Павла очнулась ночью. Мучительно старалась понять, где она. Помнила, как страшно болела кожа на лице, горела огнем, как везли ее куда-то на телеге… Где она?
С трудом повернула голову. Веки такие тяжелые, что еле-еле разлепились, и глаза смотрели в узкую щелочку на мир.
– Пить, – попросила Павла, едва ворочая пересохшим языком.
– Сейчас, – откликнулся кто-то, и теплые руки вложили в руки Павлы стакан, помогли приподнять голову и напиться.
– Где я? – и голос еле слышен.
– В больнице, – перед ней замаячило незнакомое лицо в белой косынке.
Что со мной?
– Рожистое воспаление.
И лицо уплыло в темноту, вновь кто-то погнался за Павлой, а она никак не могла убежать, и опять беспомощно кричала, молила о помощи. Но это ей казалось – кричала, на самом деле губы едва шептали. В себя она пришла лишь под утро, увидела, что рядом с кроватью стоит доктор, и вновь спросила:
– Что со мной?
– Рожистое воспаление, – ответил тот.
– Плохо это?
– Да. Опасно. Никак не можем сбить температуру ниже сорока градусов, а сердце у вас больное, может не выдержать.
– Доктор, мне умирать нельзя, у меня трое детей! – отчаянно затрясла головой Павла. – Помогите!
Доктор стоял рядом, размышлял, ухватив подбородок ладонью. Потом сказал медсестре:
– Пенициллин, через два часа в течение суток.
– Пенициллин? – удивилась медсестра. – Новый препарат, неизвестно, как подействует. И… его мало, он на строгом учете.
– Я сказал – пенициллин! – доктор строго и сердито смотрел на помощницу, а Павла опять падала в пропасть.
Кто, кто спасет, кто поймает ее там, в глубине?
Через два дня в изоляторе, где лежала Павла, побывали почти все врачи. Возникали молча на пороге, смотрели на нее, как на чудо, и также молча исчезали. Никто не верил, что Павла выживет, никто не верил в пенициллин. А он помог. Выплыла Павла из забытья, прекратился бред, температура хоть и была еще высокой, но как сказал врач, вполне терпимой. И теперь всем скептикам оставалось только удивляться, глядя на нее, вернувшуюся почти с того света, благодаря чудесному лекарству.
Еще через день Павла смогла встать и доковылять до окна, когда ее пришла навестить Роза. Сестра глянула на нее и отшатнулась, призналась потом, что Павла стала неузнаваемой: блестящее, красное, распухшее лицо и лихорадочно блестевшие сквозь татарские щелочки глаза, и впрямь – рожа. Но пенициллин упорно сражался с болезнью, и хотя Павла лежала в больнице почти месяц, все же он вышел победителем.
Накануне выписки зашла ее проведать и Зоя.
Сестра вернулась из армии летом сорок пятого с первой волной демобилизованных, в ее документах значилось, что отныне она и самом деле – Зоя, а не Заря. Она сильно изменилась: стала грубей и развязней, курила. Могла, не морщась, выпить и стакан водки. И часто рассказывала, как ей, радистке, хорошо жилось со своим фронтовым мужем капитаном Зотовым. Они хотели даже оформить свои отношения законным образом и уехать к нему на родину – в Москву, где Зотов до войны занимал какой-то пост в торговле. Он был намного ее старше, и, как говорила Зоя, очень любил ее, и она, конечно, рассчитывала на безбедную и сытую жизнь. Но Зотов попал в автомобильную аварию, умер в госпитале, а ее, как женщину, демобилизовали: он заранее позаботился о том, чтобы Зою внесли в список на демобилизацию. И не погибни Зотов – Зоя при этом пренебрежительно махала рукой – разве бы она вернулась в эту «дыру», в Тавду. Правда, она быстро утешилась с новым другом.
Жить им было негде, потому Павла приняла ее в свой дом, отдав одну из комнат, сама же с детьми ютилась в другой. И впрямь, не оставлять же сестру на улице, тем более что Ефимовна жила у Розы, которая вышла замуж за человека на двенадцать лет старше себя и готовилась стать матерью. Многое Павле в характере сестры не нравилось, но свой своему – поневоле друг, так считала Павла.
– Ну, Пань, ты прямо молодец! – похвалила сестру Зоя. – Принести тебе чего-нибудь?
– Белье чистое принеси, – попросила Павла. – И платье. Оно в чемодане лежит, внизу. Завтра меня выписывают.
– Ладно, принесу, – кивнула Зоя. И сообщила. – Я квартиру нашла, ухожу от вас, так что вам свободнее будет.
Зоя еще поболтала немного и ушла. К вечеру принесла все, что просила Павла.
Ах, какое наслаждение идти по улице, и хоть от слабости дрожат ноги, но жива. Жива! Над головой голубеет небо, светит ласково солнышко в лицо, гладит по щеке ветерок. Павла тихо шла по вечерним улицам и радовалась всему, что видела вокруг. Жива!
Дома дети скакали от радости вокруг нее веселыми козлятами, Ефимовна, жившая у них, пока Павла болела, плакала и крестилась, обнимая дочь. И в свойственной ей бесцеремонной манере высказалась:
– А мы уж думали, Паня, что умрешь. Я стала и к похоронам готовиться, материалу красного да белого купила.
Павлу передернуло с головы до ног от мысли, что и она могла лежать в гробу, как Люсенька, и ничего бы не знала, как дети растут, как светло днем, как зеленеет трава и листья деревьев. А дети? Как бы они жили без нее?
– Паня, давеча Степан Захарович Жалин заходил, говорил, что в артели про тебя спрашивали из горкома. Может, натворила чего? – опасливо сообщила Ефимовна. – Да вот он и записку оставил. На-ко, – Ефимовна пошарила в кармане передника, вынула бумажку. – Я хотела прочесть, чтобы тебе в больнице рассказать, да непонятно, – мать умела читать только печатные буквы. И писала такими же буквами.
Павла взяла записку. Жалин, сменивший Зенкова, которого перевели на другую работу – коммунистов часто «бросали на прорыв» – сообщал, что Павлу просили зайти в горком партии в отдел пропаганды, и срочно.
Ну что же… Срочно, так срочно. Завтра все равно на работу. Потому в горком сходить можно и сегодня.
Павла попросила мать нагреть воды, а сама, утомленная пешим переходом от больницы до дому, легла отдохнуть. Когда все было готово, Павла вымылась, переоделась в чистое. Она решила надеть свое последнее выходное темно-синее шерстяное платье, купленное еще Максимом, чудом уцелевшее от мены на продукты. В чемодане все было сложено непривычно и неаккуратно чужой равнодушной рукой: не удосужилась Зоя сложить все, как лежало, потому Павла стала перекладывать вещи по-своему.
– Мам, – позвала Павла Ефимовну, – а где наши облигации? Что-то я их не нашла в чемодане. Убрала что ли куда?
– Нет, – откликнулась мать, возясь у плиты. – Все должно быть на месте. Да куда им деться-то? Погляди получше.
Павла тщательно перебрала все вещи, одну за другой. Нет, облигаций нет. А в них – тысячи две или три, ведь иной раз приходилось подписывать заем на всю зарплату. Каждая облигация помечена первой буквой имен ее родных – детей и матери. Помечала и смеялась тогда, что вот кому выпадет выигрыш, тогда и будет ясно, кто у них самый счастливый. Мало верилось, что вернутся те деньги выигрышем, но ведь Сталин говорил: эти заемы – временно взятые у народа средства – будут возвращены, кому выигрышем, кому просто погашены. А Сталин обманывать не станет. Сталин – почти бог.
– Да нет же облигаций! – потеряла терпение Павла от бесполезного рытья в чемодане.
Мать подошла. Вместе опять пересмотрели все вещи. Обескураженные, сели рядком на кровать перед раскрытым чемоданом, размышляя над тем, куда могли деться из чемодана облигации.
– Да уж не Витька ли, варнак, слямзил? – предположила Ефимовна. – То-то вертелся он все время возле чемоданов. Деньги-то были там? А то давеча конфет откуда-то притащил. В ём же беспутная копаевская кровь, прости, Господи, такого дурака… Деньги-то были в чемодане?
Павла молчала, стараясь унять гнев, наконец, попросила:
– Позови его, если он во дворе.
Витька явился мигом: не успел еще сбежать с дружками со двора. Хоть и работал парнишка на заводе, а возраст – четырнадцать лет – давал о себе знать.
– Чо, мам? – спросил с готовностью сын. – Зачем звала? Помочь надо?
– Ты облигации взял? – тихо спросила Павла, глядя в серые сыновьи глаза.
– Ты чо, мам, не брал я ничего, – замотал отрицательно головой Витя. – Не брал. На что они мне?
– Ах, не брал? А откуда конфеты, что ты вчера принес, бабушка сказала? А? Откуда у тебя деньги?
Витя покраснел: не скажешь ведь матери, что деньги те выиграл в карты – мать картежников не любит. Павла смущение сына поняла иначе и вскипела:
– А-а-а, выходит, брал, продал, наверное, а теперь стыдно, да? – и наотмашь хлестнула сына по щеке.
– Не брал я! – дико вскрикнул Витя, отшатываясь.
– Не брал?! А кто вечно в стол за конфетами лазил, как вор? – Павла понимала, что говорит пустое, укоряя сына детской проказой, когда он с Геной тайком добывал из стола пайковые конфеты. Да и конфеты он таскал не столь из-за своей испорченности, сколько голод заставлял это делать. – Кто? Разве не ты?! – она вновь размахнулась для нового удара.
– Не брал я, не брал!! – закричал Витя и выскочил за двери.
Павла упала грудью на стол, зарыдала от стыда, что впервые подняла на сына руку, а может, он и впрямь не брал эти проклятые облигации, пропади они пропадом… Рядом стояла Ефимовна и причитала:
– Что уж ты, Паня, волю рукам даешь, – она забыла уже, как охаживала, бывало, старшего внука ремнем, как ломала о лоб озорного мальчишки деревянные ложки. – Парнишку вон ударила. Да, может, и не он это.
– Ты же сама сказала, что вертелся он возле чемоданов, что конфеты принес! А теперь же меня и стыдишь! – разозлилась Павла, обжигая мать взглядом исподлобья.
Ефимовна сразу замолчала: в такие минуты взгляд Павлы приводил Ефимовну в трепет, потому что глаза дочери с возрастом стали точь-в-точь как у свекровки-староверки, да и обличьем Павла, казалось, стала походить на свою бабушку. И Ефимовна бочком выскользнула из комнаты.
– Девушка, а мне бы сделать отметочку о прибытии.
Павла оторвала взгляд от печатной машинки, посмотрела на говорившего. Перед ней стоял молодой мужчина лет двадцати пяти в военной форме без погон и смотрел на нее, едва приметно улыбаясь.
– Давайте направление, – она взяла протянутый парнем бланк и стала записывать его данные в журнал. – Так, Ким… – «Хм, имя какое странное», – подумалось ей, и она взглянула на парня, – Петрович… Фирсов… Третий курс… – увидела по документам, что Фирсов уже начинал учиться в техникуме, сказала участливо. – Трудно будет догонять свой курс. Наверное, все забыли?
Фирсов стеснительно улыбнулся:
– Демобилизовался недавно, и чтобы время не терять, решил сразу же восстановиться в техникуме, вы не беспокойтесь, догоню.
Павла и не беспокоилась. Она выдала Фирсову направление в общежитие, объяснила, как туда пройти, к кому обратиться, и опять принялась печатать приказ директора техникума, потеряв интерес к Фирсову, а тот почему-то еще несколько мгновений потоптался перед столом, вздохнул и вышел.
Был сентябрь сорок девятого…
Павла работала секретарем-машинисткой в лесотехническом Тавдинском техникуме уже несколько месяцев. Между артелью Кирова и техникумом ей пришлось поработать и в других местах. Сразу же после возвращения из больницы ее вызвали в горком партии и предложили вновь возглавить редакцию радио. Пусть это не газета, но все-таки журналистская работа, к ней Павла прикипела сердцем еще до войны, и она с радостью согласилась. Но через год кому-то в областном радиокомитете взбрело в голову ликвидировать радио-редакцию в Тавде, и Павла осталась не у дел. Обратилась в горком, но первый секретарь пожал равнодушно плечами, объяснив, что пока для нее подходящей работы нет, видно, нужна была Павла для работы в радио, призвали и обласкали, а ликвидировали редакцию, и никому не стало дела до ее дальнейшей судьбы. Один из инструкторов, правда, сообщил, что в артель инвалидов «Птицепромторг» требуется начальник кулеткацкого цеха, но зарплата была там мизерная, и она вскоре уволилась. И тут Виктор, старший сын, сказал, что к ним на гидролизный завод, где он работал, нужен моторист насосного агрегата, и Павла стала мотористом. Но долго и там не продержалась: жара, шум плохо действовали на нее, и после нескольких сердечных приступов Павла уволилась с завода.
В горкоме пообещали что-нибудь подыскать, но прошел месяц, другой, а горком молчал. Зато встретился на улице директор техникума, он хорошо знал Павлу и, узнав, что она безработная, предложил место секретаря-машинистки, и главным аргументом был тот, что в студенческой столовой дешевые обеды, потому экономилась значительная часть зарплаты. Так вот и стала Павла работать в техникуме.
Новая работа ей не нравилась: приходилось всем улыбаться, готовить чай директору, выполнять его поручения, не связанные с техникумом: характер совсем не подходил для секретарской работы, где главное – умение угождать, а вот как раз это делать Павла и не умела. Но деваться некуда, а тут – работа в тепле, в чистоте, небольшая, но твердая зарплата. К тому же дали квартиру в доме почти рядом с техникумом на памятной для семьи Дружниковых улице – улице Сталина, где жили до войны. А в прежнем их доме, откуда переехали на Сталинскую, разместилась музыкальная школа.
Виктор ушел с гидролизного завода и работал учеником каменщика на стройке. Эта профессия ему нравилась, к тому же сдельная работа позволяла заработать больше, чем на заводе. Виктор почти всю зарплату отдавал Павле, так что жизнь семьи потихоньку налаживалась.
Виктор к семнадцати годам вытянулся, стал широкоплеч, а Павла в свои тридцать четыре выглядела молодо, больше походила на его старшую сестру, чем на мать. Виктор однажды со смехом признался, что девчонки со стройки подумали, увидев их однажды вместе в кинотеатре, что Павла – его подружка. «Представляешь, мам, – хохотал Виктор, – ты – моя подружка!» Павле было приятно это слышать, значит, она и впрямь еще хороша.
Однажды за ужином Виктор предложил Павле сходить в кино. Снова шел любимый всей семьей «Багдадский вор», фильм довоенный, очень трогательный, песню из него «Никто нигде не ждет меня – бродяга-а-а я-а-а…» – постоянно распевал голосистый Генашка.
Павла согласилась и переоделась в симпатичное шерстяное платье, недавно купленное ей Виктором с получки, подкрасила губы, капнула на палец «Красной Москвы» – она по-прежнему любила эти духи, тронула себя за ухом, на которое спадали прямые, почти черные волосы, пышные, густые.
Виктор вертелся рядом, тоже разглядывая себя в зеркало. Но, в отличие от матери, он вылил на себя полпузырька «Шипра».
Генка валялся на кровати, наблюдал за ними с усмешкой и горланил на весь дом: «Бродяга-а-а я-а-а-а!!!» – он смотрел этот фильм раз десять и отказался идти с ними в «Октябрь» – единственный в городе настоящий кинотеатр. К тому же Генке больше нравилось бегать в клуб завода «семи-девять», где тоже часто шли советские и трофейные фильмы, и пересказывал содержание «в лицах». То представлял смешного толстяка-инженера Карасика из фильма «Вратарь», надувая щеки, подпрыгивал на месте и басом кричал: «Ерунда! Дождик! Ерунда!» Или же изображал летающий истребитель и взахлеб рассказывал о трех закадычных летчиках из «Воздушного тихохода», которые поклялись до конца войны не влюбляться в девушек, и песенку из того фильма переделал по-своему. «Первым делом поломаем самолеты, – дерзко голосил он, получая не раз от бабушки подзатыльник, – ну, а девушек, а девушек – потом!» Бывало, не поддавался мальчишка бабушке, и та носилась за внуком с веником в руках, пытаясь огреть его по тощему заду, а тот хохотал во все горло, увертываясь, пока не надоедало развлечение, и тогда улепетывал на улицу.
Гена вообще рос смешливым, скорым на розыгрыши, прибаутки, как и Максим, и порой так заразительно смеялся, что не удерживались и другие. Одно плохо – мальчишку продолжали бить припадки.
– Ну, как, Генашка, хорошо я выгляжу? – мать потрепала сына по волнистым, совсем как у отца, волосам, вздохнув при том: «Где ты, Максим? Видел бы ты своего сына, он так похож на тебя…» – Хорошо я выгляжу?
– Во! – Генка выкинул вверх большой палец левой руки. – Вы прям как жених и невеста!
– А правда, мам, – шутливо спросил вдруг Виктор, – может, мне и в самом деле жениться? – в его голосе, кроме шутливости, проскользнуло нечто странное, и Павла насторожилась:
– Что, уже и на примете есть кто-то? – спросила сына.
– Да, – улыбнулся сын.
– И кто же?
– Нина Шалевская, ну, она с нашей Лидкой дружит, на Лесной живет.
– Да знаю я! – досадливо махнула рукой Павла. – Только не очень мне эта семья нравится. Как будто из кулаков они. Да и девчонка… Крученая какая-то, верченая. Тебе такая не нужна.
– А какая? – набычился Виктор.
– Не знаю, но не такая. И вообще я с кулаками родниться не собираюсь! Этого еще не хватало! Отец куркулей раскулачивал, а ты за кулачкой бегаешь!
Виктор засопел сердито, молча вышел из комнаты. Генка, лукаво улыбаясь, сказал:
– Мам, а они уже целовались, я видел.
– Не ябедничай! – отрезала мать и тоже вышла вон.
В кино все-таки пошли: не пропадать же билетам, однако у обоих настроение испортилось.
Кинотеатр «Октябрь» находился рядом с большим парком неподалеку от почты. Уж так обычно бывает в маленьких городках – все самые важные общественные пункты в самом центре, рядышком друг с другом, и Тавда в том смысле не была исключением. На центральной улице имени Ленина были кинотеатр, парк, почта, исполком и горком партии, магазины и школа, в которой учились в свое время Витя, Лида и все ребята с улицы Сталина. И вообще она была центром встреч, гуляний и свиданий.
В «Октябре» было многолюдно: некуда людям податься после работы, чтобы отдохнуть, если, конечно, человек не являлся завсегдатаем «Чайной» возле рынка, в которой можно заказать и пару стопок водки к обеду. Так что в «Октябре», где был буфет, на вечернем сеансе всегда было много народу. Павла с Виктором чинно прошлись туда-сюда по фойе, раскланиваясь со знакомыми – еще одна особенность жизни маленьких городков: все друг друга знают – наконец, остановились у одной из стен.
И тут из толпы на Павлу глянули чьи-то блестящие глаза, она почувствовала необъяснимое волнение и стала внимательно рассматривать всех, кто был в фойе. И увидела. Того самого парня, который утром приходил за направлением в общежитие. Он стоял у противоположной стены и смотрел восхищенно на Павлу, не обращая внимания на кокетливые взоры девчонок, стоявших рядом с ним. «Как его зовут? Имя такое странное… А! Ким!» – вспомнила Павла, и уже не могла не смотреть на парня, все вскидывала на него глаза. И он смотрел по-прежнему серьезно, без насмешки, восхищенно.
После кино Павла с Виктором сразу же пошла домой. Они шли молча, потому что в голове у нее все вертелся вопрос: почему Ким так смотрел на нее, а сердце уже подсказывало, почему, и сладко ныло в предчувствии чего-то чудесного. Виктор молчал, потому что еще сердился на мать. Когда пересекли железнодорожные пути, чтобы выбраться на улицу Сталина, и до техникума осталось метров триста, сын вдруг сказал:
– Мам, я на полчасика сбегаю в одно местечко, а? Тут уж близко, дойдешь до дома?
– Да ладно уж, беги, – улыбнулась Павла.
Виктор лихо развернулся на каблуках и ринулся обратно «в город», а Павла тихонько побрела по улице, вдыхая свежий, пахнущий рекой воздух, который принес ветер. За спиной неожиданно послышались чьи-то шаги, Павла прибавила ходу, пожалев, что Виктор не проводил ее до дома: улица хоть и своя, но плохо освещена. Решила юркнуть в первый попавшийся двор, но раздался приятный мужской баритон:
– Погодите, остановитесь, прошу вас! – воскликнул мужчина взволнованно. – Я ничего вам не сделаю, остановитесь, пожалуйста!
Павла остановилась, резко развернулась, приготовившись к отпору, но тут же облегченно вздохнула: это был Ким.
– Вы? Откуда?
– Да я же следом шел, ведь в общежитии живу, рядом с техникумом. Вы знаете, я слышал ваш разговор с молодым человеком и бесконечно рад, что это ваш сын. Меня зовут Ким Фирсов, а вас?
– Павла Дружникова.
Ким схватил обеими руками ладонь Павлы и энергично потряс ее:
– Вы даже не представляете, как я рад, что познакомился с вами!
Павла удивленно вдруг осознала, что и она рада знакомству с этим парнем, который, судя по документам, на десять лет ее моложе. Он такой красивый, и смотрел на нее так восхищенно, что у Павлы дух захватывало, и сердце трепетало, словно пойманная в сети птица.
Отношения Павлы с Кимом развивались стремительно.
Поклонниц у Кима, вчерашнего лейтенанта-артиллериста, было столько, что сердце Павлы не раз ревниво затаивалось в груди, потому что при мужском дефиците даже самые неказистые парни сразу находили себе пару, а уж о красавцах, вроде Кима, и говорить нечего. Но Ким смотрел восторженно только на нее, и почти все свободное от занятий время торчал в ее кабинете или же рядом с ним.
Павле Ким нравился день ото дня все больше, потому, когда ее опять неожиданно вызвали в горком и предложили вновь организовать и возглавить радио-редакцию – теперь в области решили, что таковая Тавде нужна – то Павла с радостью согласилась и предложила кандидатуру Кима в качестве диктора. Вообще-то Павла понимала, что Ким немного туповат: учеба ему давалась с трудом, да и хорошими манерами не отличался. Впрочем, негде было Киму обходительным манерам учиться: родился в деревне, семнадцати лет попал на фронт, воевал, потом дослуживал действительную, хотя имел лейтенантские погоны, но его возраст сразу после войны не подлежал демобилизации. Павла устроила Кима на радио лишь потому, чтобы на глазах был, а не околачивался возле молоденьких девчонок, а вообще-то не обольщалась насчет дикторских способностей своего возлюбленного. Но не зря же говорят, что любовь зла…
Павла готовила все передачи вместе с другим диктором – Евгением Андреевым, высоким жгучим брюнетом с черными отчаянными цыганскими глазами. Женя работал детским хирургом, и диктором стал просто из любопытства. Он вообще многое делал из любопытства, и за что ни брался, все удавалось ему. Он был моложе Павлы года на два, прошел войну от первого до последнего дня с фронтовым госпиталем. Женат не был, и мало обращал внимания на женщин, хотя ему в больнице женщины этого внимания дарили сверх меры.
У Андреева в Ленинграде жила мать, но Женя, побывав однажды у нее после демобилизации, почему-то больше в Ленинград не ездил, а забрался в таежную уральскую глухомань. Жил Андреев на квартире у пожилой, интеллигентной старушки, которую Павла знала еще по довоенной работе в городской газете, часто бывала у нее, там и познакомилась с Андреевым.
Именно Женя и был виноват в том, что отношения Кима и Павлы подошли к логическому завершению – близости.
Женя обращался к Павле уважительно по имени-отчеству, частенько приносил ей цветы, и та всегда смущенно ахала: «Жень, ведь цветы такие дорогие, зачем тратишься?» Женя в ответ чмокал Павлу в щеку, а то хватал ее за талию и кружился, напевая, по студии. А Ким сидел в углу, сверлил Андреева глазами, тихо злился. Бурно злиться Ким не умел, потому что характер имел очень спокойный и выдержанный. Открытый и веселый, Женя Андреев был в семье Дружниковых своим человеком, с ним сыновья Павлы, несмотря на разницу в возрасте, дружили, это раздражало Кима тоже. И Ким, наконец, не выдержал.
Обычно после передачи Ким и Женя провожали Павлу домой. Ким делал вид, что ему просто по дороге – жил в общежитии на улице Сталина, а Женя делал это из галантности. По пути Женя оживленно болтал обо всем с Павлой, его совершенно не тревожил статус «третьего лишнего», а Ким злился, что Павла так охотно разговаривает с Женей. Часто втроем, доходили до квартиры Павлы, а потом до полночи «гоняли чаи».