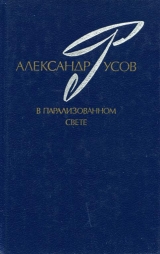
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 45 страниц)
– Ну? – ласково спрашивал он ее. – Что с тобой?
Она медленно, словно сквозь сон, проводила рукой по колючим его волосам. Он же испытывал к ней всепоглощающую любовь, какую, казалось, не испытывал ни к кому прежде. Или он просто забыл?
ГЛАВА IX
1. ВОСЬМОЕ ПИСЬМО ЛАСТОЧКИ СЫНУ
После Седьмого письма, которое, к немалому удивлению Валерия Николаевича, ему удалось написать всего за три обеденных перерыва, он никак не мог приступить к следующему. Мучился над чистым листом, заглядывал в выписки-извлечения из философских, нравоучительных, исторических трактатов, пытался представить себе лицо сына, то выражение, с каким он вскроет отцовское письмо и станет читать, но мысль ускользала, порхала вокруг да около, точно случайно залетевший в комнату воробей, которого хочешь поймать, чтобы выпустить, а он, глупый, бьется о стекло и не дается в руки. Уж как старался Валерий Николаевич! Подкрадывался едва слышно, складывал ладони лодочкой – однако в последний миг воробушек взлетал и вновь принимался метаться по комнате, задевая крыльями тесно расставленную мебель, круша все мелкое, неустойчивое на своем пути. Намерения у Валерия Николаевича были самые мирные, благородные, и оставалось тайной, чего боялась птица и почему она так упорствовала.
Стоило, скажем, Валерию Николаевичу подумать о принципате Августа – предмете давнего их с сыном спора, как перед его мысленным взором возникали вооруженные всадники, колесницы, обнаженные гетеры, прогулки философов-стоиков по берегу моря. И вот он уже видел всех своих четырех жен, а также остальных женщин, что когда-то нравились ему, но на которых по той или иной причине он все-таки не женился. И вот уже Валерий Николаевич сам решительно гнал от себя греховные видения, осмелившиеся посетить его в минуты духовного очищения, великого спора с самим собой о вечном и совершенном.
Вереница смущавших образов, точно колючки держидерева, мешала сдвинуться с места. Он делал рывок, но новые колючки впивались и не пускали, а лист бумаги, над которым маялся Валерий Николаевич, по-прежнему оставался девственно чистым. Это мучительное противоречие, это невыносимое состояние, чем-то схожее с тем, когда во сне отлежишь руку и она становится ватной, чужой и нет никакой возможности пошевелить ею, могло бы, конечно, ввергнуть Валерия Николаевича в полное отчаянье, навсегда отбить охоту писать, если бы не твердое его намерение во что бы то ни стало довести начатое до конца. Если бы не сознание ответственности, необходимости вложить в письмо к сыну то лучшее, что в нем было, некий экстракт накопленного человечеством опыта и освобожденной из плена повседневных забот души. Письма требовали терпения и мужества, обстоятельности и настойчивости. Кто-то отчаянно сопротивлялся Валерию Николаевичу, но и он отчаянно сопротивлялся кому-то.
Повторялась история с Шестым письмом, чуть не доконавшая несчастного отца. Разумеется, кандидат химических наук и старший научный сотрудник не мог верить в существование трансцендентных сил, от которых зависела бы его способность писать письма сыну. Не признавал он и такого расплывчатого понятия, как «вдохновение», не говоря уже об отдельной жизни души с ее таинственными взаимодействиями и превращениями. Всему нереальному он пытался найти разумное объяснение. Например, странное и наделавшее много шума исчезновение Аскольда Таганкова он лично воспринял как следствие административной неразберихи и бюрократических неурядиц, не отступив при этом ни на шаг от твердых материалистических убеждений.
Вся сознательная жизнь Валерия Николаевича была неразрывно связана с естественнонаучными экспериментами. За долгие годы работы в лаборатории он научился воспроизводить их, подчинять своему замыслу. Но теперь, приступая к написанию Восьмого письма, Валерий Николаевич вдруг ощутил полную свою беспомощность. Квалифицированный исследователь, привыкший безоговорочно доверять корректно поставленному опыту, он не мог не заметить, что все разумные его усилия сводятся на нет какой-то непонятной, ему неподвластной силой. Мысленно он непринужденно беседовал с сыном, сообщал нечто важное, однако стоило попытаться изложить эти мысли на бумаге, как кто-то невидимый похищал нужные слова. Мысли оказывались вещью в себе, наподобие чернил в школьной чернильнице-непроливайке. Поскольку в обеденный перерыв и вечером, когда писались письма, никого, кроме Валерия Николаевича, в лабораторной комнате не было, этим «кем-то» мог оказаться лишь сам Валерий Николаевич. Поняв это, добросовестный исследователь стал безжалостно истязать себя как единственного и тем более ненавистного своего врага, и лишь немеркнущий образ сожженного на костре Джордано Бруно давал силы верить, что земля все-таки вертится, миром управляют объективные, познаваемые законы, что человек – хозяин своей судьбы и в организме происходят лишь поддающиеся исследованию биохимические процессы, которыми ответственно и надежно управляют известные науке ферменты.
Но кто управлял ферментами? Кто сначала мешал, потом помогал Валерию Николаевичу в его общении с сыном?
Продолжая бороться с собой, Валерий Николаевич как молитву повторял про себя: «Все-таки она вертится! Все-таки она вертится!» – а жестокий огонь костра уже лизал ступни его ног. И вдруг, когда последняя надежда на спасение была утрачена, хаос отступил, мысли обрели порядок, силы вернулись. С непостижимой еще недавно легкостью он записал первую фразу письма: «Дорогой сын!»
«Дорогой сын!» – глубоко взволнованный, написал Валерий Николаевич, после чего резко выдохнул воздух, и душу его, исполненную смирения, охватила грусть. Он благоговейно прислушался сначала к себе, потом к тишине лабораторной комнаты. Все суетное, ложное теперь отступило куда-то. Позорно бежали с поля боя всадники, колесницы, голые женщины. Все четыре жены Валерия Николаевича слились в одну, а принципат Августа на глазах потерял обличие адского вертепа, обретя академические формы назидательного исторического примера. «Общий тон твоего последнего письма расстроил меня…»
Благостное тепло разливалось в груди, растекалось по всем членам, точно прохладной ночью он сидел у жаркого костра и записывал то, что диктовал ему кто-то невидимый…
«Дорогой сын!
Общий тон твоего последнего письма расстроил меня. Я уловил в нем враждебность к «научникам», чьи ряды, если не ошибаюсь, ты и сам собираешься пополнить в скором времени. Только не пытайся убедить меня, что науки гуманитарные и естественные – суть вещи разные. Самим насмешливым определением ты как бы проводишь грань, разделяющую истинно необходимые человеку знания и те, другие, которые, по-твоему, приносят уже больше бед, нежели пользы, ставя под угрозу саму возможность жизни. Но ведь и в древнем мире вопрос о гибельном воздействии человека на природу заставлял трепетать чуткие сердца. И тогда вопрошали: сколько же лет осталось жить нашей несчастной земле? Как видишь, она все еще вертится.
«Никогда вопрос не стоял так остро», – пишешь ты. Не стану утверждать, что опасности не существует, но преувеличивать ее так же нелепо, как и преуменьшать. В определенном смысле природа умнее человека, ибо гораздо старше его. Она только кажется беззащитной. Губя природу, человек, малая ее часть, губит прежде всего себя. У нее же всегда найдутся такие запасные выходы, потайные убежища, аварийные клапаны, о которых, скорее всего, никто из нас просто пока не подозревает. Она хитрее и сильнее нас. Попытаемся же сделать жизнь разумной, вместо того чтобы присоединяться к глупцам, кликушествующим о конце света или благодушествующим за счет будущих поколений, то есть обеспокоенных сиюминутным и не заботящихся о вечном.
Как известно, два препятствия стоят на пути истинного понимания вещей: стыд, наполняющий душу, словно туман, и страх, который перед лицом опасности удерживает от правильных смелых решений. Самое простое, распространенное лекарство от стыда и страха – это глупость. Неужели ты всерьез полагаешь, что лишь «гуманитарии» знают, в чем больше всего нуждается человечество, кто губит природу и кто спасает ее?
Пытаясь свалить вину за творящиеся в мире беды на «научников», дающих технике могучие инструменты преобразования мира, ты призываешь всеми возможными средствами воздействовать на них, взывать к их совести, понуждать отказываться от исследований, которые могут быть обращены во вред человеку. Но что это за области? Ты сам в состоянии их четко определить? И при чем здесь ученые? – снова спрашиваю я тебя. На мой первый вопрос ты ответил: «Если ученый не предвидит последствий своей работы, значит, он дурак».
Как приятно иметь столь проницательного, умного, а главное – смелого сына! Ты отважно берешься судить о вещах, в которых ровным счетом ничего не смыслишь. Позволь же заметить, что любое научное открытие – будь то новое явление или закон – может быть в равной мере, с тем большей, впрочем, вероятностью, чем оно крупнее, обращено во благо или во зло. Техника равно собирает свои злые и добрые семена с полей, возделанных пытливой человеческой мыслью. Техникой же руководит политика. Политику делают люди. Такова упрощенная цепь логических рассуждений, к которым с таким удовольствием ты прибегаешь в своих письмах, упрекая меня в пренебрежении логикой. Мои доводы кажутся тебе чересчур общими и основанными только на сомнительной вере, тогда как тебя могут убедить лишь конкретные факты. Как это угораздило нас поменяться местами? Моя вера, однако, опирается на точные знания, а вот твои «точные знания» покоятся на нелепой, наивной вере в то, что наука всесильна и от нее исходит главная опасность.
Теперь спроси себя: кто ответствен за воспитание будущих политиков, организаторов, вершителей судеб, за их представления о ценностях, о хорошем и дурном? Кто учит всех нас?
Не хочу, сын мой, отягощать твои слабые плечи гуманитария, но и ты будь настолько великодушен, чтобы не взваливать целиком на мои, уже не слишком молодые, груз, который мы по справедливости должны разделить поровну.
Просвещай же и воспитывай не только меня, но и своих собратьев гуманитариев. Ведь именно в их школах получат образование завтрашние властители мира. Не сваливай вину за негодное воспитание на неразумных учеников. Взгляни, так ли уж безупречны учителя? Так ли благи их намерения? Но прежде определи для себя, что есть благо.
Любое наслаждение, радость стоит на краю откоса и скатится к страданию, если не соблюсти меры, а соблюсти ее в том, что кажется благом, очень трудно. Жизнь человеческая нуждается в сосредоточенности, ибо у кого настоящее уходит впустую, тот зависит от будущего. Страсть к путешествиям, к постоянной смене впечатлений, лиц, мест – верный признак незрелой или больной души. Свидетельством мудрости является способность длительно оставаться наедине с собою. Но и чтение множества писателей, а также разнообразнейших книг сродни бродяжничеству и непоседливости. Кто везде – тот нигде.
Не приносит пользы пища, если ее изрыгают, едва проглотив. Ничто так не вредит здоровью, как погоня за удовольствиями или непрестанная смена лекарств. Не окрепнет растение, если часто его пересаживать. Держи тело в строгости, чтобы оно не переставало повиноваться душе. Пусть пища лишь утоляет голод, питье – жажду, пусть одежда защищает тело от холода, а жилище – от всего ему грозящего.
И еще, сын мой, научись сомневаться в непогрешимости тех малых истин, до которых тебе удалось дотянуться. Затевай спор лишь для того, чтобы понять, а не ради утверждения своего превосходства.
Ты пишешь, что хочешь стать полиглотом. Славное намерение! Надеюсь, при наличии способностей, о которых, конечно, сподручнее судить твоим учителям, и с помощью каждодневных усилий тебе удастся заслужить это почетное имя. Нет ничего смешнее, когда человека называют благородным именем, а люди вокруг знают, что он этого не заслужил. Было бы неприкрытой иронией называть какого-нибудь безобразного парня Адонисом, который, как ты знаешь, был до того красив, что в него влюбилась сама Венера, или назвать труса Александром, или невежду – полиглотом, ибо всякий легко догадается, что это насмешка.
Мужайся! Слишком уж много языков придется тебе учить. Сегодня только латынью, английским, французским, немецким, японским и греческим не обойдешься. Возможно, тебе понадобится еще овладеть сложной техникой перевода с языка машин на язык людей, с языка науки – на язык техники, с языка техники – на язык политики, с языка мысли и чувства – на язык слов, с языка слов – на язык дела.
Крепко жму руку. Твой отец».
А началось-то все, строго говоря, с Пятого письма. Именно в тот день Валерий Николаевич Ласточка впервые услышал далекий голос, исчезнувший при написании Шестого. Помнится, что, потеряв вдруг путеводную нить, Валерий Николаевич медленно прошелся по комнате. Однако подле лабораторной стойки он опять услышал отчетливо произнесенную кем-то фразу. Бросился к письменному столу, чтобы записать, но звук снова уплыл. Он попробовал вернуться на прежнее место и, надо сказать, не напрасно: диктант возобновился.
Теперь мешали весы. Валерий Николаевич не раздумывая переставил их, придвинул табурет и стал конспективно записывать то, что с нарастающей скоростью диктовал ему внутренний голос.
Сперва голос звучал отчетливо, точно из транзисторного радиоприемника со свежими батарейками, но последующая трансляция сопровождалась сильнейшими помехами. Писать под диктовку становилось все труднее. От напряжения взмокла спина. Средний палец на правой руке онемел. Валерий Николаевич до боли в висках напрягал слух, и оставалось поражаться, откуда в этом маленьком, ослабленном длительным воздержанием теле берется столько упорства и упрямства. Он глох и слеп, впадал почти в бессознательное состояние, будто погрузившийся в зимнюю спячку зверек, однако сидящий в нем страж, отмеряющий неумолимо бегущее время, продолжал нести неусыпную вахту. Когда обеденный перерыв подходил к концу, раздавался сигнал тревоги – причем столь исправно и с такой точностью, что по нему, пожалуй, можно было проверять часы. Валерий Николаевич тотчас пробуждался от грезы и поспешно собирал свои разбросанные повсюду бумаги. Мысль о том, что кто-то застанет его за тайным общением с сыном, казалась еще более невыносимой и невозможной, чем мука творчества.
Вот и на этот раз по первому сигналу тревоги Валерий Николаевич отнес весы на место. Из столовой вернулся Гурий. Он теперь ходил обедать один. Аскольда уже не было с ними, а новой компании Гурий себе не искал.
Зазвонил телефон. Валерий Николаевич снял трубку. Долго слушал с мрачным выражением на лице.
– Что-нибудь новенькое? – спросил Гурий.
– Опять жаловались.
Звонили из отдела техники безопасности. Ласточке, временно исполняющему обязанности заведующего лабораторией, предлагалось немедленно подготовить образцы веществ, с которыми они работали, для отправки в Институт токсикологии.
– Соседи, что ли?
– Скорее всего они. А может, и тот, что об Аскольде приходил расспрашивать.
– Лысый?
– Ну да.
– Как его?..
– Праведников Никодим Агрикалчевич. Из отдела информации.
– Им-то что?
– Интересуются. Информацию собирают. Информацию передают.
– Вот гады! – в сердцах воскликнул Каледин и презрительно скривил губы.
2. СОСЕДИ
Непростые отношения сложились у обитателей двух соседних комнат: той, где работали степановские сотрудники, и другой, находившейся справа, через стенку, и принадлежавшей смежной лаборатории. Неприязнь была давней. Теперь уже невозможно вспомнить, с чего все началось – с территориальных ли притязаний, со случайной ли ссоры или исподволь возникшей конкуренции. Какая черная кошка и когда пробежала между ними? Во всяком случае, на небольшом участке институтского коридора сложился своеобразный и переменчивый микроклимат. Тут задували свои муссоны, мистрали, пассаты и антипассаты, существовали свои приметы потепления, похолодания, бурь, непогоды. Порой Высокие, что называется, Стороны почти не замечали друг друга, словно густой туман ограничивал видимость уже на расстоянии вытянутой руки, а иногда следили столь пристально со своих наблюдательных пунктов, что можно было принять этих в общем-то мирных людей за крупные вражеские соединения, готовые к незамедлительным боевым действиям.
Когда в Левой комнате начали разрабатывать кетеновую тематику, Правые стали жаловаться на неприятные запахи.
– Какой-то, – говорили, – от вас гадостью несет.
– Да нет, у кетенов приятный цветочный запах.
– Вот так цветочный! Рядом с вами работать невозможно.
– Они ведь почти и не пахнут.
– К вечеру голова как чугунная.
– А раньше?
– Такого никогда не было.
– Ну хорошо. Давайте зайдем к вам, посмотрим… Разве чем-нибудь пахнет?
– Еще как! Вы просто привыкли.
– Тогда пошли к нам. Вот, нюхайте… Это?
– Нет.
– Может, отсюда пахнет?
– Тоже нет… Вот! Вот откуда!
– Чем?
– Той самой гадостью.
– Так это обыкновенная вода для поливки цветов.
Лишившись пищи, страсти на какое-то время утихают, соседи успокаиваются. Потом снова начинаются жалобы. Наконец происходит то, что рано или поздно должно было произойти.
Случилось так, что одна из сотрудниц Правой комнаты, нанюхавшись запахов, просочившихся из Левой комнаты, упала в обморок. И вот уже по институту поползли слухи, что неспроста эта женщина прямо на своем рабочем месте лишилась чувств, а у другой, которая работала с ней рядом, обесцветились глаза.
– То есть как обесцветились? – не поняли Левые.
– Очень просто, – не без скрытого раздражения ответили им. – Были яркие – стали бледные.
– Может, она их накрасить забыла?
Однако товарищи из Правой лаборатории не поддержали шутку. Дела у них в то время, прямо надо сказать, обстояли не лучшим образом, ибо шли они далеко не в первых рядах и даже не в первых колоннах научно-технического прогресса. Новых идей не было, существенных достижений в прошлом, которыми другие как-то прикрывали нынешние прорехи, – тоже. А в степановской лаборатории, что бы там злые языки о ней ни говорили, люди росли. Вот и Ласточка получил должность старшего, и Инна Коллегова готовилась защищать диссертацию. Бывает ведь так: одним – и престижная тематика, и первое место в социалистическом соревновании, и авторитет у начальства, а другим – ничего. Обидно и горько. Потому что несправедливо.
В Институте химии итоги соревнования подводили по сумме баллов, как в конном спорте. Статью написал – плюс два балла. Опытно-промышленную партию на заводе в Королизе выпустил – десять баллов. Внедрение в Лютамшорах осуществил – еще двадцать. Так и набегало. С другой стороны, существовали штрафные очки. Опоздал, скажем, сотрудник на работу – один балл долой. Прогулял – три. Не выполнил в срок взятое на себя обязательство – еще того больше. Иной раз по щипку да по клоку так отделают, что соревнующееся подразделение остается совсем без перьев. Поскольку же победа в соревновании – это премии, пусть и небольшие, все относились к этому виду состязаний не только очень серьезно, но и порой болезненно.
И вот благодаря успехам, достигнутым коллективом степановской лаборатории, лаборатория эта заняла призовое место среди научных лабораторий института, а Правая лаборатория в межотдельском, командном, так сказать, первенстве утащила свой отдел в самый хвост. К тому же ее критиковали на общем собрании за упущения, связанные с дисциплиной и отсутствием изобретательской инициативы. Поскольку махать кулаками после драки – занятие довольно глупое и пустое, сотрудники Правой лаборатории ими не махали, а просто делились с людьми, интересующимися истинным положением дел в институте, своими соображениями о свершившейся несправедливости.
В чем же заключалась истина? А вот в чем. Товарищи из Левой лаборатории систематически травили товарищей из Правой своими кетенами, или как там они назывались, в результате чего Правые падали в обморок, у них обесцвечивались глаза и пропадала работоспособность. Пока новомодная тематика степановской лаборатории получала лишние баллы, сотрудников Правой лаборатории лишали последних очков за мнимые упущения, обусловленные не чем иным, как плохим самочувствием. Оригинальная сложилась ситуация, не правда ли? О каких упущениях может идти речь? Об упущениях тех, кто травит, или тех, кого травят? Не в том ли виновны пострадавшие, что они, вместо того чтобы жаловаться во все инстанции, взывали к совести и разуму товарищей из Левой лаборатории?
Да, с кетенами дело обстояло совсем не так благополучно, как кое-кто пытался представить. И очень скоро об этом узнал институт. Конечно, разговоры – это только разговоры: на чужой роток не накинешь платок, но настораживающие сигналы поступали регулярно, и можно ли было не обращать на них никакого внимания? Правда, непосредственно работающие с кетенами сотрудники Левой лаборатории в обморок не падали и глаза у них не обесцвечивались. Однако кто бы мог поручиться, что у Левых не более крепкое здоровье, чем у Правых? И что если они, ради своих окладов, премий и диссертаций, скрывали свои обмороки и обесцвечивание глаз от общественности? Ведь нельзя было не заметить, как резко похудел в последнее время старший научный сотрудник В. Н. Ласточка, каким издерганным стал профессор Степанов, каким нелюдимым и замкнутым – младший научный сотрудник Гурий Каледин. О том же, что произошло с Аскольдом Таганковым, и говорить нечего. А не кетены ли тому причиной? И почему так настойчиво, так подозрительно настойчиво отстаивали сотрудники Левой лаборатории версию о безвредности кетенов? Во всем этом следовало как следует разобраться.
Безвредность – понятие относительное. Как и вредность. Только начни разбираться, и окажется, что невредного в природе вообще не существует. Все, конечно, зависит от доз, от организма и от способа попадания в организм. Даже дистиллированная вода может оказаться вредной, ежели, к примеру, ты захлебываешься в ней. Даже кислород. То, что Левые защищали свои кетены, по-человечески было понятно: они долго уже с ними работали, публиковали статьи, выступали с докладами на конференциях. Аспирантке Степанова вскоре предстояло защищать диссертацию именно по этой теме. Но что значили чьи-то личные интересы, когда кетены угрожали жизни и здоровью многих людей?
Товарищи из отдела техники безопасности не раз задавали себе этот вопрос, спрашивая себя: если они не прореагируют на сигналы с мест, вовремя не проявят должной бдительности, принципиальности и потом что-нибудь, не дай бог, случится – что тогда? А коли реагировать, то как? Где взять объективные, научно обоснованные причины для того, чтобы проверять Левых, а не тех же Правых? Ну запросят они, положим, образцы, пошлют в Институт токсикологии. А профессор Степанов пойдет к руководству и скажет, что отдел техники безопасности вместо того, чтобы заниматься делом, занимается глупостями, собирает и распространяет нелепые, вредные слухи, создает нервозную обстановку, мешает работать. И не захочет ли руководство, заинтересованное в кетеновой тематике, проверить деятельность самого отдела техники безопасности?
Трудная складывалась ситуация, как ни крути. И так плохо, и эдак. Тут требовалось какое-нибудь нестандартное решение. Требовался умный, неформальный совет какой-нибудь доброй души. И добрая душа нашлась. Она всегда, кстати, находится, когда в том возникает насущная потребность и историческая необходимость.
Юноша, работавший в Правой лаборатории, дружил с девушкой из отдела техники безопасности. Он был как раз одним из тех, кто падал в обморок от запаха кетенов. Ему сам бог велел давать добрые советы.
Профессор Степанов с понедельника в командировке, – прикинули заинтересованные в этом щепетильном деле. Что, если позвонить его заместителю Ласточке и попросить подготовить образцы тех веществ, с которыми они работают? Кротоны, кетены, что там еще? И никакой тенденциозности. Что покажет анализ? Ведь совершенно безвредных веществ нет. А вредных? Да сколько угодно!
Ласточка, конечно, может отказать. Но вдруг не откажет? Все-таки официальная просьба. Из отдела техники безопасности.
Так. Пойдем дальше. Возвращается из командировки Степанов, отправляется жаловаться. На кого? – На отдел техники безопасности. – Отдел-то при чем? – При том, что послал в Институт токсикологии вещества, которые посылать туда было не нужно. – Какие вещества? Минуточку. Сейчас проверим. Выясним. Уточним. Да, действительно, посылали. – Зачем? – А кто его знает… У нас этим делом молоденькая сотрудница занималась, новенькая, еще не опытная. Может, что и напутала. Ну послали. Ну ошиблись. Лишнюю работу проделали. У вас-то какие претензии?
Юной доброй душе, живущей душа в душу с другими душами Правой лаборатории, посоветовали поделиться своими волнениями, сомнениями, соображениями с новенькой, неопытной девушкой из отдела техники безопасности, с которой Добрая душа состоял в неформальной связи. А тут еще эта история с Таганковым. Девушка, охваченная тревогой за жизнь и здоровье своего юного друга, возьми да и позвони в лабораторию профессора Степанова.
Последующее известно.
3. СОМНИТЕЛЬНАЯ КАНДИДАТУРА
2 июля в 16.25 по местному времени заведующий отделом Сирота связался по телефону с заместителем директора и сообщил, что выполнил его поручение.
– Хорошо, Игорь Леонидович, – выразил свое одобрение Владимир Васильевич Крупнов. – Оперативно работаешь. Кого даешь?
– Есть тут один. Таганков.
– С ним разговаривал?
– Да. Пришлось пообещать ему прибавку из директорского фонда. Иначе трудно было решить вопрос.
– Завтра же с утра пусть отправляется к Вигену Германовичу.
В 16.28 Владимир Васильевич соединился по селектору с отделом информации.
– Виген Германович, перевожу к тебе человечка от Сироты. Таганков. Из степановской лаборатории. Вполне подходящий, знающий язык. Завтра будет.
– Спасибо, Владимир Васильевич.
– А что такой голос недовольный? Нужен тебе человек или нет?
– Очень нужен, Владимир Васильевич. Но завтра как раз я должен быть в Лютамшорах, – сказал Виген Германович первое, что пришло в голову.
– Что за беда! Поручи кому-нибудь им заняться.
– Хотелось бы побеседовать лично.
– Побеседуешь позже.
– Может, через несколько дней? Мне и посадить-то его пока некуда.
– Что-то ты крутишь, дорогой. Или кандидатура не устраивает?
– Нет, я не возражаю…
Щелкнуло и замолкло. Заместитель директора дал отбой.
Зачем такая поспешность? – встревожился Виген Германович. Сомнение, недоверие, какое-то недоброе предчувствие стеснили его сердце. Куда торопится Крупнов? Куда и зачем? Подобной прыти даже при решении самых неотложных вопросов отродясь за ним не водилось. А тут вдруг так сразу расщедрился. «Таганков», – прочитал Виген Германович свежую запись на перекидном календаре. Кто такой Таганков?
Память у Вигена Германовича была феноменальная. Когда однажды после маленького дружеского застолья, шутки ради, он попробовал соревноваться с отдельскими электронно-вычислительными машинами, ШМОТ-2 проиграла ему сразу, а «Латино сине флектионе» сопротивлялась не более десяти минут. И всем стало ясно тогда, что если Вигену Германовичу уступают электронные машины, то человеку даже нечего и пробовать состязаться с ним. Может, потому с Вигеном Германовичем никогда не спорили. Никогда не возражали. Если он говорил «нет» – это значило «нет», а если «да» – то это было твердое «да». Никто не мог припомнить случая, чтобы заведующий отделом информации повысил голос, но каждое произнесенное им слово было отлито, казалось, из сверхплотного вещества. Он держал в голове сотни телефонов, тысячи лиц, огромное количество многообразной полезной информации, мог, например, умножить в уме семизначное число на восьмизначное, разделить, вычесть, сложить, извлечь корень, возвести в степень, определить нужный процент. Увидев человека хотя бы однажды, он запоминал его на всю жизнь. Если он даже краем уха когда-либо слышал, что Нина Павловна из технического отдела – родственница академика Скипетрова, то, спустя десятилетия, мог включить уникальный свой мозг, перебрать всех известных ему родственников академика, все, что когда-либо слышал о них и о людях, его окружавших, чтобы уже через секунду получить готовый ответ. Несомненно, Виген Германович был одним из немногих, кто наверняка знал, в какой мере Нина Павловна является родственницей академика Скипетрова и даже в каком колене, однако знанием своим обычно ни с кем не делился.
Вообще Виген Германович был столь сдержан и скрытен, что постороннему его способности могли показаться самыми обыкновенными, и лишь приближенные сотрудники, в чьем присутствии были посрамлены ШМОТ-2 и «Латино сине флектионе», крепко усвоили, что Виген Германович знает, помнит и может все.
Тем не менее, как и другие начальники отделов, Виген Германович пользовался настольным календарем, делал в нем разнообразные пометки, записывал телефоны, фамилии, время назначенных встреч – как бы затем только, чтобы ничем не выделяться из своей среды.
«Таганков, – повторил про себя еще раз Виген Германович. – Интересно, что же это за птица такая?» Он пытался прочитать правильный ответ в выражении лица, глаз, в напряженно-фальшивой улыбке заместителя директора Крупнова, которого мысленно видел перед собой. Лихорадочно работающее устройство его памяти пробивало дырки в перфоленте, кодировало программу поиска, и на лице заместителя директора возникали сквозные отверстия, как если бы большую фотографию Владимира Васильевича подняли на аэростате высоко в воздух и меткий стрелок пробивал ее теперь пулями из скорострельного оружия.
Мозг Вигена Германовича напряженно работал. Когда перфорация была целиком нанесена на воображаемую карточку, запущена в дело и был получен результат, Виген Германович едва сдержал вздох разочарования: «Неопределенно, нехватка информации». Примерно такую же операцию он проделал с мысленным портретом начальника отдела Сироты и получил тот же невразумительный ответ. Пришлось срочно обработать материалы, связанные с директором института, заведующим отделением Белотеловым, с профессором Степановым и даже с покойным академиком Скипетровым, однако Таганков нигде себя не обнаруживал – ни в дырках, ни в промежутках между ними. Виген Германович не видел Таганкова, не чувствовал, не ощущал его. Таганков как в воду канул. Его словно бы и вовсе не существовало.
«Может, случайная кандидатура? – мелькнула утешительная мысль, но Виген Германович отбросил ее, – Подобных случайностей не бывает. Непременно какую-нибудь свинью подложит Владимир Васильевич. Решил вопрос через два часа после принятия решения. Невиданно. Неслыханно. Еще чай, можно сказать, не остыл. Еще протокол подписать не успели. И ни минуты на размышление!..»








