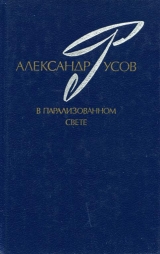
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 45 страниц)
1979
В ПАРАЛИЗОВАННОМ СВЕТЕ
Игра есть усилие, попытка выйти из сферы логики, потому что логика приводит к мысли о смерти… Ничего путного не можем мы ждать, пока человек не станет размножаться почкованием или делением, уж раз ему необходимо размножаться во имя цивилизации и науки.
Мигель де Унамуно
«Любовь и педагогика»
ЧАСТЬ I
КРИЗИСНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1
Темным ноябрьским вечером по Четвертому проспекту Монтажников двое странного вида граждан волокли жалкое бесчувственное тело, подхватив под руки с разных сторон. Ноги несчастного, более походившего на тряпичную куклу, нежели на существо, еще подающее признаки жизни, оставляли глубокие борозды в раскисшем, хлюпающем снегу, но тотчас эти неверные прочерки затягивало жидкой кашицей, и уже в нескольких шагах не оставалось следов. Светло-серый ворсистый балахон пожилого, который поддерживал несчастную жертву справа, понизу был изрядно испачкан грязью. Человек тяжело дышал, очки сползли на кончик носа, расширенные от натуги глаза маниакально светились, а щеточка седых усов хищно вздернулась, как у кролика, обнажив ряд неправдоподобно белых и ровных искусственных зубов. Губы же его более молодого напарника в кожаном, поскрипывающем при каждом шаге пальто были презрительно сжаты, будто ему стоило больших трудов преодолеть собственное отвращение. Позади, на некотором удалении, припадая на левую ногу, плелся самый из них молодой – длинноволосый субъект в спортивной куртке, поблескивающей в ртутном свете фонарей, яркой лыжной шапочке и сильно потертых джинсах, обтягивающих его тощие, длинные, кривоватые конечности. Этот тоже был в очках, впрочем совершенно темных и потому неуместных ночью, ибо если в это пасмурное время года солнце случайно и выглядывало днем, то уж теперь оно наверняка находилось недосягаемо далеко, по другую сторону земли. Перевесившись на один бок, самый молодой нес туго набитый портфель, столь же для него нелепый, как и солнцезащитные очки.
Необозримый, безнадежно отсыревший Четвертый проспект Монтажников, залитый жасминовым светом фонарей, пах остывшей баней и отгоревшим топливом, хотя машин, как и пешеходов, не было видно. Лишь редкие светофоры, нервически перемигиваясь, открывали и закрывали путь отсутствующему транспорту. Вскоре подозрительная компания свернула за угол. Молодой человек с портфелем задержался, опасливо озираясь, и вперевалочку побежал догонять остальных.
– Эй, не туда!
Шедшие впереди остановились. Кожаное пальто ослабил поддержку, и обмякшее тело почти целиком оказалось на попечении пожилого. Голова пострадавшего дернулась, беспомощно упала на грудь. Приближающийся молодой человек пальцем свободной руки указывал на дом, громоздившийся в глубине двора, на той стороне улицы, перпендикулярной проспекту. Подойдя, он заглянул в безжизненное лицо.
– Небось уже дуба дал.
Кожаное пальто ничего не ответил, тогда как пожилой сердито засопел, нервно закашлялся.
– Какой же ты пошляк, Тоник… Кхе! Откуда столько цинизма?
Он упрямо встряхнул податливую ношу, Кожаное пальто подхватил, и они двинулись наискосок, прямо на красный свет. Глухо стукнулся о мостовую сначала один, потом другой ботинок пострадавшего, будто с тротуара скатили детскую коляску. Что-то булькнуло, засипело у него внутри, и все трое прибавили шаг.
Улица ползла боком. При рассеянном искусственном освещении глаза седого желто-зелено светились из-за круглых стекол очков.
– Антон! Это безумие. Кхе!
Белый клеклый налет запекся в уголках губ.
– Поменяйся с Тоником, – прозвучало в ответ. – Пока все идет по плану. Только возьми у него портфель. Там документы, ключи от квартир, письма и телеграммы. Отправишь все завтра утром.
– От каких квартир?..
Они едва успели остановиться, заслышав отчаянный перезвон неведомо откуда выскочившего трамвая. Неотснятой кинопленкой стремительно пронеслись пустые, освещенные окна. Громыхнуло, тренькнуло, утробно прогудело, и вислозадый трамвай, виляя красными хвостовыми фонарями, утек по невидимым, затянутым снежной кашицей рельсам.
Земля продолжала дрожать и вибрировать. Трое не двигались с места. Над их головами шипело, испуская мертвенный свет, одно из искусственных неоновых светил, да в некоторых подъездах запертых на ночь магазинов скучно мигали сигнальные лампочки. Дома глядели остекленевшими глазами нижних этажей, множились, размываясь в ореоле зависших над асфальтом стеклянных баллонов со светящимся газом.
Через оптические линзы очков глаза Седого казались огромными. Кожаный Антон сунул свободную руку в левый карман, извлек аптечную упаковку, продавил большим пальцем фольгу, выкатил на язык маленькую таблетку.
– Еще бы чуток – и каюк! Для него даже лучше, – кивнул Тоник в сторону доходяги.
– Ничего умнее не мог придумать? – сорвавшимся бабьим голосом прикрикнул на него старшой.
– Молчи, придурочный.
– Нахал! Сопляк! Кхе! Антон!.. Антон Николаевич, что же это? Кхе! Я ведь ему в отцы гожусь.
– В деды, – невозмутимо уточнил Тоник.
– Что? Как ты сказал? Кхе!..
– Не уподобляйся, – попытался успокоить Седого названный Антоном Николаевичем. – Не обращай внимания. Ну что ты хочешь… Dementia præcox[7]…
Колючие усики прыгали. Лязгала вставная челюсть. В гневе Седой – звали его Платоном – едва не потерял контроль над собой. Сказывались последствия старой контузии.
– Ладно, пошли.
Вся компания вновь двинулась вдоль плохо освещенной улицы. Через темный двор подошли к десятиэтажному зданию, возле застекленного подъезда которого сиротливо ожидали две белые санитарные машины с красными крестами по бокам.
Тот, кого втаскивали по ступенькам под козырек, был, казалось, совсем уже плох. Беспорядочно заросшие, землистого цвета щеки запали, нос заострился, плотно сомкнутые, все в лиловых потеках губы завяли, а веки приобрели какой-то мертвенно-синюшный оттенок. Грязный, растерзанный, сбившийся у подбородка шарф и старое, кое-где порванное пальто из такого же серого, ворсистого, как и у Седого Платона, толстого материала имели самый неприглядный вид, тогда как отсутствие на пострадавшем какого-либо головного убора создавало реальную опасность дополнительных затруднений, и без того очевидных. Тоник сейчас же сдернул со своей головы вязаную красно-синюю шапочку болельщика ЦСКА, стал прилаживать ее жмурику. Так оно выглядело все-таки поприличней.
Ввалились в вестибюль, в гулкую тишину больничного аквариума. Необъятных размеров дежурная в белом халате преградила путь.
– Беру на себя.
Сказано это было сквозь зубы и прозвучало едва слышно. Кожа пальто деловито скрипнула, Антон Николаевич склонился, что-то доверительно зашептал санитарке на ухо. Тоник тем временем подхватил пострадавшего за ноги.
– Где направление? Разденьтесь. Нельзя! – опомнилась вдруг дежурная, но пока она разворачивалась, будто тяжелый танк, вскочивший в лифт последним Антон Николаевич успел нажать кнопку.
Мотор взвыл. Их понесло наверх.
Пахло лекарствами. Фанерные стены кабины были вкривь и вкось исцарапаны безобразными надписями. Царапали, видно, исподтишка, второпях, при свидетелях.
Когда с пострадавшего сняли ужасающего вида пальто, еще более непристойными показались его замызганные ботинки и брюки, хранящие следы самого варварского обращения.
После лифта пришлось подняться на полэтажа пешком. Остановились перед обшарпанной дверью с облупившейся белой краской и черной небольшой траурной табличкой «Отделение социально-психологической помощи. Посторонним вход воспрещен». Отдышались. Наконец Антон Николаевич позвонил. Подождали. За дверью все было тихо и безнадежно. Позвонили еще раз. Потом еще.
В конце концов им открыли. Круто загнутые наверх реснички сестры несколько раз удивленно дрогнули. Недоумевающий взгляд задержался на юном Тонике.
– Нам назначено, – решительно двинулся кожаным плечом вперед Антон Николаевич.
– Кем? – хлопнули реснички.
– Профессором.
– Профессором Петросяном?
– Вот именно.
– Грант Мовсесович не предупреждал.
– Передайте: его спрашивает коллега, доктор Кустов. Скажите: профессору звонили.
– Тогда пройдите. Подождите здесь.
Сестра процокала на каблучках к застекленной двери, мягко притворив ее за собой.
Стены просторного тамбура имели какой-то неопределенный, скорее всего оливковый цвет. Жестяная банка из-под атлантической селедки стояла на полу. Она ломилась от окурков. Невыветривающийся табачный дым ел глаза. Меж двух больших окон без занавесей, выходящих в непроглядную ночь, стоял потертый диван, куда они первым делом положили страдальца, подсунув под голову сложенное изнанкой наружу пальто. Усохшее тело заняло так мало места, что и они поместились с краешку, обнаружив вдруг удивительное сходство поз и выражений.
Ожидание затягивалось. Антон Николаевич взглянул на часы.
– Подпишешь профессору свою книгу.
Платон нервически кашлянул и потянулся к пухлому портфелю.
– Не обязательно сейчас. Успеется.
– А здесь клево, ребятки! – развязно заявил Тоник.
Антон Николаевич сердито обернулся. У Седого Платона дернулись усики. «Наглец! – подумали оба, не сговариваясь. – Нашел себе приятелей…» Все трое, однако, продолжали молча сидеть на больничном диванчике, тесно прижавшись друг к другу, словно бы опасаясь разлада, готовые скорее пожертвовать святыми принципами педагогики, нежели единством, основанным на тайной ли договоренности, общем преступлении, горе, деловом интересе, родственном или ином праве, так или иначе всеми тремя признаваемом.
Застекленная дверь вдруг распахнулась. В пролете возникло что-то большое, черное и мохнатое. Низко надвинутый на лоб каракуль волос. Могучие плечи. Кряжистые ноги из-под разлетающихся пол халата. Профессор Петросян в сопровождении медицинской сестры двигался навстречу посетителям. Профессор Петросян приближался неумолимо. Его налитые кровью кабаньи глаза смотрели не мигая.
Трое посетителей начали одновременно подниматься с дивана. Трое медленно отделились от недвижного тела – словно от куколки, уже пустой. Трое не без робости смотрели на приближающегося профессора, а тот, в свою очередь, прощупывал их своим опытным взглядом, просвечивал мысленным рентгеном насквозь. «Кто этот долговязый, теребящий в руке лыжную шапочку? – спрашивал себя профессор Петросян. – Кто второй? Что собой представляет третий, похожий на стареющего актера Эдуардо де Филиппо?»
Но тут профессор ошибся. Самым непростительным для психолога-психиатра образом. Третий был как раз не актер, а писатель, печатающийся под псевдонимом Платон Усов.
– Чем могу быть полезен?
Профессор Петросян засовывает лохматые руки в карманы халата. Большие короткие пальцы туда не влезают, не помещаются там, остаются снаружи. Профессор Петросян покачивается, перенося центр тяжести с пяток на носки – и снова на пятки.
– Я Кустов Антон Николаевич. Доктор наук.
– Очень приятно. Петросян Грант Мовсесович.
Профессор извлекает из бокового кармана халата тяжелую ладонь, протягивает, жмет без энтузиазма.
– Вам должны были звонить.
– Когда?
– Вас должны были предупредить…
К сожалению, у профессора нет пока полной ясности. Нет уверенности. Кто именно звонил? Кто такой доктор Кустов? Что за фрукт? При чем остальные? Целая банда – черт их там разберет.
– Прошу, – говорит профессор, резко выбрасывая ладонь вбок.
– А его куда? – интересуется Тоник.
Профессор Петросян привычным взглядом окидывает диван, проводит ладонью по выбритой до синевы щеке, переглядывается с сестрой.
– Им займутся.
– Доктор, это опасно? Кхе!
Вопрос неуместен. Наивен. Преждевременен. Непрофессионален.
– Доктор, кхе! Мы вас очень просим: сделайте что возможно.
Седой Платон де Филиппо суетится возле портфеля, достает сперва новую, пахнущую типографской краской книгу, следом за ней – бутылку марочного армянского коньяка.
Антон Николаевич и Тоник обмениваются взглядами. Антон Николаевич смотрит на Платона де Филиппо как на полоумного. Нет, это что-то из ряда вон. Это непостижимо! В коридоре, при посторонних… Полный кретин! Даже такого простого дела нельзя поручить.
Профессор Петросян берет книгу, раскрывает на первой странице, благосклонно знакомится с посвящением на титуле, написанным шариковой ручкой коряво и наискосок, удовлетворенно кивает, заглядывает в конец, вычитывает там имя, отчество и фамилию автора, выпячивает нижнюю губу. Потом с самым заинтересованным видом разглядывает этикетку на бутылке.
Антон Николаевич сгорает со стыда. Антон Николаевич осознает весь комизм создавшегося положения. Антон Николаевич понимает, что коньяк тут явно некстати. Что доктора коньяком не смутишь, не проймешь. За плечами профессора Петросяна наверняка большой профессиональный и практический опыт.
– Non lo bevo mai, mai, – обращается профессор к Платону де Филиппо по-итальянски. – Per il fegato, sa, è pessimo, – говорит он, вежливо возвращая бутылку. – Si dice anche che per gl’intestini[8], – добавляет, чтобы писателю Платону Эдуарду де Филиппо все было до конца ясно. Как с самого начала это было ясно Антону Николаевичу. – А за книгу спасибо. Весьма признателен вам, Платон Николаевич. Прочту с удовольствием. Непременно. Прошу!
Волосатый короткопалый кулак профессора разжимается. Выгнутая его ладонь превращается в клюв лебедя, нацеленный в сторону застекленной двери.
Они идут следом. Становится жарко. У Тоника пылают щеки. Он расстегивает молнию на двухцветной, как и лыжная шапочка, куртке: в основном синей, но с красными полосами на рукавах.
Скромную обстановку профессорского кабинета составляют письменный стол, кресло, кушетка, шкаф для бумаг, вешалка в углу, портрет на стене и два стула. Они раздеваются. В скромном и маленьком профессорском кабинете они привычно рассаживаются рядком на кушетке. Теперь Грант Мовсесович сверху вниз взирает на посетителей.
– Простите, уважаемые, – обращается он к присутствующим. – Я хочу спросить. – Профессор вскидывает брови, округляет глаза. – Почему именно вы? У него что, нет жены, близких родственников?
– Никого.
– Жена недавно скончалась. Кхе! Такая славная женщина…
– Ну, положим… Это не совсем так… – поправляет товарища доктор Кустов. – Жена у него, строго говоря, есть…
Профессор Петросян внимательно выслушивает каждого. В борении мнений рождается истина. Некоторая противоречивость ответов свидетельствует, видимо, о сложности ситуации. Профессор Петросян помечает что-то в своей тетради, делает про себя предварительные выводы, несколько раз обращается за разъяснениями к Антону Николаевичу. Как доктор к доктору. Как коллега к коллеге.
Три пары ушей жадно ловят каждое слово профессора. Три пары глаз сосредоточены на его переносице. Будто не только коллега Кустов, но и остальные двое тоже готовы и хотят отвечать.
Профессор Петросян, однако, медлит с новыми вопросами. Профессор Петросян откладывает на неопределенный срок уточнение интересующих его деталей. Дальнейшее прояснится в ходе обследования. Пока же графы «семейное положение» и «профессия» он оставляет пустыми.
– Нельзя ли поместить его в отдельную палату? Кхе! С учетом того, что он все-таки имеет право. Как участник и инвалид. С учетом заслуг, я имею в виду.
Профессор Петросян заверяет клиентов, что таких условий, как в его отделении, они не сыщут нигде.
– Почти нигде, – уточняет. – Мы лечим не только лекарствами, – произносит он загадочную фразу, бросает пудовые кулаки на столешницу, выпрямляется в кресле и предлагает посетителям самим убедиться. – Ecco![9]
Поощряемые Грантом Мовсесовичем трое посетителей поднимаются с кушетки. Трое выкатываются из уютного кабинетика – впереди Кустов, за ним Платон. Тоник с портфелем замыкает шествие. Тотчас перед ними возникает препятствие: затянутая веселым ситцем в цветочек еще одна застекленная дверь. «Отделение кризисных состояний», – гласит надпись. И тут же другая, прямо под нею: «Посторонним вход строго запрещен».
Откинув мешающую полу халата, профессор по локоть засовывает руку в бездонный карман своих брюк. Он извлекает звенящую связку ключей, выбирает самый игрушечный – как бы ключик от кукольного дома – и вставляет в прорезь замка. Дверь оказывается массивнее, чем ожидалось. Ее застекленность с обеих сторон носит, оказывается, исключительно декоративный характер. Как и фривольная легкость ситцевых занавесок.
За бункерной этой, железной, пуленепробиваемой дверью просматривается волнующий полумрак. Лампы, лампочки и лампады всюду горят вполнакала. Вместительные, топкие кресла обтянуты жирно блестящей искусственной кожей. Они придают всей обстановке некий эротический привкус. Прозрачные рыбки в прозрачном аквариуме плавают среди ползучих представителей вечнозеленой тропической фауны. Тяжелые синие шторы висят на окнах. Топкий ковер на полу напоминает выкрашенную в цвет морской волны шкуру леопарда. Овальный полированный стол в холле будто специально предназначен для спиритических сеансов. Пять или шесть дверей из натурального дерева в круто скругленной стене, причудливо изогнутая бронзовая и латунная фурнитура – все это совокупно производит впечатление уюта и роскоши, навевает мысли о чувственных наслаждениях и мистических откровениях. Все это куда более соответствует стилю маленькой частной дорогой европейской гостиницы конца прошлого века, нежели итогам титанических усилий профессора Петросяна по организации уникального отделения кризисных состояний. По созданию, стало быть, в условиях обычной городской больницы наиболее благоприятных бальнеологических условий для пациентов его отделения. Даже стены и те обтянуты пупырчатой серой холстиной, то ли звукоизоляции ради, то ли нарочно для того, чтобы поразить воображение пришельцев.
– Неплохо. Кхе!
– Ну что ты… Клево!
Профессор Петросян замедляет шаги. Профессор Петросян останавливается на крутом повороте. Профессор Петросян обращает внимание гостей на тщательно вычищенную золотую табличку.
– Номер три, – читает Тоник.
– Помещу его сюда, – говорит Петросян. – Одного. Как просили…
Тоник выглядывает из-за голов впереди стоящих. Профессор Петросян нажимает какие-то кнопки на щите, щелкает хромированными выключателями, толкает какие-то рычажки, подробно рассказывает, обращаясь преимущественно к доктору Кустову – единственному здесь представителю мира науки – о возможностях уникальной записывающей аппаратуры.
– Венгерская? – интересуется Тоник.
– Отечественная, – недовольный, что его перебили, замечает профессор.
«Наконец-то научились делать как следует», – одобрительно думает Тоник, который является, в общем-то, гораздо большим специалистом по этой части, нежели Антон Кустов.
– Включается автоматически… – продолжает профессор. – Что позволяет полностью контролировать… Фиксировать бредовые состояния… Обеспечивать системно-функциональный анализ… Совершенствовать диагностику… Таким образом, психотерапия… Таким образом, соматика… Понимаете?.. Соматическая кинематика… С помощью ЭВМ…
Доктор Кустов проявляет интерес. Доктор Кустов интересуется электромагнитными помехами. В частности, скрипом кровати. В частности – непредусмотренным храпом. Покашливанием. Другими простудными явлениями. Что, эти звуки тоже записываются?
Профессор Петросян многозначительно улыбается. Профессору Петросяну приятно беседовать с образованным человеком. Профессор Петросян давно уже ждал этого каверзного вопроса. Теперь он рад на него ответить.
– Имеется блокировка. Взгляните сюда. Частотно-модуляционная выборка…
«Ни хрена не понимает, а лезет, – думает Тоник с обидой. – Тоже мне, доктор-моктор. Кустов-Капустов. Сосиску тебе в рот! Специалист широкого профиля…»
Платон не слушает. Ему скучно.
– Кхе!..
Но он чувствует себя в то же время обязанным профессору и потому монотонно повторяет как бы в сторону, как бы в руку, как бы одной лишь вежливости ради:
– Вот это да!.. По последнему слову техники… По последнему слову!.. Кхе!..
Для четверых бокс № 3 тесноват. Для четверых бокс № 3 маловат.
– Интересно, как у них тут со жратвой? – тоже как бы в сторону, как бы в руку, как бы себя самого спрашивает Тоник.
Однако профессор Петросян решает лично ответить на этот вопрос. Профессор Петросян говорит:
– С едой не очень. Так что лучше приносить из дома.
Тоник шмыгает носом: вот уж не ожидал, что его услышат. Профессор Петросян скребет подбородок. Его гладко выбритая щека отливает уже не синим – лиловым. «Армян – лиловый баклажан», – думает Тоник.
Тут и Платон оживляется, начинает проявлять активность. «Небось потом статейку накропает, деньгу зашибет, – догадывается Тоник. – Чего-нибудь такое про научно-технический прогресс. Хрен он в нем чего понимает! Интересуется, сука, время тянет, пока тот в тамбуре на продавленном диванчике концы не отдаст. А чего им? Один хрен…»
Но вот они возвращаются в профессорский кабинет и уже там продолжают неторопливую беседу. Не, честно, Тоник бы им сейчас сказал. Выдал бы. Только боязно как-то все дело испортить.
– Строго говоря, весьма и весьма… С научной точки зрения…
– Кхе! Кхе!..
– Психатика-соматика…
– Проблематика…
– Да-да…
Тут Платон наклоняется к Тонику. Что-то шепчет. Кашляет в ухо. «Сука, – думает Тоник, выслушав до конца. – Человеколюб, porca madonna![10] Митинговал больше всех, а смывается первым». Однако берет себя в руки, сдерживается при постороннем. «Ладно, хрен с тобой, бери. Мне носить меньше». Щелкает замком, роется в портфеле, достает что-то, передает. Платон рассовывает это «что-то» по карманам – профессор Петросян даже не успевает заметить, что именно. Какие-то бумаги, гремящие железки…
– Кхе! Кхе! Извиняюсь, – и пятится к двери.
– Строго говоря, мне тоже пора, Грант Мовсесович. Кажется, мы обо всем договорились, коллега. – Кустов протягивает профессору визитную карточку, на которой указаны титулы Кустова, координаты Кустова, его служебный и домашний телефоны. – Если что понадобится. С научной точки зрения…
– Не забудьте взять вещи больного, – предупреждает профессор.
– Тоник заберет.
«Дерьмо собачье, – думает Тоник. – Что я вам, мальчик на побегушках? Портфеленосец? Мне больше всех надо? Доброхоты вшивые. Этот к девке потопал. А старый хрен небось опять на кладбище – на ночь глядя…»
Горечь остается в душе, оседает, так и не выплеснувшись. А тех и след простыл.
Что делать Тонику?
Сидеть и ждать. Вот что делать. Ждать и сидеть. Пока что-то там не определится. Пока кто-то не распорядится. А профессор и не думает. Погрузился по уши в свои дела, мысли, истории болезней.
«Морда – как маринованный баклажан, – думает Тоник. – И похож, сука, на вепря».
– Это… Я извиняюсь…
Профессор Петросян прекращает писать. Профессор Петросян прекращает думать. Он поднимает голову от стола.
– Вам что?
– Я это… От Антон Николаича… Тут портфель его. И очки, – говорит Тоник, протягивая профессору заляпанные грязью очки с треснувшим стеклом.
– Сдайте сестре! Подождите за дверью!
«Ну вот, разорался, – думает Тоник. – Больно ты нужен! Va fan culo![11] Морда баклажанья… Я-то при чем?»
Он снимает с вешалки куртку. Стаскивает с тырчка лыжную шапочку и выходит не прощаясь. В тамбуре, где на полу по-прежнему стоит большая жестяная банка с окурками, уже никого. Диванчик пуст. За двумя темными окнами без штор, в которых, будто в пригашенных зеркалах, отражается искаженная неровностью стекол фигура Тоника, виднеется россыпь далеких городских огней. Хотя и не опасно, а подойти близко боязно. Кажется, сейчас закружится голова, сорвешься и вывалишься, и полетишь вниз – в этот черный провал.
На улицах грязь. Машины размешивают, размазывают ее, разносят по всему городу. Зима идет, но не приходит. Осень уходит – никак не уйдет.
2
Часу во втором или третьем ночи человека известной наружности можно было увидеть в противоположном от Четвертого проспекта Монтажников конце Москвы – на улице Строителей-Новаторов. В четырнадцатиэтажной башне, к которой он теперь направлялся, горело уже только одно окно, не считая вертикальной перфорации лестничных пролетов. Удостоверение с фотографией на имя заведующего лабораторией Института биологических исследований Антона Николаевича Кустова лежало в левом нагрудном кармане его пиджака вместе с очками, которые, впрочем, он не носил постоянно, а находившийся также при нем паспорт имел штамп прописки, в точности соответствовавший адресу позднего его возвращения.
Не дойдя шагов сто до дома, человек остановился, запрокинул голову, стал высматривать что-то в вышине, считать этажи, и результаты этого подсчета, кажется, огорчили его. Он снова пересчитал – и снова расстроился. Лучше бы то окно не светилось.
Какое-то время человек колеблется. Какое-то время он стоит посреди тротуара в глубокой задумчивости и нерешительности. Но вот человек по фамилии Кустов – во всяком случае, в качестве такового он находится сейчас тут – заходит в темный двор, останавливается возле красных «Жигулей», проводит рукой в перчатке по лобовому стеклу с примерзшей к нему снежной крошкой, отпирает дверцу. Дверца щелкает. Из сумеречного нутра веет холодом нежилого, к которому примешиваются слабые живые запахи резины и машинного масла. Кожа пальто реагирует на каждое его движение. Словно кто-то невидимый тайно наблюдает за Антоном Николаевичем Кустовым, невольно выдавая себя этим неприятным поскрипыванием.
Примостившись на краешке сиденья, он запускает руку вглубь, в черноту и вот уже отключил сигнализацию. Потом вынимает из кармана пальто туго обтянутый бумагой сверток – вроде небольшой толовой шашки, – прячет его где-то в недрах и невольно вздрагивает, встретившись с собственным взглядом, отраженным в зеркале. Некоторое время он с недоверием вглядывается в вылепленное из тени и света лицо двойника: в светящиеся зрачки, провалы глазниц, разделенные ложбинкой переносицы и подчеркнутые снизу полоской упрямо сжатых губ, – и вот уже пытается вылезти из машины. Тянется ногой к земле, но не достает. Возникает мгновенное ощущение пропасти, гибельного провала. Наконец твердь нащупана. Слышно, как хрустнула подмерзшая за ночь почва.
Кустов снова включает сигнализацию, хлопает дверцей, звенит ключами, выдавливает таблетку на ладонь, давясь, проглатывает на ходу. Входит в подъезд, вызывает лифт, нажимает кнопку девятого этажа. Спохватывается. Нажимает «стоп». Кабина дергается и застывает. Кустов снова нажимает – в этот раз на седьмой. Даже бросило в жар. Когда-нибудь он так выдаст себя с головой. Этим – и еще постоянной путаницей с ключами.
В коридорчик-тупик выходят наружные двери трех нумерованных боксов, трех маленьких крепостей, от одной из которых у Кустова имеется ключ. Теперь ему нужно расслабиться. Расслабиться – и вперед. Как ни в чем не бывало. Вперед! – командует Кустов. Он поворачивает ключ, замок поддается, дверь открывается. Еще даже и не успев войти, он ощущает незримый отпор, враждебное поле, разделительную полосу отчуждения.
– Был у врача, – говорит он уже из передней, потом сидели с ребятами…
Мерзкая интонация. Ложь полуправды. Полуправда лжи. Он себя ненавидит в этот момент. Презирает. Почему эта старая женщина в некрасивом домашнем халате с отечным, совсем каким-то чужим лицом имеет над ним такую власть? Почему он ее боится? Зачем оправдывается?
– Тебе звонили. Есть будешь?
Сигарета, оставленная на блюдечке из-под варенья, дымит. Желтое масло никотина расползается по белой глазури. Первая атака отбита. В общем, кажется, обошлось. Или вот-вот обойдется.
– Кто звонил? – спрашивает Кустов.
– Разыскивали с работы. Ты что, там не был сегодня? Раньше ушел?
Пестрые кухонные занавеси не сходятся до конца. В промежуток просунулась фаллическая шишка кактуса – насыщенного хлорофиллом колючего огурца. Жена Кустова питает слабость к кактусам. «Наверно, за то, что они тоже уродливы», – думает Антон Николаевич.
А женщина чувствует: снова обман. Вместо мужа явился чужой. И так изо дня в день. Вот уже целый год. Сколько такое можно вынести? Сколько еще придется терпеть?
«Сейчас начнется вторая атака, – догадывается Антон Николаевич. – Пойдет глотать лекарство. Пить капли. От сердца». И точно – точно! – из ванной слышится стук лекарственных пузырьков, жалостливое бульканье воды. И так вот двадцать лет напролет. Двадцать лет тоталитаризма, тирании, подотчетности, страха. Невыносимо!
Женщина начинает хождение по комнате, по кухне и коридору, стягивает халат на груди. Взгляд становится гнилым и мутным от слез. Дыхание – прерывистым. Вот-вот начнется истерика. Ах нет, приступ – вот как называется это.
Отключиться, отвлечься, не думать, лечь и забыться. Но даже и в мыслях своих он уже не властен. Под постоянным рентгеном. Хроническая лучевая болезнь.
Мглистые облачка табачного дыма покачиваются под низким потолком кухни, высвеченные потоком электрических квантов, испускаемых яркой лампочкой. Напряжение постепенно спадает. Пытка отсрочена. Пытка окончена. Заключенного возвращают в камеру.
Жена наливает Кустову свежий чай, оказывает мелкие знаки внимания. Их уже накопилось столько, что Кустову вновь вдруг становится легко и свободно. Прежний, еще недавно стоявший на пороге квартиры, пытаемый и страдающий Антон Николаевич словно куда-то исчез, испарился, вытек, а место его занял двойник, копия, однофамилец, которому вполне хорошо наедине с этой заботливой женщиной.
Кустов переодевается, меняет кожу. Он выползает из пиджака, где остаются его документы, предписывающие вечно жить в этом четырнадцатиэтажном доме с низкими потолками на улице Строителей-Новаторов и ежедневно ходить на работу в Институт биологических исследований. Опять начинают дрожать внутренности. Опять к ним присоединили электрические клеммы, пустили ток. Все зудит внутри, мелко вибрирует. Кустов бросается в ванну к коробке с лекарствами, вытряхивает из склянки две последние таблетки. Продавливает две еще через серебряную фольгу. Жадно глотает одну за другой, подряд. Нет больше сил терпеть.
Жена после горячего душа. Жена, красная как рак, окликает, завлекает его, а он смотрит на нее непонимающе остекленевшими глазами. Бледные ноги с фиолетовыми прожилками. Ноги некрасиво торчат из-под халата. Перспектива искажается. Комната плывет, деформируются, уплывая, предметы.
«Спать, спать, спать», – повторяет про себя Кустов.
И вот они уже недвижно лежат на широкой кровати совершенно симметрично, каждый под своим одеялом, и смотрят в потолок. Супружеская чета. Два гипсовых слепка. «Эту парную гробницу соорудил, кажется, для Медичи Микеланджело, – с трудом соображает Антон Николаевич. – Микеланджело Буонарроти. Флоренция. Эпоха Возрождения. Ave Maria!..»
Тяжелые синие шторы почти не пропускают света с улицы. Лекарство действует. Отпускает понемногу. Антон Николаевич впадает в забытье.
Так он опять оказывается на Четвертом проспекте Монтажников и, выйдя из больницы, спешит в сторону центра, надеется успеть до закрытия в ГУМ. Из-за сильного гололеда он без машины. Автобус, метро, калейдоскоп лиц. Как на печатающем ротаторе, мелькают в воздухе запечатленные портреты прохожих, приезжих – и тотчас листки разносит ветром. Лица. Типы. Детали и фрагменты. Крашеная рыжина. Зализанная седина. Колебание необъятной груди. Шляпы, губы, летящие мимо глаза…








