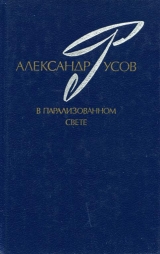
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Прощались не только с Самсоном Григорьевичем Белотеловым и Викентием Петровичем Белоуковым, но также с товарищем Непышневским, теоретиком из отдела информации.
В период, предшествующий некоторым переменам наверху, ему, привыкшему к вольной жизни, пришлось существовать в таких невыносимых климатических условиях, к которым он оказался совершенно не приспособлен. После достопамятного выступления на юбилее Самсона Григорьевича с ним многие перестали здороваться. То ли боялись начальства, то ли в самом деле стали испытывать к смутьяну жгучую неприязнь. А иной раз так просто демонстративно отворачивались при встрече или смотрели мимо и как бы сквозь – будто теоретика уже не существовало.
Когда по институту пронеслась весть о том, что Самсон Григорьевич освобожден от должности, многие бросились разыскивать Непышневского, чтобы искренне пожать его мужественную руку. Как-никак он был первым, кто восстал против тирании Самсона Григорьевича. Нашли его на обочине одной из асфальтированных дорожек. Он лежал на боку, отвернувшись, и вся поза его выражала крайнее недовольство. «Оставьте меня в покое, – как бы говорил старый теоретик. – Не преувеличивайте моих скромных заслуг».
На дверях административного корпуса, где вывешивали обычно всякие печальные сообщения и художественно оформленные поздравления отделам, победившим в различных соревнованиях, некролога не появилось. Связано это было как будто с тем, что штатный художник отдела информации, подчиняющийся непосредственно Вигену Германовичу Кирикиасу, был занят в это время какой-то срочной работой, которую дал ему только что вернувшийся из отпуска Виген Германович.
Как и в случае с Аскольдом Таганковым, смерть эта породила разноречивые толки, и кое-кто даже решил, что Непышневский ушел не из жизни, а только из института – на заслуженный отдых.
Став заведующим самого крупного в институте подразделения, Никодим Агрикалчевич Праведников быстро освоился, будто всю свою жизнь готовился занять этот пост. Своей ближайшей целью он поставил упорядочение деятельности вверенного ему коллектива и, в отличие от предыдущего заведующего, развалившего, как показала проверка, всю работу, не отсиживался, протирая, что называется, штаны и полируя деревянные морды львов на подлокотниках старинного резного кресла, но активно посещал отделы, лаборатории, дирекцию, мастерские, а также помещения общественных организаций. Однако если бы у кого-то возникло впечатление, что находящийся на отшибе кабинет с гобеленами, бронзовыми дверными ручками и латунными шпингалетами ему вовсе не нужен, то оно было бы глубоко ошибочным. Набегавшись за день, Никодим Агрикалчевич, будто на землю обетованную, ступал на ковровую дорожку бывшего дворцового флигеля по соседству с музеем, поднимался к себе, погружался в мягкое, обтянутое некогда кожей, а теперь серебряной парчой кресло и в окружении тканых изображений обнаженных пастушек, сцен охоты и всевозможных аллегорических сюжетов подписывал документы, принимал посетителей, делал необходимые телефонные звонки.
Когда Виген Германович, вернувшись из отпуска, пришел в этот кабинет, Никодим Агрикалчевич прежде всего поинтересовался, как обстоят в отделе информации дела с ответственной темой по усовершенствованию институциональных структур.
Виген Германович даже опешил. Его так и подмывало сказать: тема-то, Никодим Агрикалчевич, ваша, вами придумана, с вашей подачи открыта… Но в том-то и состояло своеобразие ситуации, что за эту тему Никодим Агрикалчевич более лично не отвечал.
– Предвижу трудности, – замялся Виген Германович.
– Да ты поручи ее Орленко. Он справится. Хотя нет… – Никодим Агрикалчевич легко дотронулся до столешницы, как это обычно делал бывший его начальник в минуты задумчивости. – Орленко я у тебя, пожалуй, заберу. Пора повышать парня.
– Надеюсь, – обиженно поджал губы Виген Германович, – вы не оставите без внимания…
Но надлежащего покорного выражения на лице ему, кажется, так и не удалось добиться.
– Тут, Виген Германович, важно не затянуть вопрос. Гляди! Спрошу по всей строгости…
Никодим Агрикалчевич погрозил пальцем, улыбнулся почти дружески и глянул вбок, мимо заведующего отделом информации – туда, где томная молодая нимфа осторожно входила в прошитую серебряной ниткой мутную воду. Виген Германович тяжело вздохнул, как-то вдруг усомнившись в надежности собственной памяти. Ведь если она ему не изменяла, это были собственные его слова.
– Кстати, что там творится у Сироты?
– Как будто новые вещества, с которыми они работают, опасны для здоровья.
– Кто это говорит?
Виген Германович не ответил.
– Какой же ты после этого отдел информации? – осуждающе покачал головой Никодим Агрикалчевич. – Давай-ка проработай как следует и доложи в срочном порядке. Хочу разобраться лично. Ведь основанием для постановки этой темы…
И тут Виген Германович, обладавший, как известно, поистине феноменальной памятью, вновь получил возможность убедиться в явном превосходстве памяти нового начальника.
– Помнишь материалы, которые мы когда-то готовили для химиков? – ударился в воспоминания Никодим Агрикалчевич. – Я еще интераптор велел заменить. Там было что-то такое… Ну про женщин… А потом… Да… Если разобраться, то наш отдел и отдел химиков… то есть ваш отдел и отдел химиков, – поправился Никодим Агрикалчевич, – то два этих отдела стали побратимами… И теперь, когда особенно остро ставится вопрос об интеграции… Необходимо перенять опыт…
Что оставалось бедному Вигену Германовичу? Узнавать, прорабатывать, докладывать. Уж он-то хорошо знал о тех глобальных переменах, которые время от времени сотрясают весь мир и любое научное учреждение как неотъемлемую его часть. Служебные перемещения, переводы с должности на должность, свежие веяния, новые неотложные задачи. Новое начальство дает новые указания, их нужно выполнять по-новому, и нет в том ничего обидного или унизительного.
Все-таки чем-то очень неприятна была Вигену Германовичу эта перестановка. И особенно – это первое поручение Никодима Агрикалчевича. Не тем даже, что бывший подчиненный стал твоим начальником. Нет, мелочное самолюбие тут ни при чем. Да приди к нему тот же Никодим Агрикалчевич или вызови к себе Владимир Васильевич посоветоваться – он бы, может, и сам с радостью помог. Но не пришли, воспользовались его отсутствием. К чему такая спешка? Некрасиво. Нехорошо…
В происходящих переменах Виген Германович ощутил неумолимо надвигающуюся опасность. Конечно, от того, закроют или не закроют кетеновую тематику, мир не перевернется, отдел информации не пострадает, но направленность работ Института химии безусловно как-то трансформируется. Общий дух переменится. Стиль. Атмосфера, что ли. Характер взаимодействий и взаимовлияний. Немного на одном, на другом, на третьем участке сдвинется, а там, глядишь, и кадры сменятся. Структура станет иной. Конъюнктура. Кого-то придется на пенсию спровадить, кого-то переместить. А ведь у людей – семьи. У людей – дети и внуки.
Разумеется, Институт химии останется Институтом химии и заниматься будет, скорее всего, химией. Но какой именно? – вот в чем вопрос. Химия – слишком общее понятие. Лекарства, яды, консерванты, стимуляторы, удобрения, возбудители, подавители – все химия.
Поскольку информация нужна любой химии, то и отдел информации, возглавляемый опытным руководителем, необходим, конечно, всякому институту. Однако информация информации рознь. Самсону Григорьевичу Белотелову, например, который прекрасно понимал нужды, задачи, права и обязанности отдела, требовалась одна информация. А бывшему контрольному редактору Никодиму Агрикалчевичу Праведникову, знавшему предмет, пожалуй, слишком детально, чтобы успешно осуществлять общее руководство, могла потребоваться иная. И если Самсон Григорьевич уделял вопросам информации должное внимание и многое получал от отдела, то как станет вести себя теперь Никодим Агрикалчевич?
Прежний руководитель считал, хотя и не афишировал это, что информация в некотором отношении важнее химии, ибо является более общей, универсальной, всеохватывающей дисциплиной. А где уверенность в том, что новый станет придерживаться той же разумной позиции? Чью сторону он примет: заместителя директора по науке Владимира Васильевича Крупнова, противника выделения отдела в самостоятельный институт, или Вигена Германовича Кирикиаса, в тайне души кровно заинтересованного в положительном решении этого вопроса?
Тут что-то судорожно закрутилось, замигало, защелкало в мозгу у Вигена Германовича, и когда внутреннее вычислительное устройство выдало результат, он почувствовал, что почва уходит из-под ног: смена руководства была произведена именно для того, чтобы навсегда похоронить идею создания нового института. И чреватую неприятностями тему, начатую по инициативе Никодима Агрикалчевича, словно бы кто-то коварно подстроил Вигену Германовичу – кто-то, заранее знающий ход последующих событий.
Виген Германович пошатнулся. Стрельнуло в груди, отдалось в руке. Будто заноза, засевшая в сердце Никодима Агрикалчевича во время одного из ночных дежурств в Машинном зале, переместилась теперь в сердце Вигена Германовича, и так нехорошо ему вдруг стало, что он как-то сразу понял давно понятное лечащему врачу: дни его сочтены.
Да, все менялось – для кого в хорошую, для кого в плохую сторону. Идеалистические заблуждения сменялись заблуждениями материалистическими, новые суеверия компенсировали недостаток старых знаний, на смену опостылевшим предрассудкам приходило ясное понимание истины, которую, в свою очередь, подстерегали суровые испытания. Круговорот идей, вещей и веществ продолжался.
Никодим Агрикалчевич стал одеваться франтом, и это ему шло. Постоянно бегающие его глаза обрели то спокойное, достойное, уверенное выражение, которое бывает только у породистых домашних животных и у больших начальников. Совершенно неожиданно в его лице степановская лаборатория обрела защитника и покровителя кетеновой тематики. Именно по его распоряжению все, когда-либо работавшие или соприкасавшиеся с кетенами, сдали в лабораторию санчасти Института химии анализы мочи, крови и кала. Несмотря на некоторые различия в их цветах и оттенках, медицинские результаты, как и следовало ожидать, оказались самые благоприятные.
Иногда Никодим Агрикалчевич приглашал в свой кабинет с гобеленами профессора Степанова, и они подолгу беседовали, всякий раз очень тепло и дружески.
– Откуда, Сергей Сергеевич, пошли разговоры о том, что кетены вредны?
Неторопливо перелистывая отчет с заключением Института токсикологии, Никодим Агрикалчевич задерживался на выводах.
– Я бы тоже хотел это знать.
– Волюнтаризм?!
– Да, да, вот именно. Я уже не раз говорил об этом Игорю Леонидовичу. Правая лаборатория на нас жалуется. Не любят они нас за что-то…
– Ничего, полюбят, – обещал Никодим Агрикалчевич. – Слишком распустились, понимаете. Чересчур много на себя берут. Этот Белотелов окружил себя подхалимами и любимчиками. Не вы один сигнализируете.
– Я, собственно, не…
– Ничего, ничего. Теперь все будет по-другому. Работайте спокойно. Развивайте те направления, какие считаете нужными…
Сергей Сергеевич прощался. Благодарил. Начищенная до зеркального блеска изогнутая дверная ручка с изображением косоглазой звериной морды скользила у него под рукой, будто намыленная. Пастушки и нимфы томно улыбались со стены. Справедливость торжествовала. Порок трепетал. Новая волна накатывала, смывая накопившуюся за годы грязь, что было весьма уместно и своевременно в преддверии институтского юбилея.
Что касается более мелких изменений, то они тоже происходили. Не только в отделах, но и в лабораториях. Триэс, например, решил «раскассировать» вакансию, ранее занимаемую Аскольдом Таганковым. «Пора», – сказал себе Сергей Сергеевич и отправился в плановый отдел договариваться о переводе Гурия на должность старшего научного сотрудника и о повышении ставок двум лаборанткам. Таким образом, до сих пор значившаяся в штатном расписании под именем Аскольда Таганкова единица превращалась как бы в перегной или удобрение, способствующее росту трех других сотрудников лаборатории.
Для Гурия это было полной неожиданностью.
– У меня такое чувство, – сказал он Ласточке, – что Аскольда выжил я.
– Не говори глупости! Если Триэс этого не сделает, вакансию срежут при первом же сокращении.
– Все равно погано на душе.
– Что ни делается – к лучшему, – философически заметил Валерий Николаевич.
– Кабы не Аскольд…
– А я вот стал суеверным. Бывают такие проклятые вакансии. Один помрет, другой приходит на его место – и то же самое. Или становится страшной сволочью, что, согласись, еще хуже. Так что некоторые штатные единицы, нужно, по-моему, просто упразднить…
Был поздний вечер, собрались уходить домой, но тут явился Триэс с новой идеей. Пошумел, набросал несколько формул и исчез так же внезапно, как появился. Он вел себя все более странно. Перестал узнавать знакомых. По нескольку раз в день здоровался с одними и теми же сослуживцами. Вдруг принимался лихорадочно хлопать себя по карманам в поисках курева, а когда кто-нибудь предлагал сигарету, отказывался, уверяя, что уже лет десять не испытывал желания закурить.
Аскольда вспоминали многие: Ласточка, Гурий, Триэс, Инна, – и все с добрым чувством. А Борис Сидорович Княгинин тот и вовсе безутешно скорбел о своем юном друге. В последнее время старый переводчик часто болел, передвигался с трудом, но на пенсию не уходил. Иногда им овладевала навязчивая идея, что в гости должен прийти Аскольд, и тогда Борис Сидорович яростно принимался за уборку квартиры, готовил, накрывал стол на двоих, и нередко старческий сон сваливал его прямо посреди этих уже обременительных для него приготовлений.
И Никодим Агрикалчевич Праведников вспоминал по-своему Аскольда Таганкова. Встречаясь с институтской молодежью, он любил рассказывать, как, дежуря однажды в Машинном зале, он доработался до зрительных галлюцинаций. Так что освещенный светом полной луны молодой человек в дверном проеме с некоторых пор стал служить своего рода живым примером трудового энтузиазма того славного поколения людей, к которому Никодим Агрикалчевич имел честь принадлежать и которое достойно представлял в Институте химии.
К Сергею Павловичу рыжий молодой человек чаще всего являлся во сне. Член-корреспондент просыпался с сильным сердцебиением, зажигал свет и коротал бессонницу, ставя у себя в кабинете на письменном столе всевозможные рискованные опыты с помощью школьного набора «Юный химик».
Даже Андрей Аркадьевич Сумм, никак, казалось бы, не связанный с этой запутанной историей, перед отъездом в отпуск спрашивал у Триэса о Таганкове в связи с циркулировавшими по институту противоречивыми слухами. На эту поездку он возлагал особые надежды, ибо намеревался приступить наконец к переводу уже многократно переведенных другими Овидиевых «Метаморфоз». Новое вино в старые мехи он надеялся перелить с помощью небольшого чемодана, плотно набитого книгами, словарями, справочниками и пачками чистой бумаги. Чемодан этот оказался, однако, настолько тяжел, что аэрофлотовский служащий, принимавший багаж, взглянул на Андрея Аркадьевича с нескрываемым подозрением и даже о чем-то пошептался с коллегой, после чего чемодан был отставлен в сторону, что не помешало ему, впрочем, прибыть в аэропорт назначения в целости и сохранности.
В Лунино Андрей Аркадьевич вернулся глубокой осенью. Последние листья слетали с деревьев. Пламенели последние кусты. Только у одного окна лабораторного корпуса в теплом потоке пропитанного химическими запахами воздуха, точно утки в полынье возле теплой трубы заводского слива, порхали белокрылые бабочки.
Их было три или четыре, но однажды утром степановские сотрудники увидели за окном целые тучи кружащихся бабочек. Засыпало землю, асфальтовые дорожки, крыши домов, ветки деревьев.
– Вот и зима пришла, – тихо сказал Ласточка.
И все, находившиеся в комнате, согласились с ним.
ГЛАВА XVIII
1. ПИСЬМА ДЕВЯТОЕ И ДЕСЯТОЕ
«Дорогой сын!
Извини за продолжительное молчание. Я вспомнил, что в предыдущем письме перечислил далеко не все виды переводов, которыми тебе как будущему полиглоту предстоит овладеть. Попытайся сделать это теперь без моей помощи.
Сегодня мы присутствуем на невиданном пиру, куда съехались гости со всего мира. К сожалению, зал приемов слишком велик, а стол чрезмерно обилен. Сколько разместила на нем история разнообразнейшей пищи для тела и души, ума и сердца! Даже нечего пытаться отпробовать все кушанья. Вот мой совет: испытай голод, потом слегка утоли его. Избегай неумеренности. Всего не съешь, а желудок испортишь. Radix malorum est cupiditas[6]. Заботься о развитии вкуса, не аппетита.
Но вернемся к переводам. Слова как краски: лишь от характера сочетаний зависит смысл картины и ее ценность. Не так важно, какие краски использовал художник, как то – ради чего он взялся за кисть. Ведь все слова уже начертаны, мысли высказаны. Что же остается? Почему нет конца новому?
Ограничь себя в поисках слов, займись поиском истины. Она – достаточная награда за любые усилия. Опасайся только мнимого правдоподобия, когда все как будто похоже и все – фальшь. Попытайся быть честным перед собой, нужные же слова найдутся сами.
В последнем письме ты называешь меня стоиком. Почему не скептиком или эпикурейцем? Знаешь ли, что представители этих философских школ имеют между собой больше общего, нежели отличного?
Приезжай, сынок, в Лунино. Познакомишься с интересными людьми – истинными гуманитариями, связанными, однако, с самыми передовыми научно-техническими идеями века. Может, на зимние каникулы? К тому времени мой младший сын, а твой, соответственно, младший брат, о рождении которого я извещаю тебя настоящим письмом, немного подрастет и не будет требовать к себе столь пристального внимания.
Меня радует твоя неугомонность! Мало тебе переводов – ты уже сочиняешь сам. Прекрасно. Кто-то говорит, что написанное тобой – от ума? Что ж тут дурного? «Все беды от сердца», – написано в Библии, но ведь и от недостатка ума произошло не одно великое бедствие. Заблуждаются те, что считают наш век рационалистическим. Уж скорее он неразумен и беспорядочен, нежели глубоко умен.
Если твои сочинения милостиво сохранит история, не сомневайся, что будущие ценители воздадут должное как раз тому, что хулят нынешние. Пиши в надежде удовлетворить хотя бы собственный вкус, потребность в прекрасном и существенном пусть даже одного человека. Нравиться всем – значит, никому.
Работай больше. Молодость не знает усталости, любой труд ей на пользу и по плечу. Не унывай! Крепко жму руку».
«Дорогой сын!
Призыв «ориентироваться на себя» – не есть призыв к эгоцентризму, а лишь попытка обратить внимание на необходимость выработать собственную индивидуальность. Без индивидуального нет культуры, без культуры – возможности полноценного служения обществу. Формирование личности – наиболее длительный и тяжкий труд из всех, налагаемых на человека временем «всемирного языка формул, интегралов и квантов». Поэтому я начал с разговора о нем.
Хотя твое будущее полиглота, как и мое настоящее научного работника, связано со знанием чужих наречий, вне родного языка, на котором говорили наши предки и говорим, думаем, пишем мы, вне земли, из которой мы вышли и в которую уйдем, любые усилия лишены смысла. Ведь кто мы все такие, если не переводчики со многих языков на один единственный, нам присущий?
Я так и не получил ответа на мое возражение относительно стоиков. Или ты разделяешь обывательское суждение, что эпикурейцы – это люди, предававшиеся неумеренным плотским удовольствиям? На самом деле они имели в виду лишь удовольствия, получаемые в результате всевозможных самоограничений. Стоики, скептики, эпикурейцы умели обходиться малым. Они жили в скромных жилищах, ограничивали себя в пище, одежде и даже в словах. Избегали утверждений, которые по прошествии какого-то времени могли вольно или невольно закрепить за ними репутацию лжецов. «Если хочешь сделать человека богатым, – говорили они, – нужно не прибавлять ему денег, а убавлять его желания». Великими же называли тех, кто глиняной посудой пользовался как серебряной и серебряной – как глиняной. Они наслаждались свободой, бедностью, презрением к собственному телу, чистой совестью, честными намерениями, а также правильными поступками, не допускающими расхождений между словом и делом.
Эпикурейцы были отшельниками, а не развратниками – запомни это.
«Никогда не хотел я нравиться народу, – говорил Эпикур. – Ведь народ не любит того, что я знаю, а я не знаю того, что любит народ». Другой ему возражал: «Мне не дано знать, помогут ли мои уговоры тому или этому, но я знаю, что, уговаривая многих, кому-нибудь да помогу. Нужно всякому протягивать руку, и не может быть, чтобы из многих попыток ни одна не принесла успеха». А третий перечил второму: «Как может быть дорог народу тот, кому дорога добродетель? Благосклонность народа иначе как постыдными уловками не приобретешь. Толпе нужно уподобиться: не признав своим, она тебя не полюбит. Если я увижу, что благосклонные голоса толпы возносят тебя, если при твоем появлении поднимаются крики и рукоплескания, какими награждают мимов, если тебя по всему городу будут расхваливать женщины и мальчишки, – как же мне не пожалеть тебя? Ведь я знаю, каким путем попадают во всеобщие любимцы!»
Восприми сей «триалог», эту обширную цитату из Сенеки, мой сын, как вполне серьезное дополнение к разговору о самоограничениях. Сколько свободных лет жизни получишь ты в обмен на отказ от стояния в очередях! Сколько хороших книг успеешь прочитать, полезных и добрых дел сделать, вместо того чтобы предаваться изнурительной погоне за сиюминутным. Неутолимой жаждой и неумеренным аппетитом страдает лишь тот, у кого нет ничего за душой. Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов утратить его…»
Здесь необходимо отметить, что два эти письма Валерий Николаевич писал не там, где были написаны предыдущие восемь. В лабораторной комнате теперь непременно кто-нибудь находился даже в обеденный перерыв: либо Гурий, либо Инна, а то и лаборантки, распивающие бесконечные свои чаи.
Но не только этим объяснялся большой перерыв в письмах. С появлением в доме младенца на Валерия Николаевича свалилось слишком много новых забот и впечатлений, чтобы хватало времени и сил сочинять еще для старшего сына наставления, в коих он сам, пожалуй, нуждался теперь не в меньшей степени.
Жизнь резко переменилась. Словно родившись заново, Валерий Николаевич рос и изменялся по дням вместе с малышом. Где бы ни находился, о чем бы ни думал, мысли неизменно возвращались к одному и тому же, как стрелка компаса, покрутившись и покачавшись, всякий раз застывает в направлении магнитного полюса земли. С работы ли, из веселой компании – отовсюду его тянуло к детской кроватке, к туго спеленатому существу, чье сморщенное некрасивое личико все более становилось похоже на комически-печальное лицо стареющего мальчика с непослушным вихром на затылке.
Весь мир для Валерия Николаевича как бы разделился на две неравные части – светлую и темную. В одной находился его дом, в другой – остальное. Все, что исходило из темной части вселенной, едва достигало сознания. Что касалось другой, светлой части, то малейший шорох из детской долетал до Валерия Николаевича как тревожный шум листьев перед бурей, а младенческий писк – как тоскливый, сжимающий сердце крик ночной птицы. Он стремглав устремлялся туда и успокаивался, лишь когда убеждался, что ничего страшного не случилось.
Но спустя какое-то время Валерий Николаевич вновь вспомнил о старшем сыне и испытал болезненный укол совести. В своей эгоистической отцовской радости он покинул того, кто постоянно ждал его совета, поддержки и помощи. У этих детей было все: любящие родители, постоянное внимание, подарки – словом, полноценная во всех отношениях семья, а другой его мальчик оказался лишен родительской заботы в самые трудные, ответственные, переломные, можно сказать, годы становления и возмужания. Втянув сына в переписку, вызвав на откровенность, заставив поверить в родительскую заинтересованность его судьбой, он совершил невольное предательство, как бы бросил ребенка во второй раз.
Валерий Николаевич ударился в панику. Начал писать Девятое письмо на лавочке в институтском парке, потом пробовал в библиотеке и даже в общественном транспорте, однако ничего путного из этого не получилось. Он напрягал слух, чтобы услышать внутренний голос, но слышал лишь шорох ветра в голых ветвях, или случайный разговор, или рев автобусного мотора – и ничего больше.
Как-то перед сном, валясь от усталости, он мучился над расчетами, связанными с месячным бюджетом семьи. Дом спал. Свет настольной лампы резал глаза. Вдруг Валерий Николаевич услышал громкий, настойчивый, знакомый голос, который очень отчетливо сказал: «Дорогой сын».
«Дорогой сын!» – обрадовался Валерий Николаевич и написал эти слова на чистом листе бумаги. Далее он продолжил:
«Извини за продолжительное молчание. В предыдущем письме…»
Когда кончил писать, было далеко за полночь. Он бесшумно отодвинул стул, на цыпочках обошел квартиру. Сладко спала жена. Безмятежно сопели дети. Посасывал соску малыш.
Валерий Николаевич вернулся к столу. В ушах стоял монотонный шум, как если бы радиопередачи кончились, а приемник забыли выключить. Он прочитал письмо, которое писал с таким вдохновением. Слова, фразы, отдельные мысли и выражения казались теперь сухими, бесцветными, будто пропущенными через соковыжималку.
На следующую ночь, дождавшись, когда все в доме уснули, он вновь услышал голос, и снова его перо едва успевало записывать.
Диктант оборвался самым неожиданным образом на фразе: «Никакое благо не принесет радости обладателю, если он в душе не готов утратить его». По каким причинам прекратилась связь и почему именно в этот момент, Валерий Николаевич не знал.
2. ОСВОБОЖДЕНИЕ
Вернувшись в Лунино после трехдневного отсутствия, Инна долго бродила по улицам без всякой цели, словно надеясь вновь привыкнуть к мысли, что здесь находится ее дом, работа, прошлое и какое ни есть будущее. Она чувствовала себя слабо и странно, вдруг теряла ощущение реальности, останавливалась возле какой-нибудь вывески, пыталась что-то вспомнить, думала о том, что теперь должна целиком посвятить себя воспитанию дочери, жить незаметно, уединенно и тихо стареть.
Почему-то дочь в ее мыслях присутствовала лишь как некий объект повседневных забот. Точно такими же были ее размышления о том, что предстоит сделать сегодня, завтра, послезавтра. От холода, царящего в душе, глухого молчания всего ее материнского существа становилось жутко. Главное выдержать. Выжить… Мысленно она гоняла по кругу эти слова, точно записанные на магнитофонную ленту, и было в душе так муторно, нехорошо.
Очутившись перед дверью своей квартиры, постояла в нерешительности, достала из сумки зеркальце, заглянула в него. Темные круги под глазами. Бледное, измученное лицо. Отыскала ключ, вставила в прорезь замка.
Вошла, опустила сумку на пол, стянула плащ. В коридорном просвете возник темный мужской силуэт. Она чуть не вскрикнула: «Аскольд!»…
– Алексей? Что за глупые шутки!
– Репетирую. – Муж стащил с головы рыжий парик. – Юбилей. Карнавал. Весь институт готовится.
– Мамочка!..
Инна обернулась. На нее, не мигая, смотрели вопросительные глаза дочери: круглые, серо-голубые, с крапчатой радужной оболочкой. Детские руки обвили шею. Инна прижалась губами к мягким волосам, заплетенным в две тощие соломенного цвета косички.
– Как вы тут без меня?
– Болеем.
– Опять промочила ноги?
– Мы с папой стояли под дождем за билетами.
– Польский фильм, – сказал Алексей. – О том, как ищут пропавшего актера.
– Он под поезд попал.
Инна с тревогой и жалостью взглянула на тонкие ножки, торчащие из-под халатика.
– Папа, расскажи, как машина задавила куклу.
Алексей утомительно долго стал пересказывать содержание картины, будто это было главное и единственное, о чем им предстояло говорить сегодня. Потом включил магнитофон.
– Выключи.
– А?
– Выключи эту кретинскую музыку! – взорвалась она.
– Ну пожалуйста. Ты что, не в духе? Хочешь есть?
– Нет, спасибо.
Муж убирал со стола, гремел кастрюлями.
– Знаешь, меня собираются повысить.
– Поздравляю.
Тонечка стояла, прислонившись к стене, и как завороженная поворачивала голову из стороны в сторону, словно не слыша родительских голосов и только по движению губ догадываясь, о чем они говорят.
Инна вновь почувствовала прилив сильного раздражения. Этот суетящийся мужчина, ее муж, чье присутствие она выносила с трудом, был такой гладенький, добропорядочный, благополучный, глупый, пустой, с этой своей самодеятельностью, хозяйственными заботами, перспективой служебного роста. Ее возмущало в нем все. Внутри что-то трепыхалось, дрожало и дергалось. Пусть она плохая жена, мать, никудышная хозяйка. Неблагодарная. Несправедливая. Уж какая есть. Триэс предупреждал, когда она только пришла в лабораторию: начнется странная, ни на что не похожая, опасная, прекрасная жизнь, из которой нет возврата. «Вы уже не сможете жить, как другие. Убедитесь сами». Она убедилась! Теперь ей нужны либо крылья, либо помело ведьмы, а не благопристойные беседы с этим ординарным человеком, которому нет дела до ее забот и проблем. Их ничто больше не объединяло.
Тонечка уткнулась в материнский живот, прижалась и затихла.
– Любишь меня?
Девочка кивнула, не поднимая лица.
– Если бы мне снова пришлось уехать… на некоторое время… – Подрагивающая ладонь едва касалась мягких детских волос. – Ты с кем бы хотела быть?
Ответа не последовало. Инна попыталась силой оторвать от себя дочь, но та прижималась все крепче.
– Опять с папой? Ты его больше любишь!
Тонечка зло оттолкнула мать и стремглав выбежала из кухни. Алексей громко вздохнул, осуждающе покачав головой.
ГЛАВА XIX
МУЗАРЕЛЛА ФЕСТИВАЛЬНАЯ
С приходом к власти Никодима Агрикалчевича Праведникова кетеновая тематика, которая в практическом отношении сулила разработку эффективных стимуляторов роста сельскохозяйственных культур, вновь получила горячее одобрение институтского руководства. На нее даже отпустили дополнительные средства, но в том уже не было особой нужды. Сергею Сергеевичу удалось отыскать лазейку, найти хитроумный обходный маневр, который позволил бы Инне защититься независимо от институтских веяний. Еще в Приэльбрусье, сидя на краешке измятой постели в Охотничьей комнате, Триэс впервые подумал всерьез о возможности превращения кротонов в кетены. Неужели этот мальчик Аскольд Таганков был прав и такое действительно возможно: превратить консерванты в ускорители роста, статическое в динамическое, смерть в жизнь? Путь, однако, был слишком трудным, ненадежным, пролегающим к тому же вне круга проблем, которыми традиционно занималась лаборатория – но и весьма заманчивым, конечно, дьявольски соблазнительным. Вот почему он и не удержался тогда, сделал заметки в своем делегатском блокноте, нарушил старое доброе правило искушенных людей: никогда не выходить из круга. Сходная мысль явилась потом в Лунине. Она имела совсем иное обличье, и он сразу даже не узнал ее. Но, перелистав однажды, в связи с работой над монографией, свои старые, многолетней давности записи, он вдруг обнаружил, что идея, подобная этой, приходила к нему еще раньше – гораздо раньше, чем он мог поначалу предположить.








