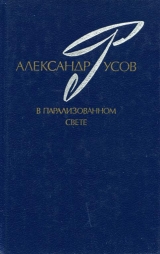
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 45 страниц)
– Иные же переводчики, – отложил в сторону дрожащей рукой один из шуршащих листков доклада Борис Сидорович, – я имею в виду, разумеется, только тех, кто не прибегает к сознательным искажениям, а добросовестно пытается перенести читателя в обстановку других эпох… так вот, некоторые переводчики, к сожалению, сами перебираются туда с большим трудом. И потому под беретом, осененным перьями, мы нередко узнаем голову, причесанную в современной парикмахерской, иные романтические героини получают воспитание в нынешней школе с продленным днем, а государственные люди шестнадцатого столетия мыслят столь же неинтересно, как какие-нибудь современные обозреватели «Литературной газеты»…
Последние слова лингвиста вызвали заметное оживление. При этом кто-то вспомнил недавно опубликованную в районной газете заметку, посвященную Лунинской системе переводов, кто-то усмотрел двусмысленный намек в выражении «государственные люди», а докладчик уже углубился в анализ страданий писателей, уязвленных жалкими переводами. Целый его пассаж был посвящен Пушкину, впадавшему в бессильный гнев от упреков в неблагодарности по поводу исправлений и улучшений его текстов переводчиком, взявшим на себя труд «сократить длинноты и облагородить некоторые слишком уж обыкновенные украшения». Дальнейшее сводилось к отстаиванию необходимости использовать для новой машинной идеологии единственно правильный принцип перевода – «слово в слово».
Борис Сидорович прихлопнул ладонью последний лежавший перед ним листок и на вопрос председателя: «вы кончили?» – только упрямо тряхнул головой.
– Кто следующий? – обратился к собравшимся Владимир Васильевич.
Его взгляд, пробежав по лицам, точно луч прожектора, остановился на товарище Кирикиасе. Но тут донеслось совсем с другой стороны:
– Разрешите мне.
2. ДОВОДЫ ОППОНЕНТА
– Прошу внимания! Слово Андрею Аркадьевичу Сумму.
В отличие от апологета «дословного перевода» Бориса Сидоровича, Андрей Аркадьевич принадлежал к артистическому типу переводчиков-импровизаторов и потому начал свое выступление в полемическом тоне, противопоставив буквализму предшественника свободные правила свободных ассоциаций, которые, по его утверждению, только и могли сообщить гибкость машинной идеологии в современных условиях дискретного перевода.
– Как сказано у Вергилия: «Quadrupedante putrem sonitu quatit ungula campum»…
С первой же фразы богатый модуляциями, выразительный голос Андрея Аркадьевича, его капризно-чувственные губы на бледном худом лице, свидетельствующие о необычном сочетании жизнелюбия и аскетизма, покорили присутствующих.
– Переводится это так: «Топотом звонких копыт сотрясается рыхлое поле». Стихи Вергилия тотчас пришли мне на память, когда в уже упоминавшейся сегодня научной статье я столкнулся с термином «ядерный квадрупольный», созвучным вергилиевскому quadrupedante…
Тут Андрей Аркадьевич вынужден был откровенно признаться, что до сих пор не понимает, да и не стремится, по совести говоря, понять значение сложного физического термина. Лишь интуитивно ощущаемое сродство энергий побудило его использовать строку из «Энеиды» в качестве и н т е р а п т о р а – искусственной вставки, ритмической паузы, если угодно.
– О плодотворности принципа спонтанности применительно к дискретному переводу свидетельствуют хотя бы успешно начатые работы в области…
На мгновение Андрей Аркадьевич замешкался.
– Кетенов, – подсказал кто-то из соседей.
– Да, кетенов, благодарю вас…
Виген Германович сожалел, что докладчики выступают сидя. Это невольно снижало общее впечатление. Никто не мог увидеть и оценить его сотрудников в полный, так сказать, рост.
– Несомненно, – продолжал Андрей Аркадьевич, – дословный перевод лишает восприятие оригинала должной активности, делая его тем самым и не совсем точным. Что касается переводов пушкинских стихов на французский, на которых останавливался уважаемый Борис Сидорович, то они страдают прежде всего от неспособности вместить в себя должный энергетический заряд…
Убедительно возразив оппоненту, Андрей Аркадьевич перешел к демонстрации наглядных примеров, и тогда участники заседания получили редкостную возможность с помощью звуков, похожих на журчание горного источника – всех этих «ле», «конклаве», «ассамбле», «сур ламе» в блестящем исполнении Андрея Аркадьевича, – убедиться в том, что никакое количество использованных переводчиком-французом «пуров», «сюров» и «приеров» не способно передать весь напор, выразить глубинный смысл простой пушкинской фразы: «Собором положили В последний раз отведать силу просьбы Над скорбною правителя душой».
Очевидная пассивность членов Президиума, принявших без возражений все эти доводы, породили гневную реплику с места и решительный протест Бориса Сидоровича. Одной мощью своих голосовых связок он как бы стряхнул оцепенение со слушателей, откинул наброшенную Андреем Аркадьевичем гипнотическую сеть.
– Че-пу-ха!
– Ближе к делу! – выкрикнула с дальнего края стола Нина Павловна. – Какой экономический эффект даст предлагаемая система в сравнении с существующей? И вообще что это такое – дискретный перевод?..
– Нина Павловна, – призывая к порядку, постучал карандашом по столу председательствующий. – Вопросы потом. Пусть товарищи кончат.
При этом лицо его приобрело хитроватое, даже плутовское выражение, глаза яростно заблестели, а подвижные морщинки в углах губ обрели подобие как бы затаенной, но и очевидной для всех улыбки, словно заместитель директора вполне разделял серьезные опасения Нины Павловны и сам в скором времени собирался задать подобный вопрос.
Не привыкшая церемониться с теми, кто не ходил перед нею, как говорили, «на цырлах», что могло означать и «на цыпочках», и производное от zierlich-manierlich, Нина Павловна демонстративно отвернулась. Она терпеть не могла «образованных», не боялась начальства, знала свое дело и умела сводить даже те концы нитей институтского планирования, которые не удавалось свести воедино всей электронно-вычислительной технике товарища Кирикиаса. Один из немногих в институте действительно незаменимых работников, Нина Павловна подписывала в министерстве сотни необходимых документов, связанных с планом, знала главные входы и запасные выходы сложнейших лабиринтов управленческих структур, и можно было только поражаться, как удавалось этой маленькой женщине держать на своих хрупких плечах финансовую судьбу огромного научно-исследовательского учреждения.
– Хочу напомнить, – обратился, казалось, уже к ней одной Андрей Аркадьевич, – что дискретный перевод, единственное назначение которого – инициировать творческую деятельность ученых, сам по себе тоже творчество, требующее изрядного языкового чутья, свободного полета ассоциаций, неожиданного раскрытия глубинного содержания подлинника. Программы необходимо составлять так, чтобы машина безошибочно выбирала то новое, необычное, что нам, переводчикам, помогает найти интуиция. Характер и н т е р а п т о р о в должен быть поэтому полностью обусловлен идеологией. Наиболее поучительные примеры истории, к которым здесь также апеллировали, свидетельствуют, между прочим, что и н т е р а п ц и я, как и интерпретация, лежит в основе любого созидательного акта на протяжении всей человеческой деятельности. Я подчеркиваю: любого! Достаточно вспомнить Плавта, его переделки греческих авторов. Или Альбрехта фон Эйба, который, в свою очередь, переделывал Плавта. А сколько раз Шекспир переделывал то, что многократно переделывали до него! Раз уж мы взяли за правило прибегать к авторитетам… – В этом месте своего выступления Андрей Аркадьевич метнул сокрушающий взгляд в сторону задремавшего Бориса Сидоровича. Отяжелевшая голова старика упала на грудь, челюсть отвисла. – Сошлюсь хотя бы на высказывание Цицерона о выполненных им переводах речей Эсхина и Демосфена. «Я сохранил и мысли, и их построение, – говорит Цицерон, – их физиономию, так сказать, но не имел надобности переводить слово в слово, а только воспроизводил в общей совокупности смысл и силу отдельных слов; я полагал, что читатель будет требовать от меня точности не по счету, а – если можно так выразиться – по весу…» Non verbum e verbo, sed sensum exprimere de sensu. То есть не от слова к слову, а от смысла к смыслу – таково истинное понимание природы всякого перевода!.. Несомненно, дискретный перевод берет свое начало в глубинах истории. Столь же несомненно и то, что на современном этапе его развития нам потребуются не только и н т е р а п т о р ы – в с т а в к и, но и и н т е р а п т о р ы – п р о п у с к и , а также, возможно, ряд других формальных приемов, способных помочь исследователю остановить внимание в нужном месте, пережить эмоциональный всплеск, усилить творческий импульс, ослабляемый неизбежным воздействием огромного количества невыразительной, вторичной информации… Я кончил.
Никто не шелохнулся. От монотонного гудения кондиционера закладывало уши. Волшебная сеть была снова наброшена. В наэлектризованном воздухе витал целый рой незримых вопросов, однако никто не решался их задать.
– Можно? – обратился наконец к ведущему Игорь Леонидович Сирота. Получив разрешение, он еще более вытянул свое от природы вытянутое лицо, обратив его в сторону докладчика. – Вы тут рассказывали о художественных переводах. Но это, как говорится, область от нас далекая…
Послышались облегченные вздохи, покашливание, смешки, громкий шепот, словно сеть, накинутая Андреем Аркадьевичем, оказалась лишь кружевной тенью, оптическим обманом, теперь окончательно разоблаченным.
– Нельзя ли поближе к химии? – окончательно сформулировал свое возражение Игорь Леонидович.
– Да ведь нет существенной разницы…
– Извиняюсь. Не понял. Тогда что же такое, по-вашему, вся эта система?..
Конь так и плясал, так и рвался от нетерпения, но заместитель директора института Владимир Васильевич, как и подобает опытному наезднику, не отпускал до поры до времени узды, уже не в силах, впрочем, скрыть собственной радости.
– Товарищи, – обратился он к присутствующим, открыто улыбнувшись на этот раз Нине Павловне. – Мы с вами работаем, – отнес он подальше от глаз недавно подаренные ему побывавшими в институте японскими делегатами черные электронные, со множеством чудесных секретов, часы на левом запястье. – Так… Работаем мы без малого два часа. Какие будут предложения?
– Перерыв!.. Перекур!.. – раздалось с разных сторон.
– Нина Павловна! – ласково и в то же время настойчиво звал Виген Германович Кирикиас. – Нина Павловна!
Когда же Нина Павловна заметила наконец его чуть припухшую, поднятую над головами и обращенную к ней ладонь, Виген Германович приветливо сказал:
– Вы бы зашли к нам в отдел, Нина Павловна. Мы вам популярно объясним, что такое дискретный перевод.
3. ЧТО ТАКОЕ ДИСКРЕТНЫЙ ПЕРЕВОД
Закончив выступление, Андрей Аркадьевич послал записку Вигену Германовичу. Тот, прочитав ее, склонился к Владимиру Васильевичу и что-то зашептал, пока другие, воспользовавшись паузой, шумели, ратуя за перерыв. Заседание, однако, решено было продолжить. Постукивание карандаша председателя по столу восстановило порядок.
– Товарищ Сумм вынужден срочно уехать. У него билет на самолет. Отпустим его?
– Отпустим, – один за всех ответил Виген Германович.
Андрей Аркадьевич поклонился и вышел, а председательствующий предоставил слово последнему докладчику, Ивану Федоровичу Тютчину, человеку и специалисту в определенном смысле не менее известному, чем предыдущие ораторы.
В прошлом корифей в арахнологии, науке о пауках, которую нередко почему-то путают с анерологией и археологией, Иван Федорович уже в зрелые годы увлекся теорией перевода, подготовил к печати книгу «Стиль языка – личность автора» и наконец волею обстоятельств оказался в Институте химии. Новая страсть, однако, не ослепила Ивана Федоровича. Он любил повторять, что перевод с одного языка на другой подобен гобелену с изнанки: хотя узор и фактура видны, обилие нитей делает их менее явственными, и нет той четкости, тех красок, которыми мы можем любоваться на лицевой стороне. «Переводчики – это предатели», – говаривал он, иногда возражая Борису Сидоровичу, иногда целиком соглашаясь с ним. Требование «точности», однако, он обычно заменял необходимостью «адекватности», а запальчивые выступления Андрея Аркадьевича о преимуществах вольного перевода старался гасить сентенциями об ограничениях морального порядка, обусловленных сомнительным правом на эту вольность.
По своей комплекции, возрасту и даже месту за столом Президиума Иван Федорович занимал промежуточное положение между массивным Борисом Сидоровичем Княгининым, проспавшим все его выступление, и преждевременно покинувшим заседание худощавым Андреем Аркадьевичем. Промежуточным, как уже говорилось, было и отношение Ивана Федоровича к обсуждаемой машинной идеологии, что выразилось, с одной стороны, в определении им перевода как «смерти понимания», с другой – в цитировании известного высказывания Квинтилиана: «Легче сделать больше, нежели то же», против чего, хотя внутренне и не совсем согласившись, никто из присутствующих, включая Нину Павловну и начальника отдела Сироту, как-то не осмелился возразить.
Несмотря на отвлеченный характер выступлений, в течение всего заседания хозяин кабинета Владимир Васильевич Крупнов испытывал истинную радость и гордость садовника, вдыхающего аромат взращенного им сада. «Как вырос уровень, – думал он. – Какой славный путь прошли мы за последние двадцать лет». Из всего сказанного за этим столом, не исключая даже непонятных слов и неясных выражений, смысл которых несколько прояснил, правда, товарищ Кирикиас в обобщающем выступлении, Владимир Васильевич после тщательного умозрительного анализа сделал для себя следующие выводы. Во-первых, отдел информации не намерен пока выделяться в самостоятельный институт. Во-вторых, необходимо срочно пополнить кадровый состав отдела молодыми специалистами химиками, чтобы надежнее связать его с общей проблематикой института и нацелить на решение наиболее важных в практическом отношении химико-технологических задач.
Как научный руководитель института Владимир Васильевич все же ощущал некую неудовлетворенность, причина которой крылась в оставшемся без ответа вопросе Нины Павловны, своевременно подхваченном Сиротой. Вот уже несколько лет отдел вел работы, связанные с так называемым дискретным переводом. Купили дорогое оборудование, с каждым годом увеличивали объем финансирования. Газеты писали о новой Лунинской системе переводов, и некоторые вполне авторитетные товарищи, включая того же Сироту, благожелательно отзывались о ней. Но что собой представляла эта система, Владимир Васильевич, к сожалению, знал очень приблизительно. В свое время было недосуг переговорить с Вигеном Германовичем, а теперь, когда дело зашло слишком далеко, было неловко спрашивать.
Вопрос Нины Павловны «что такое дискретный перевод?» прозвучал как нельзя кстати, и в конце заседания Владимир Васильевич шутливым тоном, как бы желая взбодрить уставших товарищей, попросил Вигена Германовича ответить на него. Мол, нельзя же оставлять без внимания даже такие, пусть совсем простые, даже наивные, хорошо понятные нам с тобой вопросы общественности. Лицо его при этом энергично задвигалось, мускулы запрыгали, а сияющие, устремленные на всех и ни на кого в отдельности глаза снова приобрели лукавое выражение, из коего невозможно было понять, над кем, собственно, он посмеивается – над Ниной Павловной или над начальником отдела информации товарищем Кирикиасом.
Виген Германович поднялся со своего стула, нервно дернул плечом, откашлялся в кулак.
– Представим себе сплошной, с каждым годом увеличивающийся поток научно-технической информации, – начал он, осторожно вытянув перед собой руку и медленно отводя ее в сторону. – Журналы, книги, брошюры, рекламные проспекты, патенты… – Тут поднялась и другая рука, обозначив ширину потока. – Отсеем информацию, не относящуюся непосредственно к тематике нашего института. – Виген Германович сблизил ладони. – Как извлечь из оставшейся наиболее ценное, достойное изучения?
После такого вступления Виген Германович рассказал о забавном случае, с которого, пожалуй, все и началось. В один из переводов вкралась ошибка: машинистка впечатала кусок из другой статьи. Контрольный редактор не заметил и подписал. Потом явился возмущенный заказчик. Машинистку лишили квартальной премии, контрольному редактору поставили на вид, и пока выясняли, кто виноват в случившемся, писали докладные записки, люди смеялись над абракадаброй, передавали друг другу текст, вклеивали еще более нелепые абзацы и строчки. Тем бы и кончилось, если бы кого-то не осенила совершенно неожиданная светлая научная идея, непосредственно связанная с темой злополучной статьи. Жалобщики явились в отдел информации извиняться и благодарить, машинистку выдвинули на Доску почета, контрольного редактора премировали, в отдел приняли специалистов высокой квалификации и поставили дело на широкую ногу.
– Чужеродные элементы, специально вводимые теперь в текст, – продолжал своим тихим голосом Виген Германович, – назвали «интерапторами», сам же перевод получил название «дискретного».
Удовлетворив таким образом любопытство Нины Павловны, Виген Германович заверил собравшихся, что с освоением новой электронно-вычислительной техники отдел сможет полностью реализовать открывшиеся перед ним возможности, резко повысить производительность труда и за два месяца, если понадобится, осуществить дискретный перевод всей годовой книжной продукции, а за два квартала – содержимого Национальной парижской библиотеки.
Владимир Васильевич слушал с напряженным вниманием. Его взгляд, давно уже обеспокоенный чем-то, упирался то в стену, то в потолок, устремлялся в окно, где серебрилась под солнцем листва. Но ничего этого он, впрочем, не видел – ни стен, ни потолка, ни листьев. Весь обратившись в слух, Владимир Васильевич в малейших изменениях интонации, в сдержанных жестах Вигена Германовича пытался уловить главное.
Упоминание о парижской библиотеке сразу не понравилось ему. Кажется, ничего особенного – пример как пример. Однако многолетний опыт руководящей работы подсказывал: библиотека выплыла неспроста. Настроение у Владимира Васильевича резко переменилось, точно цвет индикаторной бумажки, опущенной в кислую среду, и это означало не просто негативную реакцию заместителя директора, но нечто куда более существенное. «Хочет все-таки отделиться», – с глухой неприязнью подумал он.
Тем временем заседание близилось к концу. Зачитали проект решения, подготовленный Вигеном Германовичем. Голосовать не стали, утвердили единогласно, предложив поработать надлитературным стилем и уточнить некоторые формулировки.
– Иван Федорович! – задержал Владимир Васильевич уже направившегося к дверям Тютчина. – Будь добр. Самсону Григорьевичу Белотелову исполняется пятьдесят лет. Напиши адрес.
– Да я почти и не знаком с Самсоном Григорьевичем…
– Ты у нас мастер слова.
– Простите, но адрес… Я, право, не умею…
– Сделаем, Владимир Васильевич, не беспокойтесь, – прервал беспомощный лепет сотрудника вовремя подоспевший начальник отдела.
– Спасибо, Виген Германович.
– Ну что вы, это наша прямая обязанность.
Направляясь к выходу, Виген Германович Кирикиас ободряюще положил мягкую свою ладонь на плечо седовласого Ивана Федоровича: эка, мол, невидаль – адрес…
– А за тобой, Игорь Леонидович, одна единица для отдела информации, – обратился заместитель директора к Сироте. – Подыщи молодого, способного, знающего язык.
У самых дверей замдиректорского кабинета Игоря Леонидовича перехватил Ласточка.
– Вы к себе?
– Чуть позже.
– Тогда подпишите, пожалуйста.
Игорь Леонидович приложил заявку на перевод к пупырчатой стене, расписался коряво и бледно. Ручка в таком положении отказывалась функционировать нормально.
– Да, вот что, – возвращая Ласточке подписанный бланк, как бы между прочим вспомнил начальник отдела. – Пусть Таганков зайдет ко мне. Скажи ему. Ровно в четыре.
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОДРОБНОСТИ
В этот день, 2 июля, над Лунином собиралась гроза. С севера надвинулась огромная туча, но что-то мешало ей подойти ближе. Точно Илья-пророк, прогуливаясь со своим свирепым псом, встретил знакомого небожителя, они разговорились, а глупое животное, изнывая от безделья, то отпускало, то натягивало тяжелую цепь, пытаясь увлечь за собою хозяина. Цепь гремела, и, если судить по масштабам земного времени, продолжалось это не менее часа. Примерно столько же времени люди, собираясь на работу, мучились сомнениями: брать или не брать зонт, надевать или не надевать плащ. С одной стороны – туча, с другой – авторитетные заверения синоптиков, что осадков не ожидается.
Когда первый раз громыхнуло, Валерий Николаевич Ласточка уже заканчивал свой завтрак, состоявший, как обычно, из яйца всмятку, куска черного хлеба и чашки чая без сахара. Его молодая заботливая жена, мать их шестилетнего сына и трехлетней дочери, подсунула ему еще бутерброд с сыром, но Валерий Николаевич сделал вид, что не заметил, сосредоточился на чае и заторопился, поглядывая на часы:
– Уже половина.
– Твои спешат. Ешь спокойно.
– Больше не хочу.
– Так ведь ноги протянешь.
– Я себя прекрасно чувствую.
– Объясни, что такое яйцо для взрослого мужчины…
– Вполне достаточно.
– Это ненормально, Валера, – с укором произнесла она. – Дома ничего не ешь. Днем-то хоть обедаешь? Щупленький стал, будто ребенок. Травишься там у себя. Поди покажись врачу.
– Я совершенно здоров, – несколько натянуто улыбнулся Валерий Николаевич, поднимаясь из-за стола.
– Вас как кормят?
– В столовых, дорогая моя, почти всегда кормят плохо, и это хорошо: лишнего не съешь. Много есть вредно.
– Ладно, – безнадежно вздохнула жена, – иди.
Она поправила выбившийся из-под пиджака расстегнутый воротничок рубашки, один конец которого, как и непослушный хохолок на голове, постоянно торчал вверх. Попыталась пригладить волосы: разумеется, безуспешно. Несмотря на значительную разницу в возрасте – ей недавно исполнилось двадцать семь, – она испытывала к мужу теперь уже в основном материнские чувства.
– Опять допоздна?
– Как получится. Мы сейчас остались втроем. Просторно, тихо, никакой суеты. Работать одно удовольствие.
Она же с тревогой вглядывалась в его осунувшееся лицо.
– Ты выглядишь плохо.
– Честное слово, напрасно беспокоишься.
– Раньше, по крайней мере, ел нормально.
– Годы, – печально пошутил Валерий Николаевич. – После сорока потребности сокращаются.
Она слушала с недоверием.
– Ну пока!
– А зонт? – донеслось вслед. – Возьми зонт, Валера. Дождь будет.
– Никакого дождя не будет, – решительно возразил Валерий Николаевич.
Лес подступал к самому лабораторному корпусу. Утреннее солнце, которое так и не сумела закрыть туча, светило по-летнему ярко. Трава между деревьями казалась мягкой и нежной, а в тенистых местах – сочной, густой и прохладной. По пути на работу Валерий Николаевич наслаждался природой, тонким дрожанием мошкары, волшебным перетеканием пятен света, одуряющим запахом ожидающих грозу сосен. В такие минуты хотелось верить и надеяться, что все горести его поначалу не слишком удачно сложившейся жизни навсегда остались позади.
Двенадцатиэтажный панельный дом другого научного сотрудника степановской лаборатории, Гурия Михайловича Каледина, находился в северо-западной части Лунина и стоял на пустом, ровном, хотя и несколько возвышенном месте.
Ежедневно, кроме выходных, будильник исправно будил Гурия Михайловича, терпеливо сносил удар его крепкой ладони по кнопке звонка, после чего смиренно продолжал отстукивать время. При любых обстоятельствах он готов был служить на совесть своему вечно грубому, злому, несправедливому хозяину.
Вот и теперь с именем черта, сорвавшимся с пересохших губ, Гурий Михайлович открыл глаза, нащупал босыми ногами тапочки, в одних трусах поднялся во весь свой внушительный рост и пошел слоняться из угла в угол, как бы затем только, чтобы окончательно проснуться и вспомнить, почему вдруг оказался здесь, в холостяцкой однокомнатной квартире с унылым видом на лабораторный корпус из окна.
Когда-то он имел несчастье полюбить и жениться, но три года назад обрел свободу вместе с твердой уверенностью в том, что жизнь кое-чему его научила. Уж таким ангелом казалась поначалу женщина, которую он любил. Теперь же все, что принято называть хорошим воспитанием, человеческим обаянием, женской привлекательностью, действовало на него как красное на быка. Разочаровавшись в самом дорогом, Гурий Михайлович почувствовал вдруг неожиданное облегчение. Одиночество было лучше, чем непонимание, постоянные нервотрепки, хитрость, неверность, корысть, обман.
Нежелание проявлять гибкость в отношениях с людьми снискало ему репутацию человека трудного и неуживчивого. После окончания института с отличием он пришел работать в институт одновременно с Триэсом и с тех пор прозябал в должности младшего научного сотрудника. Нет, не умел он заискивать, клонить голову перед начальством. Да и не хотел. Всегда резал правду в глаза. И кого только не повысили за это время!.. Гурий не сомневался, однако, что его час наступит. Знал истинную цену физическим своим возможностям и научным. В честном открытом бою свалит любого. Кажется, в институте уже поняли, что он сделан из прочного материала. Ведь и Триэс жал на него, и Ласточка уговаривал, а сделать ничего не смогли. Так что кротонами в конце концов пришлось заниматься Аскольду. Тоже влип ни за что бедняга…
Гурий включил радиоприемник, достал из холодильника и шваркнул на раскаленную сковородку увесистую отбивную. Капли горячего масла брызнули во все стороны. Он едва успел отскочить. Пока жарилось мясо и грелся чайник, Гурий достал хлеб, поставил на стол единственную имевшуюся в доме большую тарелку, умылся, оделся, убрал постель и вернулся на кухню с таким агрессивным видом, будто кто-то был виноват в том, что завтрак еще не готов.
Только после сытной еды Гурий Михайлович несколько подобрел. Прежде чем отправиться на работу, он со снисходительной усмешкой выслушал заверения проникновенного женского голоса по радио, обещавшего на сегодня теплую, ясную погоду без осадков, и демонстративно бросил складной зонтик в бездонный поношенный свой портфель, где без труда умещались и недельный запас продовольствия, и дюжина бутылок пива, и маленькая библиотека – едва ли не все сведения по органической химии, накопленные любознательным человечеством за долгую историю.
О третьем же сотруднике лаборатории, Аскольде Таганкове, можно сказать и того меньше. По окончании Московского университета он добровольно поехал работать в Институт химии к черту на кулички, что удивило многих, поскольку его, единственного выпускника, оставляли в университетской аспирантуре. Было ли это романтическим порывом души или осознанным желанием немедля заняться большой наукой, так и осталось загадкой для окружающих. Еще студентом Аскольд испытал страсть прирожденного исследователя, но решительность его первого шага свел на нет весь ход последующих событий. Как и многих других выпускников, Аскольда ожидал сокрушительный крах студенческих иллюзий, учрежденческая рутина, многолетний застой. Тем не менее он не утратил способности думать, и случалось, былая страсть вспыхивала в нем как рецидив старой болезни. В такие часы и минуты им овладевали какие-то бредовые, полуфантастические идеи смелых химических превращений, которыми просто не с кем было даже только поделиться, ибо шеф, к сожалению, был постоянно слишком занят, чтобы вникать в эти проблемы по существу, а каждый из остальных научных сотрудников слишком поглощен собственными заботами, чтобы разделить беспочвенный энтузиазм молодого коллеги.
В то утро Аскольд, как и Гурий Каледин, не проспал положенного часа, но, в отличие от Гурия, проснулся без будильника, позавтракал не плотно и не легко, то есть как обычно, снял с вешалки привезенный еще из Москвы плащ «болонью», чтобы взять с собой, однако в последнюю минуту что-то отвлекло его – и в результате он ушел из дома с пустыми руками, о чем мог нисколько не сожалеть, ибо плащ ему и в самом деле совсем не понадобился.
Что следует отметить особо, так это отрадный во всех отношениях факт своевременной явки на работу 2 июля всех сотрудников лаборатории, несмотря на временное отсутствие ее заведующего. Даже обычно опаздывающие лаборантки не опоздали, поскольку их в этот день просто не было.
В половине десятого раздался звонок из дирекции. Ласточка ответил, что Сергей Сергеевич в командировке. Последовало то ли удивленное, то ли возмущенное:
– Как же так?!
– Вчера улетел.
В трубке коротко запиликало.
Затем Валерий Николаевич отправился подписать заявку на перевод, но начальника отдела не оказалось на месте. Поймал он его лишь после обеда возле кабинета заместителя директора, где только что окончилось расширенное заседание Президиума научно-технического совета. Игорь Леонидович тут же, в коридоре, поставил свою неразборчивую подпись на бланке и велел прислать к нему Таганкова.
Валерий Николаевич сразу насторожился. Вздрогнул хохолок на макушке. Если у Сироты возник какой-то вопрос к сотруднику их лаборатории по служебной необходимости, то говорить прежде всего следовало с ним, Ласточкой, на время отсутствия Сергея Сергеевича исполняющим обязанности заведующего. Однако просьбу начальства он Аскольду, естественно, передал.
Не позднее половины шестого Таганков вернулся от Игоря Леонидовича. В семнадцать сорок или около того (Валерий Николаевич не догадался взглянуть на часы) отключили вытяжную вентиляцию. Минуту спустя в наступившей тишине что-то хрустнуло и зазвенело.
– Надоело! К черту! – послышался какой-то придушенный голос Аскольда.
– Что случилось? – спросил Валерий Николаевич.
– Невозможно работать.
– Тягу сейчас включат.
– То кротоны проклятые, – точно в бреду забормотал Аскольд, – а теперь еще это…
Дрожащими руками он расстегнул на груди траченный кислотой халат, весь в желтых пятнах химикалий, и принялся выдергивать руки из рукавов, неловко выворачивая локти. Движения его были замедленны и несогласованны. Пошатываясь, подошел к умывальнику, вымыл руки, и, пока вытирал их, комкая мятое вафельное полотенце, его исполненный нечеловеческой тоски взгляд был устремлен в окно, возле которого уже порхали и кружились неутомимые белокрылые бабочки.
ГЛАВА IV
ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Открыв глаза, Триэс с недоумением огляделся. Он сидел почему-то в глубоком, мягком, обтянутом искусственной кожей кресле в чрезвычайно неудобной позе. Тело затекло, холодные мурашки сбегали по плечам и спине, шея болела. Прямо напротив, в нескольких шагах, тянулась стойка. Чуть правее таблички с надписью «Администратор», укрепленной на тонкой хромированной подставке, возвышалось нечто непонятное – то ли крупное осиное гнездо, то ли небольшой муравейник. В одной из дальних ниш обширного холла бойкие молодые люди в темных костюмах и при галстуках прилаживали узкий длинный плакат «Привет участникам конференции!»








