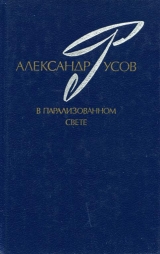
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц)
– Давайте вернемся, – попросила Инна.
– Забирайте трофеи.
– Они так пахнут…
– Ладно. Оставьте. Люди доцента заберут.
Как раз в это время, не успели они уйти, на поляну выбежала низкорослая лошадка и остановилась, чутко поводя ушами. Никто из мужчин даже прореагировать не успел на то, что произошло дальше. Инна скинула с плеча «манлихер», пропустила руку через ремень и выпустила в растерявшееся животное целую обойму. Не сводя зачарованного взгляда с лошадки, которая замерла в испуге, она сменила обойму и вновь отвела затвор.
– Это же пони. Пони-пони… – словно бы подзывала, приманивала она к себе лошадку.
– Эогиппиус, – прокомментировал всезнающий Андрей Аркадьевич и легко дотронулся до Инниного плеча, пытаясь ее успокоить. – Это эогиппиус.
Она бессильно опустила ружье, вдруг бросилась ему на грудь и разрыдалась. Лошадка же, взбрыкнув, бросилась наутек.
Возле крыльца Дома почетных гостей их поджидал победоносно улыбающийся доцент Казбулатов.
– Как отдохнули, товарищи? – бодрым голосом интересовался он.
Помощники складывали во дворе сети, сматывали веревки с флажками, приводили в порядок прочий охотничий инвентарь.
На первом этаже был накрыт стол, за которым они просидели до поздней ночи, после чего шумно бродили по дому, путая номера и названия комнат.
Ночью Триэсу снилась охота, а утром их повезли к подножью Эльбруса. Сергей Сергеевич всю дорогу дремал, тогда как Андрей Аркадьевич неотрывно глядел в окно.
Импровизированный базар работал прямо на пятачке, рядом с шашлычной и первой очередью канатной дороги. Инне удалось там купить с рук замечательный пушистый шерстяной свитер для дочери.
День был сумбурный, погода непрестанно менялась, мелкие туристические события, точно матрешки, вкладывались одно в другое, и сколько Триэс потом ни вспоминал, он не мог вспомнить, удалось ли ему в конце концов своими глазами увидеть двуглавый Эльбрус – гору счастья.
ГЛАВА XIII
ГЛАЗАМИ ЛИНГВИСТА
Пятого июля, как и во всякий другой день зарплаты, посещаемость Института химии его сотрудниками достигла максимума. Тот, кому предстояла поездка в другую организацию, откладывал ее на следующий день, у кого командировка заканчивалась шестого или даже седьмого числа, старался вернуться раньше. Явочным порядком отменялись любые отлучки, находились поводы для отсрочек, и все так или иначе прилаживали свое расписание к дню платежа, как приспосабливает самолет скорость и высоту полета к намеченному времени приземления в назначенном пункте. Людьми двигала, пожалуй, не столько нужда, сколько атавистическая потребность в своего рода дне урожая, празднике самых разных профессий, сословий и званий. Кто освящал его дружеским застольем в кругу семьи, кто веселился в одиночку. В этот день ученый люд Лунина словно бы и работал с большим подъемом. Даже тех, кто легко и беспечно относился к заработанным деньгам, праздник неумолимо вовлекал в свой ликующий водоворот. Хотя вся условность такого праздника была очевидна, а у кого-то он был связан еще и с дополнительными заботами, хлопотами, неприятностями, пятого и двадцатого числа ежемесячно лунинцы, не сговариваясь, нацепляли яркие банты, вывешивали разноцветные флаги на фасадах лабораторных, административных, вспомогательных корпусов и складских помещений, а также укрепляли плакаты и лозунги в коридорах, на лестницах, в столовой и на аллеях парка.
Таким образом, два малых ежемесячных праздника являлись чем-то вроде постоянных рабочих репетиций тех больших торжеств, к которым время от времени готовился Институт химии. День рождения заведующего отделением Самсона Григорьевича Белотелова и юбилей самого Института были ближайшими из них. Если возраст заведующего отделением – то есть руководителя группы крупных отделов – не вызывал сомнений (ему исполнялось пятьдесят), то вопрос о возрасте Института, который можно было исчислять по-разному: и от момента завершения строительства, и по времени начала основополагающих научных работ – был не столь прост и очевиден. Чтобы избежать ненужных споров, решили грядущее торжество именовать в такой же мере емким, в каком и неопределенным словом «юбилей», без лишних уточнений, и назначили его на зиму. А вот день рождения Самсона Григорьевича приходился на отпускное летнее время, разумеется, не лучшее для торжеств.
Тем не менее было сделано все возможное, чтобы исправить оплошность природы. Заблаговременно разослали уведомляющие письма, заместитель директора по науке лично назначил сотрудника отдела информации Ивана Федоровича Тютчина ответственным за поздравительный адрес, тогда как другим отделам и сотрудникам поручили организовать торжественную и подготовить художественную часть, а также приобрести цветы и памятные подарки.
Тут, к сожалению, придется перейти с мажора на минор, ибо как раз утром пятого июля, в день зарплаты, ответственный за поздравительный адрес Иван Федорович Тютчин пребывал в самом плачевном состоянии, обложенный истрепанными, полуистлевшими копиями поздравлений, написанных по случаю всевозможных юбилеев, а также многочисленными архивными материалами из личного дела Самсона Григорьевича Белотелова. Времени оставалось в обрез. Адрес еще предстояло отредактировать, согласовать, отпечатать типографским способом, передать художникам для украшения маргинальными знаками, собрать подписи сослуживцев, но пока не был готов даже черновой вариант. Причем главная трудность заключалась в нахождении нужных слов, в отыскании верной интонации.
Приступая к переводам произведений древнеримских или ассиро-вавилонских авторов, к дискретным переводам или собственным исследованиям и эссе – независимо, в общем-то, от того, касались они пауков или литературы, – Иван Федорович долго вынашивал в себе звук, подбирал ключ и только потом уже приступал к кропотливой работе над текстом. Чем ближе удавалось подойти к изначально взволновавшему образу, тем успешнее шла работа. В написании же поздравительных адресов он, увы, никакого опыта не имел, да и с юбиляром был знаком, что называется, шапочно.
Из раскиданных по столу бумаг Иван Федорович уяснил, что Самсон Григорьевич начинал свой трудовой путь простым маляром в провинциальном драматическом театре, потом работал парикмахером, продавцом, окончил Заочный индустриальный техникум, затем – тоже заочно – институт. Некоторое время успешно работал в отделе мехов областного управления торговли, пока не перешел на более спокойную работу в Институт химии. Начав рядовым инженером, он очень скоро вырос до заведующего отделом, после чего продолжал свою деловую карьеру уже как руководитель крупнейшего в институте отделения.
Чтобы согреть поэтическим чувством эти скупые прозаические сведения, Иван Федорович старался, что называется, эмоционально освоить их, вызывал в памяти образы, навевающие мысли о театре, почти реально ощущал соблазнительно-чувственное прикосновение меха, представлял во всех подробностях замечательный кабинет Самсона Григорьевича в недавно отреставрированном строении прошлого века с лепниной на потолке и старинными гобеленами на стенах, пытаясь присовокупить ко всему этому некий величественный собирательный образ науки, которой Самсон Григорьевич теперь руководил, по общему мнению, весьма успешно.
Однако как ни старался Иван Федорович перевоплотиться, проникнуться любовью и уважением к Самсону Григорьевичу, ему не удавалось продвинуться ни на шаг. Куда только делись прежняя хватка, исключительная способность погрузиться в суть предмета, стремительно войти в образ! А ведь он умел, если того требовала изнурительная работа переводчика, не только восторгаться добродетелью, но и сострадать тирану и даже мысленно глумиться над жертвой. К Самсону Григорьевичу же Иван Федорович не испытывал ровно никаких чувств – ни дурных, ни возвышенных. Должно быть, он просто отстал от стремительно бегущего вперед времени, на ходу меняющего свои идеалы.
Люди творческих профессий стареют мучительно. Лезут из кожи вон, чтобы доказать себе и окружающим, что они еще о-го-го! – полны сил и самых дерзновенных замыслов. Но Иван Федорович, как ни лез из кожи, ни себе, ни окружающим ничего доказать не мог. Потеряв массу времени впустую, он просто взял ручку и склонился над чистым листом бумаги, надеясь, что аппетит придет с едой. Вспомнилось почему-то: «Insequitur clamorque virum stridorque rudentum»[4]. Тогда, превозмогая себя, он начал писать:
«Дорогой и глубокоуважаемый Самсон Григорьевич!
Коллектив Института химии горячо поздравляет Вас…»
Как и следовало ожидать, звук, который не столько поймал, сколько вымучил Иван Федорович, получился в высшей степени глупым, фальшивым, пустым.
«В день Вашего славного пятидесятилетия разрешите пожелать Вам, дорогой Самсон Григорьевич, крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов…»
Неясный образ, который тщетно, но настойчиво, уже по инерции, вызывал в своем воображении автор поздравительного адреса, как-то незаметно превратился в странную картину, изображавшую цирюльника в панталонах с причудливым гульфиком и в мешковатом жилете, красящего толстой кистью белую овцу. «Этот проклятый некролог меня доконает!» – в сердцах воскликнул Иван Федорович, продолжая писать:
«Мы знаем Вас как крупного ученого, специалиста в области…»
Поскольку требовалось уточнить, в какой именно области является крупным ученым Самсон Григорьевич Белотелов, произошла некоторая заминка. Когда же нужное определение было найдено, оно вдруг спонтанно распалось на тысячу осколков, будто невидимая мельница перемолола в пыль даже буквы, из которых оно состояло, готовя материал для новых творений. «Ieder moet met zijn eigen zaak naar den molen, – звучало в возбужденном мозгу Ивана Федоровича. – Wie het eerst komt, het eerst maalt». И вот, опять-таки совершенно неожиданно, вспомнилось, что это за мельница, откуда взялась: «Колесо Фортуны проворнее мельничного, и кто вчера был высоко, нынче лежит во прахе. O Deus, o quare subito Fortuna rotatu cuncta molendinat mobiliore rota!»[5]
– Борис Сидорович, откуда это: «Die Mül die malt das Mel so klar»?
– Из «Мельничной песни», я полагаю, – отвечал сидящий за соседним столом Борис Сидорович своим низким, хриплым с влажными переливами голосом.
Нехотя обернувшись к Ивану Федоровичу, старый обрюзгший лев вслепую, ладонью, среди завала папок и бумаг нащупал позади себя пачку «Казбека».
– Речь, верно, идет о мельнице или о жертве колесования…
Он достал из кармана мятого клетчатого пиджака кусок ваты, весь в табачной крошке, заскорузлым пальцем отщипнул клок.
– Муко́й, в зависимости от контекста… Кха! Кха! Кха!.. могут быть дождь, снег… Ух!.. Кха! Кха!.. Млечный, или Мельничный, Путь – Mühlenweg… Кха!.. Надежда… Просвещенность… Любовь… Хм… А также человек… Даже скорее всего человек… Человек… Кха!.. омывший кровью круг земной и укрепивший круг небесный…
– Товарищи, в чем дело? – раздался взволнованный голос Никодима Агрикалчевича. – Что еще за «небесный круг»? Зачем? Я ведь просил не засорять программу.
– Это не для машины, – равнодушно взглянув в его сторону, ответил Иван Федорович. – Мы обсуждаем текст приветственного адреса Самсону Григорьевичу…
Борис Сидорович Княгинин не стал ввязываться в перебранку. Он только крякнул, поднявшись со стула, и вышел из комнаты, неторопливо заталкивая на ходу вату в бумажный мундштук папиросы. Увидев же на лестничной площадке нового сотрудника отдела, временно посаженного за стол Андрея Аркадьевича Сумма, подошел к нему, привычно скосив в сторону настороженный взгляд.
– Ну-с, молодой человек…
Старый интеллигент всегда очень чутко и болезненно улавливал малейшие признаки неуважения, даже затылком ощущая взгляды, означавшие, что ему, старику, давно пора на кладбище, сиречь на заслуженный отдых. Но лицо молодого человека не выражало ничего, кроме смущения и робости. В живых подвижных зрачках неофита Борис Сидорович, как в зеркале, уловил собственное отражение – величественный портрет корифея отечественной лингвистики, во всех отношениях прекрасно выполненный.
«Наверно, лекции мои посещал», – не без горделивого удовольствия подумал Борис Сидорович, поджигая папироску от вежливо поднесенной спички и захлебываясь дымом.
– Новый переводчик? – безлично обратился он к молодому человеку.
– Я химик.
– Хм! А зовут как?
– Аскольд.
И отчества не назвал. Что ж, неплохо. Неплохо…
– Борис Сидорович. Кха!
– Очень приятно.
– Что же вас занесло в наши края?
– Да разные обстоятельства…
– Химия не по душе?
– Ну что вы!
– Чтобы химик не нашел работу по специальности… Странно… Это нам, филологам…
– Нам, знаете, тоже, – признался Аскольд.
– Что же получается? Перепроизводство специалистов?
– Где-то перепроизводство. Где-то недопроизводство…
– Хм!
Борис Сидорович уронил пепел. Мимо них по направлению к кабинету Вигена Германовича Кирикиаса стремительно просеменил Никодим Агрикалчевич.
– Вызывали, Виген Германович?
– Вызывал, Никодим Агрикалчевич. Проходи, садись…
Вопрос, решением которого в данный момент занимался Виген Германович, сводился к отправке двух человек из отдела информации на строительные работы. В связи с предстоящим юбилеем ускоренными темпами завершалось строительство нового институтского корпуса, и если раньше отдел информации отрабатывал на стройке всего тридцать человеко-дней в году, то теперь два человека должны были постоянно работать до самой зимы. И вдобавок отдел кадров требовал направить еще одного сотрудника для работы в колхозе.
– Может, Оводенко? – предложил Виген Германович, предварительно введя Никодима Агрикалчевича в курс дела.
– Оводенко на шахматных соревнованиях.
– Когда он только работает?
– Через неделю вернется.
– Вот и пошлем.
– У него по графику отпуск.
– Пошли Орленко.
– Орленко нельзя, Виген Германович…
– Ах, да, помню, ты просил за него.
– Давайте новенького.
– Его я уже считал. Новенький, Непышневский… Кто третий?
Знал ли Борис Сидорович, гася папироску о край урны, какой цепью утрат и печалей обернется этот перекур? Когда Никодим Агрикалчевич во всеуслышанье объявил, что Аскольду предстоит в понедельник утром отправиться в подшефный колхоз на полевые работы, Борис Сидорович запротестовал.
– Ну почему обязательно он? Только что приняли человека на работу. Даже освоиться не успел.
– Не хотите ли вместо него? – язвительно осведомился Никодим Агрикалчевич.
– Да вы совсем обалдели, мой милый…
– Я вам не милый! В общем, так. Автобус отходит в девять. Сбор на площади Семи дорог, – отрывисто, по-военному, не терпящим возражений тоном объявил Никодим Агрикалчевич. – С собой иметь…
– Ясно…
У Аскольда был такой обреченный вид, будто он уже смирился с тем, что жизнь его катится под откос. Умом он, конечно, понимал, что работники села нуждаются в помощи, что здоровый физический труд на свежем воздухе должен восприниматься как награда и компенсация за вредные условия труда в химической лаборатории, но все, происходящее в ним вкупе, все, чем заманила и обманула судьба, воспринималось теперь как злая насмешка.
– А завтра, – подлил масла в огонь контрольный редактор, – поедете в Лютамшоры, подпишете заказ-наряды.
– Какие еще заказ-наряды?
– Обыкновенные.
– Простите, но я не знаю, что это такое.
– Знать незачем. Привезете, подпишете, увезете.
– В качестве курьера?
– Здесь нет курьеров, – отрезал Никодим Агрикалчевич. – У нас все занимаются всем.
– Стало быть, ничем, – тихо, совсем как затравленный, забившийся в угол щенок, огрызнулся Таганков.
Алексею Коллегову ни колхоз, ни стройка пока не угрожали: на руках десятилетняя дочь, жена в отъезде. Никодим Агрикалчевич уже подходил, соблазнял хорошей погодой.
– Все равно ведь придется, Алеша. Не сейчас, так позже…
Однако Алексей совсем не был в этом уверен. Кто бы мог поручиться, что и завтра колхозу потребуется помощь шефов, а послезавтра снова не приостановят строительство нового корпуса? Практика жизни учила не высовываться и откладывать на неопределенный срок то, чего можно не делать сегодня. Со временем же многое рассасывалось само собой, одни проблемы превращались в другие и почти всякая срочность оборачивалась необязательностью.
Аскольд был просто слишком наивен и неопытен – потому и не сумел найти достаточно убедительную отговорку. Словно злой рок витал над ним. То одно, то другое. Он становился хроническим неудачником.
«Таким образом, реакции поликонденсации, в особенности весной…» – бормотал тем временем за столом напротив Иван Федорович, отыскивая среди бумаг наиболее яркие и доходчивые примеры для характеристики научной деятельности Самсона Григорьевича, – «в особенности весной… позволяют осуществлять процесс…»
«Почему весной?» – с недоумением спросил он себя, поправил очки на переносице, поднес листок ближе к стеклам и только тогда понял, что перед тем часть текста, случайно подсунутого под другие бумаги, была просто не видна.
«Реакции поликонденсации, – снова, но уже с большей уверенностью, прочитал, выразительно шевеля губами, Иван Федорович, – в особенности неравноВЕСНОЙ, позволяют осуществлять процесс…»
– Иван Федорович, зайдите, – прозвучало из пластмассовой коробки селектора.
«Н-е-р-а-в-н-о… Семь букв», – зачем-то подсчитал Иван Федорович, словно был заядлым любителем кроссвордов.
– Иду, иду, – ответил он, хотя пластмассовая коробка находилась слишком далеко, чтобы Виген Германович мог его услышать.
«Семь букв, – повторял он про себя всю дорогу. – Всего семь букв – и никакой весны!»
– Что с адресом Самсону Григорьевичу? – встретил его начальник отдела.
– Пишу…
– Очень уж ты затянул, Иван Федорович. Вопрос такой простой, ясный, дел и без того много. Будем новую тему открывать: «Разработка корреляционной подсистемы согласованных взаимодействий». Ей сейчас придают первостепенное значение в главке и министерстве.
Иван Федорович обратил внимание, что во внешности Вигена Германовича произошли изменения. Он осунулся, побледнел и одновременно как бы еще больше раздался – то ли вширь, то ли вкось. Махрящиеся на лбу волосы поникли и висели неровной бахромой, точно их не подстригли, а оборвали. И ничего привычно устойчивого, незыблемого, прочного старший переводчик Тютчин в облике своего начальника почему-то вдруг не обнаружил.
– Ни для кого не секрет, – продолжал Виген Германович в обычной своей манере, – что наши ученые и производственники разучились понимать друг друга. Структурно-функциональные взаимодействия усложнились, и одновременно затруднилось внедрение на заводах подотрасли наших разработок. Самсон Григорьевич поручил нам.
– Но как же мы, если даже специалисты…
– Ничего. Ничего… – Виген Германович удобно вытянулся в кресле. – Глаза боятся – руки делают. В течение двух кварталов проведем исследование, а в первой половине следующего года дадим рекомендации.
– Я не представляю…
– Дело это тонкое, но несложное. Ты учти: сегодня информация решает все. Товарищам из научных отделов только кажется, что от них зависит… – Виген Германович улыбнулся одними губами. – Тут Никодим Агрикалчевич целую теорию развил… Ведь производственников тоже нужно понять. Им объяснить надо. А то и заинтересовать.
– Они заинтересованы. Им платят за содействие. За новую технику.
– За содействие, Иван Федорович, должны платить нам. После того, конечно, как мы обеспечим согласованные взаимодействия. В будущем отчете постарайся, пожалуйста, это отразить наиболее обстоятельно. И как следует обосновать…
Когда Иван Федорович, весь потный и какой-то грязный, сам себе отвратительный, вышел из кабинета Вигена Германовича, он чувствовал себя премерзко. Особенно оттого было ему нехорошо, что струсил, не решился протестовать. Категорически отказаться. Возмутиться. Стукнуть кулаком по столу. Вот так бы и сказать в лицо: нечего нам, Виген Германович, людей за нос водить…
Какой же непонятной с некоторых пор была вся его жизнь! Что, скажем, заставляло Ивана Федоровича ежедневно ходить на работу в Институт химии, общаться с Вигеном Германовичем, погружаться во всю эту чепуху? Сидел бы себе спокойно дома, переводил, читал любимые книги. Какая неведомая сила повелевала жить не иначе как нынешним мучительным образом? Словно без соприкосновения с повседневным, грубым, бессмысленным и жестоким он бы потерял способность воспринимать вечно прекрасное. Ну а если в его изнеженном теле, в благородном сердце, изощренном уме все же таился грозный дух, который лишь ждал своего часа, чтобы заявить о себе? И когда этот час настанет, Иван Федорович решительным движением рычага переведет главную стрелку и направит поезд по единственно правильному пути.
Его дни, однако, не оставляя места подвигу, продолжали течь своим ходом: переводы с немецкого, переводы с итальянского, с какого-то еще. Дискретные переводы… А может, не только он, но и другие страдали, мучились? Может, и Виген Германович, и Никодим Агрикалчевич, и Самсон Григорьевич мечтали о лучшей доле и тоже кто-то, сидящий в них, ловил удобный момент, чтобы в решающую минуту рвануть на себя рычаг, перевести стрелку? И каждый из них небось истинный, единственно справедливый путь для себя намечал – наверняка иной, чем тот, который выбрал в тайнике души своей Иван Федорович. И все они, возможно, собрались здесь, в Институте химии, лишь затем, чтобы создавать необходимое для всякой диалектики напряжение, сопротивление жизненного материала: требовать с человека ту работу, какой он сделать не может по природной своей неспособности, и препятствовать тому, кто, напротив, может, хочет и умеет делать единственное свое на земле дело. Чтобы не дать друг другу преждевременно развернуться, раскрыться, совершить нечто из ряда вон выходящее, дабы все шло до поры по-прежнему, зрело своим чередом. Но только когда суждено наступить той поре, тому времени, готовому все поставить на свои места, когда от каждого – по способностям и каждому – по труду, о том, пожалуй, не ведал никто.
Иван Федорович вернулся к себе в комнату.
– Тоже собираюсь в Лютамшоры, – услышал он обрывок фразы, сказанной Борисом Сидоровичем. – Так что, если желаете, Аскольд, можем поехать вместе. У меня машина…
– Спасибо, с удовольствием, – тихо отвечал новенький.
– Пожалуй, и меня возьмите, – попросил Иван Федорович.
– Ммм… – замялся Борис Сидорович.
– Как угодно. Я не навязываюсь. Могу и на автобусе.
– Да уж пожалуйста…
Борис Сидорович медленно, с расстановкой произнес эти слова, будто накапал из пипетки.
Встречу назначили на площади Семи дорог. Место это, представляющее собой заключенную в камень круглую клумбу с цветами, от которой во все стороны расходились асфальтированные лучи, было удобно тем, что располагалось в центре Лунина и всего в полукилометре от дома Бориса Сидоровича – предельное расстояние, которое старый лингвист решался преодолеть на своем автомобиле в одиночку. Поскольку машина была старая, неухоженная, и мотор время от времени глох по непонятной причине, Борис Сидорович взял себе за правило ездить лишь по прилегающим улицам, чтобы в случае остановки двигателя можно было вручную докатить ее до стоянки. Он давно хотел освоить пятнадцатикилометровый маршрут Лунино – Лютамшоры, но один не решался, а попутчиков не находил. Когда Иван Федорович попросил взять его с собой, Борис Сидорович с глухой, застарелой обидой вспомнил, сколько лет безуспешно искал хоть одну живую душу, согласную разделить с ним тяготы рискованного путешествия, как упрашивал, уговаривал того же Ивана Федоровича, всякий раз находившего вежливый предлог для отказа. «Что это с ним случилось? – внутренне торжествуя, усмехнулся про себя Борис Сидорович. – Нет уж, поезжай-ка ты теперь, брат, на общественном транспорте, как всю жизнь ездил в Лютамшоры я».
Некогда черный блестящий автомобиль Бориса Сидоровича, имевший некоторое сходство с подводным кораблем капитана Немо, в результате многочисленных наездов, столкновений, ремонтов и долгой беспризорной жизни под открытым небом приобрел весьма неопределенную окраску – скорее, впрочем, все-таки темную, нежели светлую. Массивный, с высокой посадкой и грузным задом, допотопный автомобиль Бориса Сидоровича чем-то походил также на своего состарившегося хозяина – даже кашлял так же громко и натруженно, когда его пытались завести. За сорок или пятьдесят лет службы он не прошел и десятой части отпущенного ему пути, все свои хронические болезни получив в результате малоподвижного образа жизни.
На площадь Семи дорог Борис Сидорович приехал за полчаса до назначенного срока. Поставив машину у самого тротуара, он некоторое время не выключал зажигания, желая убедиться, не обманывает ли она его снова, не хитрит ли, не играет ли в кошки-мышки. Так бывало уже не раз. Рядом с домом все шло хорошо, можно было кататься сколько угодно, но стоило отъехать чуть подальше, как раздавалось характерное чиханье, затем наступала мертвая тишина, и движущийся по инерции автомобиль напоминал акулу, бесшумно скользящую в океанских глубинах. Приходилось выруливать на обочину, открывать капот и ждать, когда кто-нибудь из прохожих захочет подойти покопаться в моторе. Такие любители-энтузиасты обязательно находились, однако процесс починки и доставки машины к дому нередко занимал несколько часов. Ничего не смысля в устройстве двигателя внутреннего сгорания, Борис Сидорович из богатого личного опыта длительной эксплуатации своего автомобиля понял тем не менее, что ему достался редкостный экземпляр. Даже бывалым шоферам и механикам не всегда удавалось сразу запустить двигатель. Но проходило какое-то время – и мотор взвывал, после чего сколь угодно долго работал на холостом ходу. Умелец удовлетворенно вытирал пот со лба, комкал тряпицу и горделиво отвергал предлагаемые Борисом Сидоровичем три рубля. Мол, работал не ради денег, а ради собственного интереса и удовольствия, дедуля. Не теряя, в свою очередь, достоинства, Борис Сидорович легким кивком головы благодарил за помощь, храня в душе твердую уверенность, что, отдохнув, машина заработала бы и сама. Поэтому вовсе не как сигнал бедствия, а из одного лишь желания помочь ей поскорее остыть и отдохнуть, Борис Сидорович открывал капот и погружался в созерцание пышущих жаром чугунных отливок, гаек, трубок и проводов.
Раз в несколько лет опытные мастера тщательно осматривали машину, устраняли неполадки, регулировали системы и уверяли, что теперь она уж наверняка в полном порядке. Если Борис Сидорович, наученный горьким опытом, выражал сомнение, мастер предлагал ему сесть за руль, и мотор действительно работал безупречно. Но стоило Борису Сидоровичу вновь остаться одному, как все повторялось: автомобиль трогался, пробегал небольшое расстояние, чихал, глох, слеп, немел.
Со временем становилось все более очевидным, что машина отличается примерным послушанием лишь в тех редких случаях, когда кто-то находится рядом с водителем. Поскольку Борис Сидорович жил совершенно один, он пытался уговорить сослуживцев составить ему компанию, но его так часто видели на разных улицах возле открытого капота этого доисторического чудовища, что никто не хотел подвергать себя риску застрять вместе с ним на всеобщее посмешище. Окружающие принимали Бориса Сидоровича за выжившего из ума старикана, и поэтому любые его попытки заговорить о своеобразном характере его старой, добротной, заслуженной машины не воспринимались всерьез или даже пресекались глупыми усмешками, полным непониманием и оскорбительным равнодушием. Может, конечно, дело было в нарушении центра тяжести или в иной причине технического характера? Но факт оставался фактом: машина не желала возить его одного.
Благополучно добравшись до площади Семи дорог, всласть наслушавшись, как устойчиво работает двигатель, Борис Сидорович заглушил мотор, вышел из машины и вдохнул полной грудью напитанный горьковато-сладкими запахами трав и соцветий воздух. Потом он запрокинул кудлатую седую голову, увидел чистое в просветах между редкими облаками небо и подумал, что такое грустное, доброе и ласковое оно бывает, пожалуй, лишь осенью, хотя стоял еще только июль.
Мимо в одиночку и вереницами проносились легковые, грузовые, двухколесные транспортные средства. Визжали тормоза. Кто-то участливо спрашивал: что случилось? не нужно ли помочь? – на что Борис Сидорович лишь раздраженно махал рукой. Люди оглядывались, улыбались, а двое зазевавшихся водителей чуть не врезались друг в друга.
– Извините, Борис Сидорович. Я опоздал?
– Нет-нет, – пробасил старик, придирчиво разглядывая на запястье крупные стрелки массивных часов. – Явились точно, что нынче большая редкость.
Аскольд залез в чрево, положил на колени папку с документами.
– Ах да, придется вас побеспокоить… – Тяжелые складки на лице старика пришли в движение. – Аккумулятор слабоват…
Он протянул молодому человеку железную ручку наподобие коловорота, повернул ключ зажигания, а сам выпрямился на водительском сиденье в преддверии ответственного момента. Выскочив из машины, Аскольд ловко вставил коловорот в жуткую оскаленную пасть автомобиля, резко крутанул, и двигатель заработал.
Хлопнула дверца. Борис Сидорович огляделся. Все основные узлы и детали как будто находились на своих местах. Он потянул на себя заскрежетавший рычаг, высунул руку из окна и согнул ее в локте, давая знать водителям и пешеходам, что собирается поворачивать в сторону Лютамшор. Рывками наклоняясь вперед, он помог машине набрать скорость.
Благополучно одолели поворот. Выехали на шоссе. Борис Сидорович включил третью передачу. Зашумел ветер в окне, и они стремительно понеслись туда, где теплый воздух поднимался над асфальтом, точно растворяющийся в воде сахар. Запах псины и старых лежалых тряпок, насквозь пропитавший машину, постепенно выветривался.
– Оригинальная модель, – нарушил молчание Аскольд. – Это что, «роллс-ройс»? Никогда не встречал таких.
– Просто вы еще очень молоды…
Борис Сидорович нажал на газ, обогнал неказистый полугрузовичок.
– Так что за документы вас послали подписывать?
– Какие-то институциональные структуры.
– Тоже мне… – скривив рот, проворчал старик. – Глупостями всякими занимаются…
По обеим сторонам асфальтированной полосы медленно проплывали поросшие редким лесом холмы, мелькал придорожный кустарник, наматывалась на колеса кромка шоссе. Не отрывая взгляда от дороги, Борис Сидорович снял одну руку с руля и извлек из кармана бесформенного пиджака какой-то изжеванный обрывок бумаги.
– Хочу спросить вас как химика…
Аскольд разгладил бумажку, прочитал вслух:
– «…Вещество, существующее в различных конформациях…»
– Вот… Это слово… Конформации… Его этимология понятна. Каков научный смысл?
Узловатые пальцы с прокуренными ногтями зашевелились, точно пытаясь изобразить какую-то фигуру или извлечь из воздуха самый неожиданный предмет: бильярдный шар, игральную карту, цветной платок.








