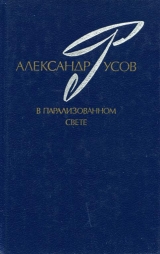
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 45 страниц)
– Ты чё, стронцо?
– Да вот, тебя жду, – шутит Платон устало.
– Кончай травить!
Тоник расплывается в улыбке. Этот пентюх писатель, конечно, загибает, но слышать такое всегда приятно.
– Один? С бабой?
– Что?!
– Ладно, не пыхти. Уже заказал?
– Маша сейчас подойдет.
– Мне второй вариант, – говорит Тоник, откладывая в сторону меню комплексных обедов, отпечатанное на папиросной бумаге. – В кино пойдешь?
– Вряд ли.
– Слышь? Возьми тогда два билета. Эта сука в кассе мне не дает. Порка мадонна! Путана Ева! Только членам твоего профсоюза.
– Мы не состоим в профсоюзе. Кхе!..
– Ну в смысле…
Платон кладет на скатерть два синеньких кинобилета, разделенных точечной перфорацией.
– Во! Ну ты гигант… А для Антона? Он тоже хотел…
– Здесь ведь два.
– Так я не один… И Антон… Соответственно… Будь человеком, сходи. Чё стоит? А я место покараулю. Пиво пока закажу. Тебе пиво брать?
17
– Это я, – отвечает Антон Николаевич на вопрос, заданный женским голосом из-за двери.
Замок щелкает, дверь отворяется – и тайное убежище принимает беглеца.
Так открывается однажды долгие годы сокрытая, неявная, неведомая дверь, и радостный, испуганный, растерянный, осчастливленный человек входит в мир, плачет, кричит, сучит ножками. И тогда дверь захлопывается за ним, исчезает прорезь в стене – будто ее не было. Отныне множество разных дверей – радости и печали, дворцов и тюрем, домов и учреждений – дверей дощатых и цельных, обитых железом и обклеенных фанерой, литых и резных, разукрашенных и грубосколоченных, легких и непрошибаемых, больших и малых – возникнет на его пути, пока, идя по анфиладе жизни, он не дойдет до той последней, за которой уже ничего нет.
Дверь же, в которую собирается войти теперь Антон Николаевич, в некотором роде особенная, хотя и расположена она на девятом этаже самого обыкновенного современного дома. За этой дверью – смерть и новая жизнь. Иное время и иное пространство. Иная логика слов и событий, которую по эту сторону порога логикой никак уж не назовешь. Короче, там, за дверью, Антона Николаевича ожидает любовь. Томление лани на ясной поляне. Звездные миры за синими шторами.
Звездные миры и остановленное мгновение.
Ну и так далее…
Доктор Кустов медлит перед закрытой дверью. Стоит ему только войти – и опрокинется весь смысл прошлой жизни, и строгий, прямой его профиль во встречном, хлынувшем из открытой двери потоке другого времени вдруг расщепится на множество составляющих, чуть сдвинутых относительно друг друга фаз движения, как на смазанном снимке, сделанном со слишком большой, нерасчетливо долгой выдержкой. И привычное, совершенно стершееся за годы ощущение собственного бытия распадется на фантастически яркие, чистые составляющие, как расщепляется, пройдя через призму, белый свет дня.
– Это я, – говорит Кустов немного смущенно, словно бы все еще не решаясь, пугаясь этих маленьких, беличьих, устремленных на него глаз, этих коротко стриженных волос и родинки на щеке.
18
В подвальном клубном ресторане, столовой или кафе – так по-разному именуют этот ведомственный пункт общественного питания посетители – всегда горят подсвеченные электрическим светом витражи, создавая иллюзию то ли бесконечно длящегося дня, то ли вечной бурно-пламенной ночи. Время бойкое, зал полон, и те двое, что сидят за маленьким столиком в углу – одному лет двадцать, а другой много старше, – занимаются тем же, чем остальные: поглощают комплексный обед, попутно о чем-то разговаривая. Вариантов совсем немного, вариантов всего два, но есть все же выбор, который, собственно, и дает ощущение большого разнообразия. Голоса говорящих сливаются в неясный рокот, несмолкающий гул людского прибоя, застревающий в барочных изгибах, закоулках и закутках шумящей раковины.
– Слышь! Надо бы к этому стронцо в больницу сходить, – говорит молодой, левой рукой трогая намявшие переносицу черепашки темных очков, а правой продолжая управляться с закуской. – Может, завтра?
– Только не завтра. Кхе!
– Послезавтра Антон не может. Так ведь опять не соберемся. Ё-мое, какие занятые люди. Порка мадонна! Путана Ева! Получается, мне больше всех надо, да? Или я всех свободнее?
Покончив с витаминным салатом, Платон прикладывает салфетку к своим колючим, неровно подстриженным усам.
– Завтра мне нужно на кладбище. Обязательно.
– Ты же сегодня хотел.
– Сегодня не получилось. Кхе!
– Почему?
– Закрутился с делами.
– С делами…
– Да, представь себе, кхе! У каждого свои дела. Своя специфика работы.
– В рот тебе эту специфику! В рот вам обоим! Поня́л? Ва фан куло! Один за госсчет по заграницам шастает. Другой – вообще… Людями надо быть, поня́л? У него небось гемоглобина уже ни хрена не осталось. Фруктов бы отнести. Соков. Овощей. Тоже вон, вишь? – Тоник подносит палец к распухшему носу. – Физическое истощение, поня́л? Авитаминоз…
За соседним столом обедает оргсектор Бульбович. Оргсектор Бульбович наклоняется к их столу, спрашивает:
– Антон Николаевич придет?
– Сегодня в кино собирался, – говорит Тоник. – Только в кассе билетов нет.
– У вас есть его координаты?
– А как же!
– Дайте телефон.
– У нас беспроволочная связь, – говорит Тоник.
– Можете передать, что билет будет.
– Только ему нужно два.
– Попросите его связаться со мной. Он мне просто необходим.
– Ладно, – говорит Тоник, – я пошел. Чао!
Он оставляет на столе металлический рубль за обед, и вот уже его тощий зад с фирменной нашивкой над правой ягодицей – на вытертых до белизны джинсах – мерно покачивается в проходе, удаляясь.
Писатель Усов крутит перед собой пустой бокал. Писатель Усов думает: «Эх, Тоник, Тоник… Мало тебя в детстве пороли. Кхе!..»
Медленно-медленно ползет, закрываясь, тяжелая входная дверь с возвратной пружиной, и некто в кожаном облачении возникает в пролете. Рядом женщина с тонким, худым, нервным, застывшим лицом. Бледное пятно на фоне застекленных дверей, за которыми – холод и мрак. Мрак и сгустившаяся темнота ранней ночи.
– Антон! – разводит руками Усов, поспешая навстречу.
Клацкает фарфор зубов. Прыгают колючие усики.
– Познакомься вот…
– Да, очень приятно… Раздевайтесь… Идемте… Я уже занял столик… Кхе!
Кустов принимает дамскую шубку, кладет на барьер. Швейцар-гардеробщик ухватывает добычу, уволакивает вглубь. Платон исподволь разглядывает спутницу Кустова. Именно такой он ее себе и представлял. Не очень уже молодая. Скромная. С родинкой на щеке.
По ступенькам они спускаются в ресторан. В гул голосов и струи табачного дыма. Все столики заняты, кроме одного в углу, на котором, как на музейном экспонате, табличка: «Зарезервирован». И белоснежная скатерть. И свернутые в кульки салфетки. И ртутный блеск мытых бокалов, в которых, как в елочных новогодних шарах, отражаются цветные огни витражей.
Кустов по-старомодному галантно отодвигает стул, придвигает стул, дама садится, после чего садится он сам. Платон опрокидывает табличку, теперь не нужную, выискивает глазами официантку. «Зря, – думает. – Лучше бы собраться без женщин. Столько всего накопилось. Целую вечность не виделись».
Вдруг созревает решение. Окончательное и бесповоротное. Никаких женщин! Кхе! Ни почтмейстерши. Ни переводчицы. Ни этой, новой.
«Извините, мадам, – говорит писатель Усов. – И вы, девушка, тоже. Кхе, кхе, кхе!..»
И те вмиг исчезают куда-то, а они остаются вдвоем – писатель Усов и доктор Кустов.
– Привет подпольным людям! – еще издали приветствует их Тоник. – Антон, тобой Бульбович интересовался.
– Какой еще Бульбович?
– Оргсектор. Ведь ты его знаешь.
– Давай, Тоник, присоединяйся. Посидит наконец в мужской компании. Машенька! Кхе! Шесть пива!
19
Новый день – новые хлопоты. Главврач городской больницы и сопровождающие его лица, в порядке инспекции, посетили отделение кризисных состояний. Главврач присутствовал на занятиях аутотренингом. Погрузившись в мягкие кресла, больные погружались в себя. Под руководством опытного специалиста они освобождались от силы тяжести и летали по холлу. Начальство, однако, обратило внимание на то, что пациенты не столько занимаются левитацией, сколько продавливают и протирают дорогие импортные кресла. Такие полеты быстро могли привести к износу казенного имущества и утрате образцовым отделением больницы того статуса, который позволял водить сюда многочисленные делегации и даже приглашать иностранных корреспондентов. Подобное замечание было сделано и относительно лечебной гимнастики. Делать гимнастику на новом паласе, напоминающем шкуру леопарда, выкрашенную в зеленый цвет, было признано нецелесообразным. Профессора Петросяна официально предупредили, что в случае выхода из строя этой уникальной мебели другой приобретено не будет.
В душе у профессора остался неприятный осадок. Выпроводив авторитетную комиссию, профессор Петросян уединился в своем кабинете и принялся изучать специальную схему-картинку, на которой был изображен некий амбивалентный, бесполый субъект (мужчина, женщина – нужное выявить), некое данное в вертикальном разрезе сложное гетерополое электронное устройство с многочисленными входами и выходами, некий электронейтральный homo mensura omnium rerum[42].
Работа всегда успокаивала профессора Петросяна. Профессор любил проигрывать некие трудно комбинируемые варианты. Теперь же он решал, казалось бы, безнадежно запутанный ребус, сложнейший кроссворд, связанный с состоянием больного из палаты № 3. Купировать удавалось только частично. При наличии явных – классических, можно сказать – симптомов шизофрении многое еще оставалось неясным. Желательное, с медицинской точки зрения, купирование одного всякий раз приводило к нежелательной реабилитации чего-то другого. Схема, если можно так выразиться, не прозванивалась целиком, ее части как бы не соответствовали друг другу.
Сестра заглянула в кабинет.
– Грант Мовсесович, там опять… В третью.
– Скажите: нельзя.
– Я извиняюсь…
В узкую щель между дверью и сестрой уже протиснулся тот самый посетитель с редкими, пепельного цвета, мелко вьющимися волосами, обрамляющими высокий покатый лоб.
– Ах, это вы, уважаемый…
– Как договаривались, Грант Мовсесович.
Профессор Петросян недоволен, что его поймали на слове. Профессор Петросян рад бы не допустить, но в данном случае его власти заведующего отделением явно недостаточно. Ее хватает лишь на то, чтобы разрешить нежелательный, явно вредный для больного визит, ибо выдворить посетителя нет никакой возможности.
– Только недолго, любезный…
– Уж как получится, Грант Мовсесович. У нас работа такая. Сами понимаете.
Профессор Петросян отворачивается. Профессор Петросян не слушает. Профессор Петросян ждет, когда наконец освободят его кабинет. Он озабоченно потирает ладонью шершавую щеку. Неприятностей хватает и без этого типа.
Тем временем следователь Александр Григорьевич Скаковцев заглядывает в шпаргалку и прямиком направляется в палату № 3. На нем все те же новый костюм в полоску, белая рубашка, галстук. Будто он их так и носил с тех пор, не снимая, но и не занашивая – вот что интересно. Те же без единого пятнышка блестящие туфли на тонкой светлой коже. Тот же черный кейс с металлической окантовкой без единого следа дорожной грязи на нем.
Больной палаты № 3 оборачивается на вежливый стук в дверь, тянет изможденную руку к тумбочке за очками.
– Можно? – спрашивает Александр Григорьевич.
– Пожалуйста, заходите.
Больной строго смотрит на вошедшего. Александр Григорьевич бодро щелкает запорами кейса, достает толстую книгу в твердом переплете, неловко выворачивая локоть, кладет ее на тумбочку, будто взятку.
– Что это?
– «Итальянский детектив».
– Зачем?
– Как просили.
– Я?!
Александр Григорьевич заглядывает в шпаргалку, спрятанную в ладони. Отвечает уверенно:
– Да, конечно.
– Тут какая-то ошибка, – медленно, с трудом выговаривает больной. – Я не читаю детективов. Это для слабоумных.
– Хм! Хорошо. Не будем терять времени. Итак, в последний раз вы виделись… Виделись в гостях…
– С кем?
– Ну если не с ним, то хотя бы с его женой… Прежде чем это случилось.
– Не понимаю…
– Ну вы знаете. Убийство.
– Он не убивал ее… Нет…
Больной облизал пересохшие губы, снял очки, потянулся к тумбочке, чтобы положить их, а посетитель тем временем достал из черного кейса блокнот, согнулся в три погибели и застрочил, стараясь не пропустить ни слова.
– Не убивал… Это абсурд… Он ее любил… Правда, часто увлекался другими женщинами… Такая уж артистическая натура… Она, кажется, тоже… Тоже, хочу я сказать, любила его… Преподавала музыку… Знаете… По классу фортепьяно… Ревновала… Страдала… Потом как-то внезапно заболела и сгорела мгновенно… Спасти было нельзя…
– А как?
– Что?
– Как ее спасали?
– Понятия не имею.
– Кто спасал? – вкрадчиво спросил посетитель.
– Не все ли равно.
– Э, нет. Очень важно, в какие руки попадешь. …Прошу прощения, запамятовал. Коме ти кьями?[43]
– Как вы сказали?
– Ну да неважно.
– Словом, их отношения… Нормальному человеку иногда трудно бывает понять…
– Что именно?
– Зачем все это… Зачем кому-то требуется двойная жизнь? Причем чаще всего это случается только в определенном возрасте. A quaranta e sessanta anni si diventa un po’ pazzi…[44] Согласны?
Александр Григорьевич несколько раз кивнул, продолжая писать.
– Человек влюбляется, мучается, не решается разрушить семью. А потом – раз! – и никакой семьи.
– Да, да, – чему-то обрадовался вдруг Александр Григорьевич. – Это вы верно заметили.
– Теперь он внушил себе, что был ей всегда верен… Нет, что вы, не мог он убить…
Столь долгая беседа утомляет больного. Больной в изнеможении закрывает глаза. Щека начинает дергаться, из горла вырываются хрип, клекот, бульканье, кашель. Больной задыхается.
– Кхе! Кхе!.. Кхе! Кхе! Кхе!..
И следователь по особым делам Александр Григорьевич, уже в силу своей профессии будучи конечно же не робкого десятка, с ужасом отмечает прямо на его глазах произошедшую разительную перемену. Верхнюю бритую губу больного обметывает седая колючая щетина. Губа вздергивается, обнажая верхний ряд искусственных зубов. Под глазами набухают синюшные мешки. Несмотря на спасительную мысль о том, что всему причиной тень от шторы, упавшая на подушку, Александр Григорьевич, привыкший иметь дело со смертью и человеческими страданиями, как безумный вскакивает со стула, бросается в коридор.
– Эй, доктор… там… ему плохо…
Александр Григорьевич устремляется к застекленной двери в тамбур, которая почему-то оказывается открытой, и только тут, у потертого диванчика, возле большой жестяной банки с окурками его настигает голос сестры:
– Гражданин, вернитесь! Портфельчик забыли…
20
Маша приносит пиво. Маша подает раков. Серо-красные раки оккупировали круглое блюдо. Раки в серо-красных мундирах приготовились к психической атаке. Прощупывают усами проходы в минных заграждениях.
Но вот начинается сражение. Начинается планомерное и продуманное уничтожение раков.
– Профессор опять к себе вызывает, – говорит Антон Николаевич, отрывая клешню у одного из них. – Звонил прямо с утра. На работу. Тьфу! – выплевывает он хрустнувший на зубах осколок.
Поверженный рак, будто опрокинутый бронетранспортер, остается на поле брани.
– Меня, между прочим, тоже. Кхе! Надо бы пойти. Неудобно. Да все некогда как-то. Кхе!..
Хрустит раздавленный панцирь. Трещит броня. Булькает разливаемое пиво. Шипит пена.
– Да пошел он куда подальше!.. Баклажанья морда…
Тоник дергает носом, поправляет очки. Руки липкие. Груды уничтоженных вражеских танков. Кладбище разбитой бронированной техники.
– Ваше здоровье.
– Мужики! А что, если нам поселиться вместе? Можно вот так каждый вечер…
– Где поселимся?
– Да хоть у меня.
– Слишком далеко живешь, Тоник. Да и удобства…
– Обменяем.
– Ишь какой быстрый!
– А что? Законная идея?
– Кхе!
– Право на дополнительную площадь есть?
– Кхе?
– Сколько тебе полагается как писателю?
– Двадцать метров.
– А доктору-моктору?
– Тоже двадцать.
– Стало быть, всего сорок. И еще по девять как всем нормальным людям. Плюс шесть на семью. Ё-мое, семьдесят три метра, ребята! На троих! Сдавать можно…
– Подумаешь… У меня у одного столько. Кхе!
– Общим хозяйством заживем. Порка мадонна! Я хорошо готовлю, стронци.
– Тебе это невыгодно, Тоник.
– Почему?
– Я с работы ушел.
– Ничего, хорошую пенсию дадут.
– Самую обыкновенную. И то не сейчас, а когда доживу до Платоновых лет.
– Ну так у нас Платон – писатель…
– Платон, если хочешь знать, зарплаты отродясь не получал. Кхе!
Тоник зло высасывает солоноватый сок из клешни. Еще один подбитый танк. Еще одно выведенное из строя вражеское орудие.
– Стронци! Тоже мне, творческие работнички! На хрен вам было тогда убиваться, из кожи лезть? Писатель. Доктор-моктор. Дерьмо собачье – вот вы кто.
– Ты теперь у нас самый материально обеспеченный, Тоник.
– Ладно, – говорит Тоник, средними, неиспачканными фалангами пальцев вытирая усы в уголках рта. – Ва фан куло! Вы настоящие стронци. Стронци из собачьего дерьма. Любую идею загубите. Чао! Я скоро вернусь. Кадр тут один наклевывается. А ты, Антон, зайди к Бульбовичу.
– Где он?
– Идем покажу.
Писатель Усов снова остается один. Писатель Усов продолжает задумчиво водить ножкой пустого бокала по застиранному ржавому пятну на скатерти. «Сколько же все это продлится? – думает. – Целый декабрь? Или даже весь январь и февраль? Кхе! Потом воздух станет таким легким, прозрачным. Солнце пригреет. Обязательно поедем к Тонику кататься на лыжах. В его игрушечный домик. На станцию Строительную, осененную вроде как тоже игрушечными завитками, крендельками, взбитыми сливками, вырезанными ножичком и аккуратно разложенными на разной высоте бирюлечными, лубочными облачками. В страну слепящего, хрустящего, рассыпающегося, будто крахмал, снега… Многое, конечно, будет зависеть от того, сколько времени он пробудет в больнице. Кхе! И сможет ли потом кататься на лыжах… И чем еще обернется это изгнание женщин…»
– Добрый вечер.
– А?
– Добрый вечер, Платон Николаевич…
Официантка ждет, вертит в пальцах карандашик, уперла блокнот в живот. Ее все еще живые, беличьи глазки выражают бесконечное терпение и милосердие.
– Добрый вечер, Машенька. Наконец-то… Кхе!.. Вспомнили обо мне. Я уж думал, помру от голода.
– Вы же только что сели, Платон Николаевич.
– Как это только что? Кхе! Пиво есть?
– Московское.
– А раки?
– Что вы! Надо же, вспомнили. Раки… Раков давным-давно не было…
Проводив Антона к Бульбовичу, Тоник спускается в гардероб, забирает куртку, обматывает шею и подбородок длинным узким вязаным шарфом, выходит из клуба в мрак, слякоть и сырость, ловит такси.
– Шеф, к ГУМу. Со стороны Никольской… Ну этой… 25-го Октября.
Зеленая «волга» прыскает грязью из-под колес. Зеленая «волга» обслуживает Тоника быстро и надежно. «У второй линии. Вроде так договаривались…»
Ну в общем… Встретил он ее. Она сама его узнала. Причем сразу. По описанию. Насчет блондинки и двадцати четырех лет его, конечно, сильно накололи, но Тоник не больно расстроился. Блондинки с голубыми глазами ему осточертели. Сплошные блондинки за углом. И все, как на подбор, с голубыми глазами… Эта была шатенка. Крашеная. Коротко стриженная. Шубка норковая или вроде того. Вся в бриллиантах. Бесподобная мушка-родинка на щеке. Полумесяцем бровь. Лет ей, конечно, было крепко за тридцать, а то и за сорок. Словом, генеральша. Но что характерно, так это имя. Кому сказать – не поверит. Уж сколько у Тоника было женщин, и никакого разнообразия в именах. До некоторой степени даже удобно: не перепутаешь.
– Ну что, поехали? – сказал Тоник. – Или как? А то ведь фильм с Челентано скоро начнется.
Такси мигом примчало их в клуб. Платон сидел все за тем же столиком в углу, пудрил мозги своей почтарше. Женщина Кустова продолжала изображать испуг и робость.
– Познакомься, – сказал Тоник своему новому кадру. – Это Антошка Кустов, главный член-корреспондент по химии.
– Очень приятно, – зарделась генеральша, перед тем хихикнув.
– Душевно рад, – сдержанно ответствовал Антон.
– Пошли в кино, ребята. Фильм начинается.
– Какое там кино! Бросьте! Присаживайтесь. Маша! Кхе!
21
– Очень прошу вас, Антон Николаевич, – семенил рядом и сбоку оргсектор Бульбович, когда веселая компания в двенадцатом часу ночи вывалилась из дверей клуба. – Выступите! Я вам такую рекламу организую! Будет полный аншлаг.
Шел мокрый медленный снег. Антон Николаевич прилаживал к красным своим «жигулям» стеклоочистители.
– «Генетика и прогресс». А? – не отставал Бульбович. – Или, если хотите, совсем строго. «Geschlecht und Leben»[45]. Исключительно на ваше усмотрение.
– Мы все не поместимся, – беспокоилась толстая Таня со второго этажа.
– Едем ко мне! – орал, разойдясь, Тоник. – Там и организуем… Geschlechtsleben und…[46] Бульбович, как дальше?
– Муж тебя убьет, – добродушно, вся разомлев от тепла и пива, смеялась генеральша. – Застрелит из пистолета.
– Ва фан куло! – тоже веселился Тоник. – Нет у тебя мужа!
– Платон, уйми его. Подействуй как-нибудь. Ты же старший. Иначе нас всех заберут.
– Таня! Киса! – орал на всю улицу Тоник, бросаясь в объятия чудовища в дубленке.
Почтарша зябко ежилась, чувствовала себя неуютно. Генеральша снисходительно усмехалась. Женщина Кустова стояла отдельно, одетая во что-то совсем уж легкое – бледная, прямая и строгая.
– Платон, прошу… Настаиваю… Категорически… – волновался владелец красных «жигулей».
– Хм! Кхе! Ну хорошо… Тоник! На минуту…
– Вспомнил! – вопил Тоник. – И без тебя, Бульбович, вспомнил. Und Liebe[47] – вот как там дальше… Чего тебе?..
– Значит, так, – горячо зашептал ему в ухо Платон, брызгая слюной. – Едем к тебе. Забирай женщин, бери машину и дуй. Кхе! Мы – следом…
– Так у меня доверенности же нет, стронцо!
– Тихо! Не ругайся. Доверенность Антон сейчас напишет.
– Ва фан куло! Кто ее заверит? – не унимался Тоник. – Ты мне мозги-то…
– Я что сказал! – рявкнул вдруг Платон Николаевич.
Он крепко ухватил Тоника за рукав куртки, и на глазах у пораженного Антона Николаевича тот растворился в воздухе, опал на асфальт, рассыпался снежком, а на месте, где еще мгновение назад находились двое, остался один писатель. Мимолетная вспышка гнева на его лице постепенно обретала очертания нахальной улыбки Тоника. Рядом в полной растерянности стояла какая-то женщина, видно из случайных прохожих. Ее беличьи глазки стреляли туда-сюда.
– Бульбович, садитесь за руль! Кхе!..
– Но доверенность…
– Садитесь, садитесь. Он вам доверяет. Мы все вам доверяем. Кхе!..
Красные «жигули» Антона Николаевича укатили. Нескончаемо падали, насыщая воздух прогорклой сыростью и теплом, мохнатые белые мушки.
– Быстро же ты с ним управился, – облегченно вздохнул Антон Николаевич. – Теперь на метро?.. Платон! – обернулся он и осекся на полуслове.
Никакого Платона поблизости не было. Из зияющей пустоты валил невидимый снег. Какое-то размытое пятно, удаляясь, маячило вдали на фоне темных бастионов домов, многократно перечеркнутых белыми штрихами.
Антон Николаевич бредет вдоль плохо освещенной улицы. В заснеженной пустоте возникает горящий малиново-красно неоновый знак: перевернутое русское М, или сдвоенное латинское V. Vale et me ame[48], например. Или: Va fan culo![49]
Антон Николаевич спускается в светлое тепло подземелья, слоняется по платформе в ожидании, когда раскаленная капля, возникшая в глубине черной дыры, проплавит тоннель ослепительным, дымящимся пламенем. Дождавшись, садится в совершенно пустой вагон. Двери закрываются автоматически. Поезд гудит. На хромированных изогнутых поручнях ускоряют свой правовращательный бег блестки подземной иллюминации. И вот уже однообразно, черно мелькает за окнами.
От нечаянного забытья его пробуждает громкий металлический голос. Метро закрывается. Поезд дальше не идет. Так что Антон Николаевич поневоле вынужден покинуть теплое чрево земли.
Какая-то продувная незнакомая магистраль. Снег перестал. Подморозило. Он ловит такси, но не может поймать. Шальная попутка довозит его до улицы Строителей-Новаторов. Вот и его четырнадцатиэтажный дом. Вот светящееся окно, которое лучше бы не светилось.
Антон Николаевич входит во двор, трогает замерзшее стекло выстуженных насквозь красных «жигулей». Снежная крупа хрустит под перчаткой. Неприятно поскрипывает кожаное пальто. Он достает ключи, открывает дверцу, вынимает из кармана тугой прямоугольный бумажный сверток, в двух местах подклеенный липкой прозрачной лентой, прячет под передним сиденьем.
Дальнейшее известно. И то, как он войдет, что скажет, что услышит в ответ. И что будет при этом испытывать. Какой холодящий, парализующий страх. И удушающую ненависть. И разрывающую сердце жалость. А главное – ощущение бездны, обрыва, близкого конца.
ЧАСТЬ II
РЕАБИЛИТАЦИЯ
22
Когда человек загнан в угол, у него остается единственный выход: ринуться навстречу опасности. Когда приходит отчаянье и кажется, что вам не устоять под напором вражеских сил, не вынести разом свалившихся несчастий, не тратьте времени на поиски оружия – все равно подходящего не найдете; не ждите удобного момента – он не наступит; не уповайте на чудесное избавление – оно не придет. Хватайте первое попавшееся под руку и вступайте в открытый бой. Если уж все равно умирать, умрите красиво.
Но ничего действительно страшного вам, пожалуй, пока не грозит. Потому что в комнате страха, откуда из темноты только что ползли на вас, лязгая гусеницами, тяжелые танки, атаковали на бреющем полете штурмовики, наступала пехота, тотчас будет включен свет, и бойкий распорядитель, опасливо косясь в вашу сторону, поспешно объявит, что аттракцион закрывается по техническим причинам. И тут вы увидите жалкую обшарпанную комнатенку с нехитрыми приспособлениями, какие-то наскоро скрученные проволочки, лампочки от карманного фонаря, карнавальные трещотки, гудящие волчки и поймете, что даже случайное, примитивное ваше оружие – обыкновенный, зажатый в кулаке камень – способно разнести вдребезги всю эту бутафорию. Что не бойкий распорядитель, а сами вы – хозяин своей судьбы. Что нужно не выбирать между поставленными кем-то условиями, а самому их ставить.
Когда из хорошо освещенного загородного дома, тепла и шума веселых голосов вас выносит в неподвижную стылую зимнюю ночь, а огромная желтая луна неторопливой рысцой низко бежит по сгустившемуся до черноты синему небу наперегонки с машиной или электричкой – бежит, будто умный зверь, по зубчатой дорожке притихшего темного леса, перелетает закованную в лед речку, высоко взмывает над притаившейся в лощине утлой деревушкой – только тогда, наверно, дано вам по-настоящему испытать грустное и величественное чувство полной свободы, постичь истинную трагичность быстротечной жизни, ибо утром, когда взойдет солнце, вы при всем желании не сумеете этого испытать и постичь. Солнце взойдет, взойдет непременно, оно всходит всегда, in saecula saeculorum[50], а вместе с ним исчезают ночные страхи, верные стражи истины.
Солнце восходит всегда. Именно на этом физическом, астрономическом или, если угодно, метафизическом явлении основана большая часть всех лечебных методик врачей разных стран, времен и народов. Если бы не этот достопримечательный факт, то ни один пациент отделения кризисных состояний не покинул бы, возможно, его больничных пределов, сердечно благодаря докторов и благословляя повернувшуюся к нему солнечной стороной жизнь.
Но порой само солнце, луна и звезды так выстраиваются в астральном пространстве, так высвечивают измучившую самое себя человеческую душу, что ей открываются на краткий миг вековечные тайны еще более высокой истины. И тогда безобразное вдруг становится прекрасным, злое – добрым, невозможное – доступным. На обыденном языке это именуется благом выздоровления. На языке медицины – реабилитацией. Врачи не способны дать вам вторую жизнь. Они лишь помогают отыскать нужные углы между планетами, благоприятствующими вашей судьбе.
Можно, конечно, обойтись и без врачей, если достанет решимости, не мучая себя пустыми сомнениями, укокошить одного из тех непослушных парней, что живут в вас и особенно вам досаждают. Вы имеете на это полное право, черт побери! Все они едят ваш хлеб и обязаны считаться с вашими принципами. При слабых же нервах и жалостливом сердце предоставьте врачам совершить акт возмездия, восстановить справедливость и желанный покой, решительно удалить этого типа из вашего нутра оперативным путем. Разумеется, под наркозом. Не бойтесь, вы ничего не почувствуете. Опытные врачи свое дело знают.
Только не злоупотребляйте собственным терпением. Терпение – самое емкое и эластичное из всех известных человеческих качеств. Оно легко подвергается любым видам механических воздействий и деформаций. Легко раздавливается, растаптывается, растягивается в несколько десятков, даже сотен раз, но может статься, что однажды этот пузырь лопнет, и тогда уже никакие врачи не залатают прореху. Вот в чем тут дело. Такой вариант обязательно следует иметь в виду.
23
За дверью играла музыка. Музыка? В столь поздний час?
Открыв дверь собственным ключом, Антон Николаевич застыл на пороге. Всюду в квартире горел свет. Посреди ближайшей к прихожей комнаты на травянистого цвета ковре, словно на летней лужайке, самозабвенно танцевала сумасшедшая женщина. На ней было воздушное платье палевых тонов, узкие туфельки стерлядкою, а на запястьях позванивали браслеты. Пожалуй, не хватало лишь блюда с отрубленной головой. Все же остальное – извивающиеся змеями руки, ленивое покачивание бедер, закатившиеся в истоме глаза, прозрачная хламида наподобие хитона, остро отточенные ногти, выкрашенные в кроваво-пурпурный цвет, пиршественный стол, сверкание хрусталя, яркие пятна нетронутой снеди – все было примерно таким, как и двадцать, и двести, и две тысячи лет назад.
Антону Николаевичу казалось теперь просто невероятным, что это действительно его дом и его жена, от которой, несмотря на опасное сходство с Соломеей, он не мог оторвать наполовину смущенного, наполовину восхищенного взгляда. Какие невероятные вещи творились с ним в последнее время! Сколь странные вещи происходили вокруг!
– Извини, – терся он щекой о душистые женские волосы. – Я не забыл. Просто не мог раньше… Вот это стол!.. А я даже подарок… Впрочем, постой…
Не надевая пальто и не дожидаясь лифта, он сбежал по лестнице, выскочил на улицу, достал из-под сиденья машины сверток, вернулся запыхавшийся.
– Вот… Это тебе…
Подцепив острым ногтем липкую ленту, она медленно и осторожно развернула бумагу, раскачала массивную стеклянную пробку флакона, приложила ее сначала к одному, потом к другому ушку и, точно кошечка, потянулась к мужу.
Антон Николаевич испытывал смешанное чувство радости, успокоения и вины, но не горькой, а какой-то далекой, от него отдельной, словно этот поздний час вместил в себя все хорошее, доброе, истинное, что когда-либо возникало между ними. Многолетний морок исчез, туман пал – он снова ощущал себя дома и не мог, да и не хотел понять, куда делось все тягостное и мучительное.







