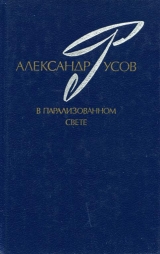
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 45 страниц)
Торт съели, капнули что надо на дно коробки, посадили туда тараканов, закрыли крышкой, предварительно проделав в ней тонкой иглой дырки, а место соединения крышки с основанием обклеили липкой лентой, чтобы насекомые не смогли убежать.
На следующий день в коробке обнаружили множество мелких, расползающихся во все стороны тараканчиков. Большие же тараканы с трудом шевелили лапками и усами, будто одурманенные. Их заносило из стороны в сторону, они падали, переворачивались, даже не пытаясь выбраться наружу.
Под действием кетенов принесенная в лабораторию мышь тоже очень скоро принесла потомство. Поскольку она находилась в коробке одна, Валерий Николаевич Ласточка предположил, что имело место непорочное зачатие, так называемый партеногенез, но над ним только посмеялись.
После эксперимента мышь тоже выглядела вялой, чего никак нельзя было сказать о ее потомстве. Настораживало, конечно, дурное самочувствие подопытных животных. В остальном же результаты опытов не противоречили данным, содержащимся в отчете Института токсикологии.
А как бы повели себя в подобных условиях люди? Такой вопрос волновал всех, но высказать его вслух никто не решался.
Однажды утром, несколько опоздав на работу, Ласточка вбежал в лабораторию сияющий.
– Все в порядке! – выкрикнул он прямо с порога. – Никакого отрицательного действия на человека.
– Ты о чем?
– Кетены совершенно безвредны, – сообщил Ласточка.
Хохолок на его затылке согласно кивал.
– Я на себе проверил. Вчера вечером нарочно взял вату, смочил спиртовым раствором кетена и минут десять дышал.
Сергей Сергеевич нахмурился.
– При этом нормально себя чувствовал. А сегодня… сегодня утром… у меня родился сын.
– Так быстро? – вырвалось у кого-то.
– Знаете, тело стало таким легким… Вот-вот оторвешься и полетишь. Это нельзя передать. Можете сами попробовать.
– Нет уж, спасибо. Мы тебе верим.
И все засмеялись.
ГЛАВА XVI
1. ЛЮБОВЬ И СЛЕЗЫ
Инна смеялась вместе со всеми, хотя было ей не до смеха. Конец июля, август и всю осень она испытывала единственное желание: заснуть и проснуться, когда мучения останутся позади. Но вместо этого каждое утро она просыпалась, терзаемая страхом. Запутанные отношения с Сергеем Сергеевичем, гонения на кетеновую тематику, постоянное чувство вины перед Алексеем и всегда печальные глаза дочери делали жизнь почти невыносимой. Она словно висела над пропастью, моля судьбу, чтобы что-то наконец определилось. Избегая душеспасительных разговоров с Сергеем Сергеевичем, она взрывалась по любому пустяку. Вдруг принималась безудержно ласкать свою Тонечку, тут же отталкивала, ругала за безалаберность, запрещала рисовать красками на столовом столе, отправляла на кухню, но и оттуда гнала, потому что дочка мешала ей. Упрекала себя, жалела ребенка и все плакала, плакала втихомолку.
С Алексеем отношения не налаживались, хотя они и продолжали жить под одной крышей. Домогательства Сергея Сергеевича она воспринимала теперь как побочные явления чего-то ушедшего, не сомневаясь, что скоро в его душе не останется и следа былой нежности. Чего не хватало в жизни этому благополучному, удачливому, избалованному человеку?
– А тебе? Тебе чего не хватает? – спрашивал он в свою очередь, когда после работы они шли краем леса, тропинкой или по бездорожью, подальше от людских любопытных глаз.
– Мне ничего не нужно. Я просто устала.
– Давай уедем.
– Куда?
– Все равно.
– Некуда ехать, – зябко пожимала она плечами.
– Неужели нет выхода?
Инна закрывала глаза и резко мотала головой, точно опасалась, что с открытыми глазами она потеряет чувство равновесия, у нее закружится голова и она упадет. Именно в такие минуты она больше всего боялась Сергея Сергеевича. И себя. Строить свое счастье на чужом горе? Нет, это не для нее. Триэс привлекал ее к себе, и какое-то мгновение Инна видела в запрокинутой вышине золоченый купол церкви Петра и Павла, разбегающуюся белизну стен, черный провал колокольни.
– Я устала, – тихим голосом, в котором уже не было жизни, говорила она, а про себя твердила: «Только бы скорее кончилось. Только бы поскорее…»
Ее отчаянное сопротивление лишь усиливало его настойчивость, и это напоминало обоюдную пытку.
Вдруг он перестал с ней разговаривать. Не замечал. Как некогда – в самом начале. Внешне, казалось, она успокоилась, но тоска продолжала грызть. Инна казнилась, не могла понять, зачем мучает его и себя, пыталась стряхнуть оцепенение, дать волю чувствам. Однако в последнюю минуту ее вдруг окатывало точно кипятком: «Нет. Я не люблю его. Нет! Нет! Нет!»
Так уговаривала она себя. Так внушала она себе, что вот было мимолетное увлечение – и прошло. Пусть она легкомысленная и ветреная, только ведь у нее тоже есть принципы. Почему же он не желает с ними считаться, не хочет понять? Почему нельзя остаться просто друзьями? Да, она многим обязана Сергею Сергеевичу. Уважает и ценит его. Их связывает общая работа…
Стоило ей, впрочем, сделать хотя бы шаг ему навстречу, как тотчас все вновь срывалось со своих мест, и вихрь уносил их в лес, в поле, на окраину Лунина. И опять опрокинутые купола, пересохшие губы. И снова: нет! нет! нет!..
Был период, когда Инна серьезно подумывала о переходе в другую лабораторию, готовая бросить все и уйти, но вместо того, чтобы осуществить свое намерение, она опять каждый день после работы уходила вместе с Сергеем Сергеевичем. Выяснять отношения не было сил, но и противиться его уговорам – тоже.
На территории Лунина, ближе к Белой Воде, сохранилась старая усадьба. Одна из ее построек принадлежала Институту химии, а остальная часть, в том числе Летний дворец, – областному музею. Вот туда-то они и наладились ходить. Мимо церкви Петра и Павла, через мост и левее, в сторону Королизы.
Музей закрывался в шесть. Иногда они успевали до закрытия, а однажды хранительница разрешила им остаться до позднего вечера. Зажгла во дворце огни, заперла наружную дверь и побрела в разлапистых суконных тапочках следом – мимо гобеленов, сервизов, люстр, каминов, пуфов, резного дерева и отреставрированных картин, свезенных сюда отовсюду. Инна не могла сосредоточиться и, если бы ее потом спросили, не назвала бы ни один из многочисленных сюжетов. Рассеянный взгляд Сергея Сергеевича тоже едва задерживался на деталях обстановки, скользил, незрячий, вдоль стен.
Служительница умильно наблюдала за симпатичной парой, приходившей регулярно, будто в том была насущная потребность. «Может, ребенка ждут», – решила про себя добрая женщина.
Возвращались в сумерках через лес, переходили мостик, и Сергей Сергеевич даже не предпринимал теперь попыток поцеловать ее: в нем тоже что-то утихало, гасло.
Прощаясь, Инна всякий раз не забывала передать привет Дине Константиновне. Это почему-то особенно расстраивало Сергея Сергеевича. Он уходил от нее мрачный, подавленный, чужой. Что-то, видно, было погублено в самом зародыше, и теперь оставалось лишь ждать печальной развязки. Казалось, от них уже ничего не зависит. После преодоления некой критической точки ни у кого не осталось ни иллюзий, ни надежд. Правда, иногда им удавалось еще пошутить друг над другом, но даже такие минуты печального затишья, которые были чем-то сродни отзвуку счастья, выдавались все реже. Догорало последнее.
В середине сентября Инна взяла несколько дней за свой счет. На работе сказала, что тяжело заболела тетка, дома – что уезжает в командировку по аспирантским делам, а сама отправилась в Лютамшоры и пробыла там три дня.
Вернулась бледная и слабая, похожая на маленькую обиженную девочку. Каледин с Ласточкой ни о чем не спрашивали, будто сразу поняли, что тетка, которую Инна, наверно, очень любила, умерла.
Сергей Сергеевич в эти дни всех сторонился, держался незаметно. Нехорошие предчувствия теснили грудь. Словно с кем-то из близких случилось несчастье, но он не знал с кем. В день возвращения Инны он подарил ей красные астры. Его испугали ее пустые глаза.
В конце следующей недели он ни с того ни с сего принес полный портфель огромных гранатов и свежих грецких орехов. Высыпал на лабораторный стол, пригласил всех угощаться. Свежие орехи легко кололись чугунной гирькой, и Сергей Сергеевич как-то умудрялся не повреждать ядра, похожие на маленькие мозги крошечных млекопитающих.
Обсуждали последние лабораторные новости. Восторженный Ласточка расхваливал дары лютамшорского рынка. Сергей Сергеевич установил регламент: они закончат совещание не раньше, чем Инна съест все очищенные им орехи, сложенные на чистом листе фильтровальной бумаги.
Когда стали убирать со стола, Триэс в той же наигранно-серьезной манере повелел Инне взять оставшиеся орехи и фрукты с собой, поскольку его портфель будет занят двумя дурацкими диссертациями, по которым придется выступить оппонентом. Инна смутилась и вежливо отказалась.
– Да куда ей столько? – поддержал аспирантку Ласточка.
Профессор взглянул на Валерии хохолок, и чем-то он ему на этот раз не понравился.
Импровизированный пир кончился. Гранаты пролежали месяц и начали съеживаться. Неоднократно сотрудники напоминали Сергею Сергеевичу, но каждый раз он почему-то забывал взять их домой.
Осенью перегорело все. Листва облетела с деревьев, усыпала крыши, дорожки, запорошила подъезды институтских корпусов. Солнце почти не проглядывало сквозь плотные облака. Пышное багряно-золотистое одеяние слиняло, Лунино залило дождями, листья прилипли к асфальту, начали гнить, и теперь водители на дорогах опасались увеличивать скорость. Порывы холодного ветра сдували последнюю трепещущую мелюзгу, которая, шурша, медленно опускалась на коченеющую землю, точно обреченный на верную гибель массированный воздушный десант. Деревья, заборы, дома стояли голые и неприбранные. Однако идущий вдоль леса прохожий все еще мог наблюдать случайный куст или небольшое деревце, жарко полыхающее среди обнаженной природы. Эти держались до последнего, но в конце концов и они облетели.
Осенью перегорело все. Зимой все замерзло. Покрылся снегом пригорок, с которого в незапамятные времена Скипетров-младший скатывал снежный ком под ноги идущему из стеклодувной мастерской человеку, чье лицо он давно забыл. Дорожка, ведущая к Машинному залу, настолько обледенела, что ее приходилось посыпать песком с солью. Белая Вода застыла последней. Впрочем, в декабре и на ней уже сверкали проворные коньки мальчишек.
Осень обещала долгую зиму, зима – нескорую весну. Все дни и вечера Инна проводила в лаборатории, надеясь к марту завершить экспериментальную часть своей как бы незаконной уже теперь работы. Постепенно приходила в себя, внутренне оттаивала. С Сергеем Сергеевичем у нее установились наконец ровные, вполне сносные отношения. Алексей возвращался домой поздно, случалось, даже не ночевал, и это как бы снимало с нее часть вины перед ним. Только за Тонечку болело сердце: весь день одна. «Ну ничего, – утешала она себя. – Если защищу диссертацию, как-нибудь наладится».
2. АДЮЛЬТЕР. ПЕРЕВОД С ФРАНЦУЗСКОГО
Ощущение, что Инна его предала, поманила и убежала, все более овладевало Сергеем Сергеевичем. Когда он впервые подумал об этом: еще в Приэльбрусье или уже здесь, в Лунине?
Мучимый неразделенным чувством, томимый неосуществимым желанием, Сергей Сергеевич снова и снова возвращался к причинам случившегося. Он перебрал множество вариантов, но каждому из них не хватало логической цельности, органического единства. Конец и начало не согласовывались, одно отрицало другое, и ни один вариант не вмещал в себя всех известных фактов и соображений, которые Сергей Сергеевич пытался привести к стройной системе. Нет, не получалось ни черта! И тогда он определил для себя поведение Инны как бессмысленное предательство, как некий аналог немотивированного убийства, проистекающего из склонностей характера и порочного свойства души. Иных объяснений просто не находилось.
Где-то в груди болело и ныло постоянно. Он кусал по ночам подушку, чтобы подавить стон, днем же твердил про себя: «Она сделала из меня мешок с дерьмом», – и тогда становилось чуть легче дышать, жить, носиться по учрежденческим лестницам с этажа на этаж.
Так болело до самой зимы – изо дня в день – не отпуская: днем тише, ночью сильнее. И вдруг он словно прозрел. Да что он с собой делает? В какую устремляется бездну? Кому нужен весь этот абсурд, сумасшествие, губительная вера в невозможное?
И вот его начало раздражать в ней все. Уже только по инерции продолжал он мысленно гнаться за ней, не представляя, что станет делать, если догонит. Двигала ли им еще любовь или уже ненависть? Страсть или оскорбленное самолюбие?
Он лежал без сна, уставившись в потолок, видел в своем воображении ее лицо, глаза, запекшиеся на морозе губы. И без нее не мог – и страдал с нею рядом. Она дразнила своей близостью и не подпускала, а он, обезумевший тигр, продолжал мчаться, преследовать. Куда и зачем? Первобытное земное чувство сменялось острыми приступами идеализма. Достоинство Степанова-интеллигента глубоко оскорбляли и ранили необузданные низменные порывы, обнаженные звериные клыки. Он с радостью подпилил бы их, но тигр – увы! – не давался, дабы выжить в процессе дальнейшей эволюции…
Спустя какое-то время после прихода триэсовской компании в дом, его жена сказала:
– Знаешь, мне понравилась твоя аспирантка. По-моему, она очень мила, хотя и несколько простовата.
Да, Дине хватило ума не отозваться дурно о сопернице. Вздумай она сказать: «Как ты посмел привести в дом эту…» – и он бы наверняка сорвался, ушел куда глаза глядят.
А тут жившее в нем до сих пор представление о прекрасной Инне само по себе вдруг отделилось от него, точно мыльный шар от соломинки, чуть отлетело в сторону и лопнуло. Он вдруг обнаружил дефект в собственном зрении, вопиющую нелепость своего поведения и теперь, прозрев, воспринимал минувшее как красочный сон. Если что и связывало его еще с Инной, то эта связь из плотской, горячей, живой перевоплотилась в почти эфемерную, умозрительную, и то, что пока болело, было, наверно, только остаточной памятью.
Женщины перестали существовать для него. Желания угасли. Он просто умер, хотя никто этого не заметил, даже Инна, продолжавшая делать все возможное, чтобы изуродовать их отношения до неузнаваемости. Точно она задалась безумной целью до основания разрушить едва построенное, погубить ту крошечную планету, зачаточную цивилизацию, которую они пытались было создать в далеких предгорьях Эльбруса.
Все близилось к завершению. К печальному, противоестественному концу.
Тянулись нескончаемые переговоры с начальником отдела о судьбе кетенов. Сергею Сергеевичу предлагали уже самому найти формальные основания для закрытия темы.
– До каких пор вы собираетесь упорствовать? – недоумевал Сирота.
– Пока кто-нибудь не докажет однозначно, что кетены вредны.
– Опять двадцать пять!
– Согласитесь, это не довод.
– В таком случае, – нахмурился Игорь Леонидович, – мне придется доложить о вашем отказе Самсону Григорьевичу. Пусть сам разбирается. Не пойму, почему все же вы не хотите?..
– Просто никак не могу забыть, ч т о и к а к говорилось о кетенах еще недавно. Какие были статьи в газетах. Какие передачи по радио и телевидению…
– Что же тут удивительного, Сергей Сергеевич? Тогда была другая ситуация. А сейчас – несвоевременно. Признайтесь, вами движет… личная заинтересованность? – доверительно спросил Игорь Леонидович.
– Разумеется.
– Я не о том… Ваша аспирантка… – Игорь Леонидович, казалось, смутился. – Вопрос деликатный… Скажите… ммм… у вас с ней…
– Прекрасные отношения.
– Понимаю. Мда. Ммм… Не более?
– Да вы что, Игорь Леонидович! – Сергей Сергеевич улыбнулся открытой, простой, несколько даже грубоватой улыбкой. – Ну а если и более? Это ведь моя, а не чья-нибудь еще аспирантка.
Мужчины расхохотались. Игорь Леонидович достал платок, высморкался, будучи теперь уже вполне уверен, что ничего, угрожающего спокойной жизни отдела, не происходит в степановской лаборатории, поскольку о предосудительном т а к не говорят. А Сергей Сергеевич с грустью подумал, что еще месяц назад он бы, наверно, и не смог сказать т а к. Сейчас же благодушно посмеивался вместе с Игорем Леонидовичем, и ни один блюститель институтской нравственности не заподозрил бы его в чем-либо недозволенном, из ряда вон выходящем.
«Вот и конец, – сказал он себе, покидая кабинет начальника. – Теперь-то оставят нас наконец в покое? Конечно, все это отвратительно, но ведь она первая предала».
И хотя злые языки какое-то время еще поговаривали, что кетены были придуманы исключительно для кандидатской диссертации степановской любовницы, пищи для подобных разговоров с каждым днем становилось все меньше, и наступил час, когда она совершенно иссякла.
Дина с тревогой отмечала перемены в муже после его возвращения из приэльбрусской командировки. Он исхудал, осунулся, остались одни глаза. Сергей Сергеевич шутил, внушая жене, что причиной всему – кетены, что, метаболически превращаясь в другие соединения, они-де оказывают вовсе не вредное, а полезное действие на организм: активизируют умственную деятельность и обмен веществ, способствуют удалению шлаков – и плел что-то еще в том же духе, пересказывая то бредовые идеи Аскольда Таганкова, то не менее бредовые – Ласточки насчет ограничений в еде. Мол, и домой-то к себе он пригласил всю честную компанию лишь затем, чтобы показать Дине, каким худым стал также и Валерий Николаевич, как мало и избирательно он теперь ест.
Что-то Дина чувствовала, что-то знала, о чем-то только догадывалась. Разумеется, институтские слухи не обходили ее стороной. Но она слишком любила, уважала и ценила Сергея, чтобы изводить его мелочной ревностью. Вернувшись из Приэльбрусья, Триэс сказал, что запрашивал деньги по телеграфу для Сумма. Она не поверила, но виду не подала. С Андреем Аркадьевичем у нее были не настолько близкие отношения, чтобы спросить запросто, а проверять, выяснять через третьи лица Дина считала для себя унизительным.
Так они прожили остаток лета, всю осень и первую половину зимы. Сергея Сергеевича и Инну уже ничто не связывало, а Дина по-прежнему продолжала молча тянуть лямку подозрений и неуверенности в завтрашнем дне. Точно слепая лошадь, вращающая колесо, она послушно ходила по кругу, в то время как погонщики давно ушли, позабыв о ней, и ее каторжная работа с тех пор потеряла всякий смысл.
3. В ЛАБОРАТОРИИ
Когда Гурий Каледин высказал профессору сгоряча свои претензии, он говорил о действительно наболевшем. Возбужденное состояние, в котором он находился, лишь помогло вырваться наружу горьким словам неприкрытой истины. И ультиматума не испугался. Но стоило им троим – ему, Инне, Валерию – выйти на темную улицу, как многое из им сказанного показалось сомнительным и несправедливым. То, в чем еще вчера был уверен Гурий, на что готов был опереться в своих неопровержимых доводах, оказалось трухлявой палкой. Недавняя правда обернулась фальшью, и было непонятно, как теперь жить дальше. Что, если действительно придется уйти из лаборатории?
Рядом шли его товарищи по работе – единственные близкие люди. Они и еще Триэс, больше у него никого не было. Гурий пошатнулся, сделал несколько семенящих шагов, сошел с асфальта и побежал по траве, ощущая себя уже не человеком, а отбившимся от стаи волком. Он бежал мелкой трусцой в сторону леса не оглядываясь, пригнувшись к земле, пока не стукнулся обо что-то твердое. Горячая волна ударила в голову, унесла все мысли.
Теперь он стоял и плакал, как маленький, обняв ствол корявого дерева, о которое ударился в темноте. До отвращения стало жалко себя. Жизнь прошла мимо. Крови потерял много, столько угрохал лет, а в результате остался один. Лишний человек, никому не нужный. Ни одной собаке.
Слизнул с губ что-то мокрое, соленое, и почувствовал жгучий стыд.
– Как же теперь? – все шептал он, навалившись на кого-то всей своей тяжестью, чувствуя осторожные прикосновения чьих-то рук.
Пытался подавить вырывавшиеся рыдания, но горло само спазматически сжималось, исторгая жуткие утробные звуки.
Дома он принял холодный душ, надел лучший костюм и рубашку с галстуком. Подошел к зеркалу, увидел страшную физиономию, воспаленные глаза, огромный кровоподтек на лбу, расцарапанную до крови щеку. Просидел в ожидании утра не сомкнув глаз.
На работу отправился не позавтракав, готовый к сочувственным взглядам и всеобщему презрению. Дал себе слово все вынести, все стерпеть.
Следом за ним пришел в лабораторию Ласточка. Потом Инна.
– Привет!
– Привет…
Словно ничего не случилось.
Явился Триэс:
– Доброе утро.
«Доброе утро», «здравствуйте», «доброе утро, Сергей Сергеевич», – вразнобой прозвучали голоса.
Триэс принялся разбирать почту на столе. К нему подошел Гурий.
– Сергей Сергеевич, простите меня, если можете.
Профессор взглянул на Каледина. Какое-то время внимательно рассматривал синяк на лбу, новый костюм, галстук.
– Хорошо, – сказал наконец очень спокойно.
Инна, Валерий, лаборантки то ли слышали, то ли нет этот короткий разговор. Каждый был занят своим делом.
В связи с кампанией по экономии электроэнергии в Лютамшорском районе, силовую линию ровно в пять часов отключали. Инна попросила Триэса поговорить с главным инженером института о том, чтобы по вечерам в лаборатории оставляли включенной вытяжную вентиляцию.
– Работать одной? Никто не разрешит. И прежде всего – техника безопасности.
– Всегда кто-нибудь задерживается. Днем ведь нельзя…
Сергей Сергеевич знал это не хуже ее. Стоило кому-нибудь из Правой лаборатории учуять запах кетенов, и разразился бы грандиозный скандал. Так что приходилось фактически тайно ставить опыты, когда соседи точно по звонку надежно запирали дверь своей комнаты до следующего утра.
– Кто-то еще должен быть оформлен официально.
– Запишите меня, – попросил Гурий.
– Ладно, пока договоримся о месяце. Там видно будет.
Этот месяц многое определил. Гурий и Инна, по существу, остались одни и проводили в лаборатории почти все время – только ночевали дома. Триэс приступил к сбору материалов для монографии и теперь неделями пропадал в библиотеке, а Ласточка, когда у него родился четвертый сын, оформил очередной отпуск.
В их отсутствие Гурию приходилось не только просматривать текущие письма, но и готовить ответы на них. Как-то из отдела информации поступила служебная записка с просьбой дать предложения по усовершенствованию институциональных структур. Гурий отправил было ее в мусорное ведро, потом спохватился, достал из помойки, тщательно расправил и положил на стол начальника. Узнав об этом, Триэс, однако, полностью поддержал и одобрил тот ход, который первоначально дал Гурий вышеозначенной бумаге.
Время от времени появлялся Ласточка, занимал деньги и уносился в Лютамшоры за снаряжением для грудного ребенка.
По утрам Гурий вместе с лаборантками занимался кротонами, которые с некоторых пор конспирации ради они стали называть б у т о н а м и. По окончании же рабочего дня, когда обе лаборантки исчезали, а за стеной раздавался характерный щелчок замка Правой лаборатории, Гурий и Инна целиком отдавались нелегальным алхимическим таинствам. Вообще стоило институту затихнуть, как возникало умиротворяющее, сладостное чувство дома.
Лишь теперь, постоянно обращаясь к Гурию за советами и практической помощью, Инна смогла оценить его дар прирожденного экспериментатора. Это был уже другой человек, совсем не тот, кого она знала раньше, – любезный, предупредительный, отзывчивый. Он собирал для нее сложные приборы, сочинял какие-то хитроумные приспособления, всегда был готов предложить воспользоваться своими результатами. Из вечно голодного волка, можно сказать, прямо на глазах у Инны Гурий Каледин превращался в эдакого добропорядочного, задумчивого, немного флегматичного пса. Ежедневный двенадцатичасовой труд оказывал на него самое что ни на есть облагораживающее действие.
Сколь ни было удивительным преображение Гурия, ему при желании все-таки можно найти разумное объяснение. А вот как удалось Инне после злополучной истории с теткой не только поправиться, приобрести прекрасный цвет лица, но и расцвести в истинном смысле этого слова после целого месяца напряженнейшей работы во вредных условиях химической лаборатории?
Уж не в кетенах ли и впрямь таилась причина удивительных перемен? Но почему тогда столь разно действовали они на людей: одни худели, другие полнели, тогда как третьи страдали от головной боли и падали в обморок?
ГЛАВА XVII
ИЗМЕНЕНИЯ. ПЕРЕВОДЫ
Кажется, кто-то из древних сказал: «Изменишь одно – переменится и другое». Но существовала ли причинно-следственная связь между похудением Гурия Каледина и поправкой Инны, которая, безусловно, ей шла; между некоторыми изменениями в руководстве Института химии и прекращением обесцвечивания глаз у сотрудниц Правой лаборатории? Широко известно, что некоторые крупные изменения способны вызвать мелкие перемены – и наоборот, однако кто взялся бы категорически утверждать, что Гурий похудел лишь потому, что не мог утолить свой бешеный аппетит, а Инна поправилась из-за склонности некоторых женщин к полноте в определенном возрасте? Во-первых, Инна еще не достигла того возраста, а во-вторых, она ежедневно приносила из дома еду и подкармливала Гурия, который, однако, тоже теперь уверял, что много есть вредно.
Таким образом, пока безродный волк превращался в породистого домашнего пса, Гурий Каледин понемногу превращался в Валерия Ласточку, ибо «есть вредно» – были, безусловно, его слова.
Менялось все: вывески на дверях кабинетов, наименования отделов, их численность, неустойчивая осенняя погода, сами люди, характер их служебных взаимоотношений, и даже намертво приклеенная к кафельной стене одного из отсеков лабораторного корпуса бумажка с корявой надписью от руки: «Убедительная просьба не безобразничать в туалете» – оказалась сорванной – видимо, в связи с тем, что безобразия наконец прекратились.
Ревизоры закончили нелегкую свою работу и удалились, а заведующий отделением товарищ Белотелов Самсон Григорьевич все продолжал худеть, хотя ни в какой физический контакт с кетенами не вступал и худеть ему дальше было решительно некуда.
Бывший футболист Викентий Петрович Белоуков, как уже говорилось, тоже переменился и, по мнению большинства сотрудников, – к лучшему. Он стал замечательно вежлив, терпелив, терпим и внимателен к посетителям. Он первым здоровался, невзирая на ранги, обращался к сотрудникам на «вы», прекратил проводить разъяснительные и воспитательные беседы, безропотно подписывал любые бумаги, и горделивое удивление на его лице сменилось устойчивым выражением неиссякаемого дружелюбия.
Вопрос о злоупотреблениях при строительстве институтских дач повис в воздухе. Даже наиболее осведомленным и проницательным он казался неясным и темным. И пока вопрос висел, точно шаровая молния, залетевшая в комнату, пока заместитель директора по общим вопросам и заведующий отделением сидели на своих казенных местах, а их подчиненные – на своих, пока сохранялось это состояние неустойчивого равновесия, обе палаты представителей, верхняя и нижняя, проявляли должное взаимоуважение и выдержку. Со стороны же казалось, что ничего особенного не происходит.
Однако вскоре бесследно исчез куда-то Самсон Григорьевич Белотелов. За ним – почти сразу – Викентий Петрович Белоуков. Первый по общественной линии, второй по административной заправляли строительством институтских дач. Того и другого как ветром сдуло. Говорили разное: и что Самсон Григорьевич уволился по собственному желанию, и что его по запросу сверху перевели на работу в другое ведомство. Иные искали причину в резко ухудшившемся вдруг состоянии здоровья Самсона Григорьевича. Во всяком случае, сведения о том, что врачи якобы предписали ему переехать в иной климатический пояс, были почерпнуты, кажется, из самых достоверных источников. А острые языки тем временем уже пустили гулять по всему институту крылатую фразу: «Маляром был – маляром и остался», – хотя вряд ли первая рабочая профессия Самсона Григорьевича имела прямое отношение к его очередному служебному переводу. Но самым, пожалуй, невероятным был пущенный кем-то слух, что с Самсоном Григорьевичем, предпринявшим уже кое-какие шаги для выделения отдела информации в отдельный институт, директором которого он сам собирался стать, все случившееся было нарочно подстроено. На ученом совете в день его юбилея было специально предложено ходатайствовать о присуждении ему почетного звания, и ходатайство это было намеренно не согласовано с членом-корреспондентом Скипетровым, что и вызвало его ярость.
О Белоукове судачили почти то же, что и о Самсоне Григорьевиче, за исключением, может, разговоров о плохом здоровье. Подчеркивали некое якобы издавна подмеченное между ними сходство и уверяли, что «сапог сапогу пара». Поэтому просочившиеся слухи о том, что против Викентия Петровича возбуждено уголовное дело, уже никого не удивили.
Просторный кабинет Самсона Григорьевича пустовал недолго. Его настолько стремительно занял бывший контрольный редактор Никодим Агрикалчевич Праведников, что вернувшийся из отпуска Виген Германович Кирикиас, и без того бледный, побледнел еще больше, узнав неожиданную новость. Когда же он отправился к новому начальнику выразить свое почтение, его будто вырезанный острым консервным ножом рот изобразил на обескровленном лице некое подобие улыбки. К этому времени в кабинете уже пропылесосили гобелены, вытерли пыль, тщательно почистили бронзовые ручки зубным порошком, вымыли окна, и лунинский историко-архитектурный ансамбль как памятник культуры только выиграл от происшедших перемен.
Кабинет же Белоукова, расположенный в одном из лабораторных корпусов, под нажимом заинтересованных в том лиц вновь решили превратить в химическую лабораторию, поскольку товарищ, назначенный исполнять обязанности нового заместителя директора по общим вопросам, уже имел собственный кабинет. Потребовалось лишь заменить табличку.
И вот в прежние владения Викентия Петровича вновь вторглись рабочие, начали извлекать из подполья и застенья старательно упрятанные ими же концы арматуры. До глубокой зимы оттуда доносился стук молотков, звон пил, визг электродрелей. Рабочие таскали в спешном порядке изготовляемые в столярных мастерских детали вытяжных шкафов, несколько месяцев назад неосмотрительно выброшенных на свалку, канализационные дренажи, газовые и водопроводные трубы. Бывший кабинет вновь приобретал облик бывшей лабораторной комнаты, в которую вела теперь белая меловая дорожка, натоптанная мужчинами и женщинами в перепачканных комбинезонах. Потом покрытый лаком и все еще посверкивающий паркет застелили линолеумом, в комнату вернулись химики, но никаких знаков отличия долгое время не появлялось на наружной стороне двери, и в том таился глубокий смысл. Все длилась и длилась затянувшаяся минута молчания. Институт прощался со своим прошлым, устремляясь в неизведанное будущее.








