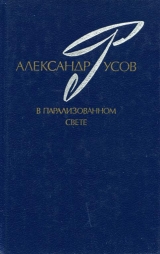
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 45 страниц)
Весну, парень, мы проскочили. Как бы и не было никакой весны.
Я что-то не понял насчет молодой зелени.
Это неважно, Телелюев. Ты не отвлекайся, греби. Двухвесельная байдарка требует от партнеров полной согласованности движений: взмах – гребок, взмах – гребок. Вон, гляди, как Индира ритмично машет своим.
Какая еще байдарка?
Неужели забыл? По окончании десятого класса твой Отец организовал байдарочный поход по реке Великой и взял тебя с собой. А ты позвал Индиру. Она согласилась, потому что у вас к тому времени все уже было решено. Ваши чувства, хочу я сказать, были крепче, чем степные дубки, и теперь вы плыли вдвоем по направлению к открытому морю, потому что Индирины родители, накопив положительный опыт ваших общений – совместного просмотра кинофильма «Карнавальная ночь» и занятий по черчению, – смело отпустили ее с тобой в дальний путь, на долгие года.
Однако эта ее героическая попытка приобщиться к туризму и уступка тебе, Телелюев, лишь подтвердили известное: Индира не создана для жизни без элементарных коммунальных удобств. Стоило, например, зарядить дождю, как она забиралась в палатку и горько сетовала на то, что так бездарно проходят ее каникулы. Палатки стояли на высоком берегу пустынного озера, вода жемчужно мерцала, с еловых веток капало, далекий лес растворялся в туманной дымке, иссушенная жарким июнем земля жадно впитывала влагу, а Индира рыдала, уткнувшись лицом в надувную подушку, потому что где-то было сейчас тепло, ярко светило солнце, лениво плескалось море, на пестрых раскаленных камушках млели отдыхающие. Там была настоящая счастливая жизнь, тогда как здесь пляжный сезон утекал с каждой каплей дождя. А в солнечные дни она любила часами неподвижно лежать на спине, свободно раскинув руки, потом переворачивалась на живот, отстегивала лямки лифчика, чтобы на спине не осталось полоски, спускала, насколько позволяло приличие, нижнюю часть купальника, являвшую собой равнобедренный треугольник с очень тупым углом в вершине, и остается загадкой, как выдерживало ее слабое здоровье подобную ультрафиолетовую и инфракрасную нагрузку. Это явно противоречило всем современным представлениям медицины, но тем не менее именно в такие вот жаркие дневки, когда вы никуда не плыли, она чувствовала себя превосходно. В такие именно дни она обычно начинала убеждать тебя в том, как вам всегда бывает хорошо вместе, и особенно сейчас, на отдыхе, хотя это и не вполне соответствовало истине. Во всяком случае, хорошо тебе с ней было не всегда, однако ты полагал, что причина того заключается в тебе самом: не умеешь отдыхать. Сам ты любил движение, а во время стоянок одуряющая пустота и мучительное ощущение бессмыслицы овладевали тобой. Из веселого, смешного и смешливого мальчика ты превращался в бирюка и брюзгу.
Зато во время плавания ты чувствовал себя человеком. Река Великая начиналась как маленький обыкновенный ручеек, потом шла вереница озер, за ними – пороги, которые, надо сказать, вы преодолели с честью. В особенно узких, а также малопроходимых местах ты вылезал из байдарки и проводил ее по воде, держась за корму, веля Индире «сушить весла», а если проход между прибрежными кустами оказывался слишком узким, Индира укладывала свое двойное весло на брезентовую деку, вдоль байдарки, придерживала его одной рукой и чуть нагибалась, чтобы ветки не хлестали по лицу.
Ты шел по пояс или по горло в темной торфяной воде, толкал перед собой байдарку с Индирой, а когда дно уходило вдруг из-под ног, начинал работать ногами, по-прежнему держась обеими руками за корму, как учащийся плаванию новичок – за доску.
Один порог оказался особенно трудным. Вода оглушительно бурлила, закручивалась воронками, пенилась вокруг валунов. Ты снова покинул байдарку, и вы так распределили между собой роли: ты постараешься провести байдарку по узкой, извилистой струе быстрой воды, а она будет подгребать или, при необходимости, тормозить, «табанить» веслом, помогая тебе. Опасность заключалась в том, что если байдарку развернет и она застрянет, преградив путь воде, то образуется что-то вроде плотины, и за какие-то секунды ее может запросто переломить пополам о валун, будто сухую ветку о колено, или захлестнуть водой и потопить.
Итак, ты выпрыгнул из байдарки, немного не доплыв до того места, где грохотало, бурлило, кипело и пенилось, мысленно осенил себя крестным знамением, скрепил сердце мужеством, и вы двинулись вперед. На этот раз ты шел по грудь в воде не сзади, а сбоку – тут важно было укоротить плечо рычага, не дать силе течения развернуть верткий челн на девяносто градусов. Камни были скользкие, течение быстрое, ты едва держался на ногах, с трудом удерживая байдарку, а когда вошли в самую зону бурления, ты и вовсе перестал что-либо соображать, только, помнится, стоял враскорячку и орал, стараясь перекричать шум воды:
– Табань! Левым табань!
В это мгновение ты почувствовал сильный удар по голове, искры посыпались из глаз, и где-то в мозгу мелькнуло, что это тот самый соседский мальчик врезал тебе кочергой по башке, рассек до крови, и потом на том месте остался белый шрам, который ты впервые увидел в зеркале, когда перед школой тебя постригли наголо.
Потеряв равновесие или даже сознание, ты шлепнулся в воду и очнулся лишь на середине реки, за перекатом, когда вместе с байдаркой вас отнесло далеко вперед.
– Бог мой, Индира, – сказал ты, отфыркиваясь и потирая ушибленное место, – разве можно размахивать так веслом?
Хорошо то, что хорошо кончается: у тебя даже шишка не вскочила на голове. Вы причалили к берегу, дожидаясь остальных. Те же, кому не удалось столь успешно пройти порог, в течение нескольких дней сушились, чинились и приводили себя в порядок. Индира тем временем загорала, а ты ловил рыбу.
Всякий раз, стоило поплавку начать дергаться, тобой овладевал азарт – почти как при игре в карты с Тунканом, которому ты проиграл в свое время целую коллекцию марок. Охваченный радостным возбуждением, ты ждал, когда поплавок резко уйдет на глубину, тотчас подсекал и, ощутив на конце лески приятное упругое сопротивление, плавно, но стремительно поводил удилищем вбок и вверх. Едва же из воды выскакивали, серебристо трепеща и круто изгибаясь в воздухе, плотва, окунь или подлещик, едва эти сумасшедше бьющиеся, исполненные жажды жизни и немого страдания существа оказывались в лодке у твоих ног, весь азарт куда-то пропадал, и, снимая рыбу с крючка, выдергивая иногда вместе с кровоточащими жабрами стальное жало из судорожно хватающего губительный воздух рта, ты вынужден был решительно заставить себя подавить жалость и протест против собственной жестокости, нарочито ленивым жестом опустить правую руку в воду, чтобы смыть налипшую чешую, кровь и слизь. Затем ты доставал из жестяной банки одного из присыпанных влажной землей дождевых червей и, опять-таки себя преодолевая, старательно насаживал его, извивающегося, на крючок с приставшими следами былой приманки.
Все еще трепетало, возмущалось, боролось и болело в тебе, когда ты подносил ведро с рыбой к пылающему костру, и пока твое рефлектирующее сознание отражало, переживало, осмысливало проблемы жизни и смерти, случайности и необходимости, Индира, ловко разделав рыбу, успевала поставить жарить ее на большой сковородке.
Все рассаживались вокруг костра, обжигаясь, хрустели поджаристыми корочками, осторожно отделяли рыбьи скелеты, бросали их в огонь и нахваливали Индирино кулинарное мастерство.
Индира загорела быстро, умудрившись не оставить на теле ни одного белого пятнышка с помощью виртуозного искусства полурасстегиваний, подтягиваний, подворачиваний, прикрываний и обнажений. С собой из Москвы она взяла множество блузок, кофточек, юбок, сарафанов, купальников, шляпок, шапочек и теперь переодевалась несколько раз в день, вызывая молчаливое недовольство твоего Отца. От озерно-речной влаги ее волосы закручивались в мелкие кудряшки, и она становилась похожа на негритянку-альбиноску. Чтобы вновь превратиться в индо-европейскую девушку, Индира устраивалась где-нибудь поудобнее на пеньке, раскрывала тяжелую пудреницу, критически, но не без удовольствия, разглядывала себя в маленьком круглом зеркальце, брала лежавшую у нее на коленях щетку для волос, любовно расчесывала каждую прядку, изучала каждое пятнышко на лице, что-то долго поправляла, припудривала, замазывала, разглаживала, потом принималась обтачивать пилкой ногти, и эти медитативные священнодействия почему-то раздражали уже не только твоего Отца, но и тебя.
Позволь вопрос, дружище. Что собой представляла пудреница?
Издали она походила на какой-нибудь старинный медальон, но на самом деле была из простого металла. Гостеприимнице Мироносице ее недавно подарил Поклонник, о чем по большому секрету в знак полного доверия и любви сообщила Индира.
Как же мог ты считать в таком случае честными, справедливыми и целомудренными руки девушки, любовно державшие дурно пахнувшую дешевым металлом пудреницу, подаренную ее матери чужим мужчиной при наличии бесконечно преданного ей мужа Вахлака? Почему не бежал тотчас, не уплыл в одиночку по реке Великой?
Ладно. Довольно. Меняй пластинку. Надоело. Честное слово. Почему, почему… По кочану да по капусте, понял?
С какими же все-таки трудовыми достижениями ты подходил к окончанию школы, Телелюев? С какими итоговыми оценками?
Преимущественно с пятерками. Четверок мало – может, одна-две. Но на медаль я не тянул: слишком поздно взялся за ум. Устойчивая четверка по географии. К тому же русский, литературу и математику я тоже на «отлично» не знал, хотя и имел пятерки. Золотую медаль в классе получил один Бубнила Кособока. Серебряные – Херувим, Лапа, Тункан.
Как складывались ваши дальнейшие отношения с Индирой?
Все было у нас очень хорошо. Твердая уверенность в завтрашнем дне – это главное.
Но ведь что-то продолжало тебя мучить, раздражать в ней? А ее, очевидно, – в тебе?
Недостатки присущи каждому. Отдельные слабости. С ними нужно бороться. Тут важно отделить основное от второстепенного. Когда любовь крепка, ей не страшны никакие невзгоды. Генеральная линия нашей дружбы была правильной. Остальное зависело от нашей совместной работы над ошибками.
Значит, все-таки ты любил ее.
Да, все у нас было прочно.
Я слышал это уже много раз. Скажи, почему ты вел себя так, будто уже дал честное благородное слово жениться на Индире сразу по достижении совершеннолетия?
Такого слова я не давал, но все у нас было решено Мы навсегда вместе.
Что значит навсегда?
Навсегда – это значит навсегда.
Но ты же неглупый мальчик, интересовался философией. Тебе должны быть знакомы категории абсолютного и относительного.
То, что мы любили, не подчинялось философии. Диалектика тут не действовала.
Почему?
Этому научил нас Главный Учитель.
Хочешь сказать, что любовь для вас была чем-то вроде замкнутого лабиринта: вход есть – выхода нет?
Что-то вроде.
Ну а корень квадратный из 1800 тебе удалось извлечь?
К сожалению, нет.
Будь у тебя в то время электронный калькулятор, который есть теперь почти у любого школьника, ты сделал бы это без труда, одним нажатием кнопки.
В то время нас учили считать только в столбик.
Ну хорошо. А как с общественной работой?
Нормально.
В выпуске классной стенгазеты участвовал?
Да.
В сборе металлолома?
Конечно. Мы с Херувимом вытащили из двора одного дома старую батарею отопления. Едва доволокли. Зато вышли победителями соревнования. Батарея весила около полутора центнеров.
Какие еще нагрузки?
Недолго был пионервожатым в младшем классе.
Тут в характеристике написано о твоей старательности…
Я старался.
Молодец, Телелюев. Получается, что в десятом классе ты все-таки достиг тех высот, которых Индирова достигла в восьмом. И в социальном плане – в плане успеваемости и общественного роста, я имею в виду, – догнал ее. Куда собираешься поступать?
Наверно, в химический…
Почему?
Ну как? Все идут. Химия решает все. Сплошная химизация. Конкурс в институт – двенадцать человек на место.
Не такой, между прочим, большой. А Индирова?
По-моему, она еще не решила.
Такая способная, прилежная, разумная, рассудительная девочка – и не решила? Вот-вот начнутся экзамены на аттестат зрелости.
Ее освободили от экзаменов.
Освободили?
Кажется, по состоянию здоровья.
Что с ней?
Сердце… Уши… Не знаю толком. Хотя больной она не выглядела, какую-то справку принесла.
Но на выпускном-то вечере присутствовала?
На выпускном – да. Пришла в таком замечательно пышном нейлоновом платье. Очень модном. Нейлон в 1958 году – представляешь? А на время выпускных экзаменов уезжала.
Куда?
Отдыхать.
То есть как?
В Шатурский район. Она написала оттуда три письма.
Ты сохранил их?
Вот.
Дай взглянуть.
11.6.58
Милый мой Тиль!
В какую же даль я заехала! Немного грустно началось мое первое самостоятельное путешествие.
Если бы ты знал, какой здесь холод! Я не спала почти всю ночь. Погода отвратительная, деревня имеет грустный вид: совсем нет зелени, и какая-то вся серая, бедная.
Робсон поет по радио песню «Для тебя». «Прелесть, прелесть моя любимая…» Тиль, мне скучно, хочу к тебе, милый, любимый!..
Мне хо-л-лод-но… Маленькая Индирочка хочет тепла… Веришь, Тиль, мне так грустно.
Хочу к тебе… Напиши хоть строчку…
Прости меня за этот бред, но я так замерзла, что ничего не соображаю.
Твой И н д и р и к
Московская область, Шатурский район
12.6.58
My dear!
Сегодня солнце, и все иначе. Я – глупое, наивное дитя природы. Тиль, какая здесь красота! Дикая великолепная природа! Вчера была чудесная ночь. Такая тишина, что страшно говорить. Здесь только и можно отдохнуть! Знаешь, меня после «московского духа» воздух буквально пьянит. Если бы ты мог приехать сюда хоть на час. Вот были бы «сказки московского леса»!
Под нашими окнами целый день толпы любопытных детишек. Они просто прелестны! Такие чудесные, беззубые мордашки. Все они страшно важные. Одна крошка позволяет называть себя только Иваном Тимофеевичем. Мы сегодня страшно проспали, и я боюсь опоздать на почту. Господин меня понимает? У меня сегодня чудесное, игривое настроение, жаль, что ты там… Я стала шалунья, вот увидишь…
Как твои химия с физикой? Будут пятерки, правда?
Я хочу гордиться тобой, my heart.
Целую, целую, целую…
И н д и р ч и к
Мои письма бросай в печку, чтобы их не стащили и не прочли.
Московская область, Шатурский район
Действительно, трогательные письма. И в то же время не без воспитательной направленности. Что, разве Индира была старше тебя?
На восемь месяцев.
Понятно. Она хотела воспитать достойного мужа. Ну и как, оправдал ты ее надежды? Получил пятерки по химии и физике?
Получил.
А как с английским? Видно, английские слова, встречающиеся в письме, как-то связаны с экзаменом по этому предмету?
С английским тоже все было в порядке.
Что ж, руль ваших отношений находился действительно в надежных руках…
14.6.58
Дорогой мой!
Страшно волнуюсь за твои экзамены. Очень прошу тебя заниматься как можно больше. Теперь это особенно важно, чтобы легче было перед экзаменами в институт.
А я совсем бездельница. Целыми днями гуляю. Кругом восхитительные леса, и так хочется больше быть среди этой девственной природы. Я невыносимо устала от города, от шума и вообще сама не знаю от чего. Прежде у меня никогда не было такого страстного желания побыть в тишине.
Хочется отдохнуть, отдохнуть… В последнее время я стала такая издерганная и слабая. Это, верно, и ты заметил. Как-то не чувствую в себе сил. За десять дней, разумеется, я не отдохну, как хочется, но все равно довольна.
Милый Тиль! Какие здесь удивительные, прелестные вечера. Небо просто сказочное. Я, кажется, уж писала тебе об этом. В Москве мы совсем не чувствуем природы. А я ведь мечтательница и неисправимая фантазерка.
Правда, Телелюечка?
Целую
Твой маленький И н д и р ч и к
Московская область, Шатурский район
А твоя Индира довольно самокритична, ты не находишь?
Она всегда была требовательна к себе.
Стало быть, пока вы там вкалывали, в поте лица готовились и сдавали экзамены на аттестат зрелости, она, так сказать, интересовалась процессом в целом и, в меру сил, вдохновляла тебя на подвиги? Понятно. Дитя природы… И Шатурский район она покинула только затем, чтобы поспеть к выпускному вечеру?
Да. Потом опять уехала.
Куда?
На юг.
Ты ничего не путаешь?
Да нет же, вот письмо.
19.7.58
Моя курортная жизнь, Телелюечка, кажется, будет происходить в Адлере. Мои впечатления от этого городишка очень серенькие. Я ожидала совсем другого. Центр страшно замусорен, но на нашей улице много зелени и довольно тихо. Народу здесь масса, но за все это время я не встретила хоть сколько-нибудь симпатичного лица. Возможно, из-за этого такая грязь: каждый бросает мусор себе под ноги. Меня эти господа особенно выводят из себя в ресторане за обедом: просто противно смотреть.
Умоляю, милый, писать мне чаще. Жду писем со всякими подробностями – прежде всего относительно твоих занятий и вообще тебя.
Адлер
Расскажи про выпускной вечер.
Я уже смутно помню, что мы делали в школе, но ближе к утру отправились гулять.
Скажи, Индира участвовала в церемонии «последнего звонка»?
Да, нас провожали первоклашки, дарили нам маленькие колокольчики на память, а мы им – цветы.
Ну это ты сочиняешь, приятель. Такой обычай: получил распространение позже – наверно, когда кончала школу Пигалица.
Не знаю, как в других школах, но в нашей такой обычай был. Как сейчас помню лицо той девочки с курчавыми волосами, тянувшейся изо всех сил, чтобы повесить красную ленточку с колокольчиком на мою склоненную шею. Она была ужасно серьезная, и от напряжения у нее оттопыривался мизинчик. Она так походила на маленькую Индиру! А тот мальчик с расчесанными на косой пробор волосами, что вешал колокольчик на шею Индиры, напомнил мне самого себя…
Поехали дальше. Занятия в школе кончились. Последний звонок. Пора начинать налаживать новую жизнь, натянуть поводья, взмахнуть кнутом, крикнуть: Н-ноо! Время, вперед!
Кажется, наши часы отстали.
Отстали или убежали вперед?
Что-то стрелок не видно, темно.
Вот нас и мотает в деформированном пространстве…
Сегодня какое число?
Двадцать девятое мая.
Значит, завтра вместе с Дядей Аскетом в преддверии экзаменов на аттестат зрелости ты должен отправиться в двухдневный поход по маршруту Тучково – Звенигород?
Вы встретились на вокзале. Дядя Аскет предстал перед тобой в видавшей виды линялой ковбойке и в белых брюках времен сладостной довоенной курортно-черноморской жизни. Ростом значительно ниже тебя, он был к тому же замечательно худ, что в полной мере выявилось лишь по прибытии на станцию Тучково и даже несколько позже, когда, вынужденные раздеться, вы вброд форсировали стремительную, хотя и мелкую в том месте, Москву-реку. За спиной у дяди болтался рюкзак. Вещей в нем было немного, но любой груз, казалось, заведомо превышал вес носильщика.
В соответствии с исповедуемой им философией, уходящей корнями в ранний эллинизм, Дядя Аскет одевался порой вызывающе плохо, хотя никакого вызова обществу в тех старых белых брюках, заправленных в не менее старые черные носки, заметь, быть не могло. В тот жаркий майский день Дядя Аскет отдал им предпочтение лишь по вполне рациональной причине: светлая материя меньше поглощает солнечное тепло, нежели темная. Вообще твоего дядю до такой степени не заботили условности большого света, что в одну из его самостоятельных туристических вылазок на дачу к знакомым местные мальчишки приняли его за диверсанта и наверняка задержали бы, сдав к у д а н у ж н о, вроде как вы с Бубнилой – того шпиона, если бы не вовремя подоспевшее вмешательство солидных, уважаемых людей, для которых подозреваемый оказался дорогим и почетным гостем.
Он уже тогда мало ел, не ездил на такси и вообще старался обходиться минимальным, хотя у него, как ни у кого, может, другого, была возможность жить иначе. Богатство Дяди Аскета – а был он действительно богат – увеличивалось непрерывно без каких-либо целенаправленных усилий с его стороны за счет непрерывного увеличения разницы между постоянными доходами рядового инженера и все сокращающимися, в силу мировоззренческих принципов, жизненными потребностями. Убежденный холостяк, он надежно, выгодно и с большой пользой для государства хранил деньги, которые ему просто не на что было тратить, в сберегательной кассе. Своим личным примером Дядя Аскет воспитывал у окружающих высокое уважение к жизненной энергии, переведенной в овеществленный общественно-полезный труд. Примерно такой в свете минувших лет видится философия Дяди Аскета. От всех видов роскоши, от всего необязательного он отказался сознательно, с истинным мужеством и, что называется, без противоборства, как Лев Толстой отказался в свое время от мяса, Рэй Брэдбери – от автомобиля, Уильям Сароян от литературных премий… Или кто там еще имел смелость, гордость и мужество от них отказаться?
– Ну что? Давай вперед! – сурово сказал Дядя Аскет вместо приветствия, едва ты приблизился, и, не дожидаясь ответа, сиганул по платформе с такой скоростью, что ты с трудом поспевал, опасаясь потерять в толпе его уже успевшую загореть по весне сверкающую тонзуру, обрамленную венчиком давно не стриженных, легких, как пух, и потому трепещущих на ветру волос.
Ты нагнал его у второго или третьего вагона от головы поезда. Вы вскочили в тамбур. Дядя Аскет дернул вбок скобу двери, но та не поддалась. Ты стал помогать, но дергали вы вразнобой, и дверь все не трогалась с места, будто припаянная намертво. Наконец вы попали в лад, половинка двери стремительно покатилась вправо, и вас понесло вместе с ней.
– Хлюпики, понимаешь, – недовольно проворчал дядюшка, потирая ушибленное место и встряхивая рюкзак за спиной, чтобы поправить лямки.
Рукава его клетчатой пионерской ковбойки казались совершенно пустыми, только жилистые венозные кисти торчали из узких манжет. Вы прошли по безлюдному вагону – дядя впереди, ты следом, – в нерешительности оглядываясь и замедляя шаги, поскольку возможности предоставлялись слишком широкие и многообразные: садись налево, садись направо – все места свободны. Вы дошли точно до середины и остановились. Какое-то время дядюшка колебался, выбирая между солнечной стороной и теневой. Ты обратил внимание на то, что один из черных его носков приспустился, собрался в гармошку, а белые брюки, которые, по идее, должны были элегантно облегать бедра, висели на нем мешком – словно там, внутри, тоже ничего путного не было. Выбрав в конце концов левую, солнечную сторону, вы устроились у окна напротив друг друга и стали ждать, когда поезд тронется. Ты с нетерпением поглядывал на свои недавно тебе подаренные часы «Победа», хотя это и не имело в данном случае практического смысла: времени отправления ты все равно не знал. Постепенно, однако, вагон наполнялся желающими, как и вы, ехать куда-то, и когда свободных мест совсем не осталось, ты вполне оценил дядюшкину предусмотрительность. Видать, пятница была или, скорее всего, суббота: люди целыми косяками отправлялись на дачи.
Вы благополучно добрались до станции Тучково, вышли на платформу, и тут Дядя Аскет достал из пистона своих белых брюк шагомер, очень похожий на карманные часы или на секундомер, но более всего – на тот хронометр, что мы включили с тобой, приятель, около двух учебных лет тому назад, в самом начале нашего правдивого повествования.
Дядя Аскет достал шагомер и отнес руку далеко вперед, чтобы разглядеть его показания. Возраст давал о себе знать, но дядя принципиально не шел к окулисту, тренируя глазные мышцы чтением мелкого газетного шрифта до нестерпимой рези – подобно тому, как ваш учитель Стальная Глотка тренировал свою волю, всовывая два пальца в розетку, находящуюся под электрическим напряжением.
Затем, не покидая загородной платформы, вы стали ориентироваться на местности по карте, извлеченной из дядиного рюкзака, и тут ты горько пожалел, что не захватил с собой офицерского планшета, подаренного Дядей Ромой: вот где можно было использовать его по прямому назначению! Мимо шли дачники с авоськами, сумками, тюками, бидонами и бросали в вашу сторону то сочувственные, то укоризненно-сострадательные взгляды.
Дядя Аскет тем временем уже всесторонне изучал сложенную в несколько раз карту-пятикилометровку, опять-таки отодвинув ее от себя на расстояние вытянутой руки. Он стоял в обтекающей его толпе дачников, наклонял голову то в одну, то в другую сторону и от излишней напряженности глазных мышц даже приоткрыл рот, похожий на черную зияющую дыру. Я хочу этим только сказать, что вопрос о посещении дядюшкой стоматолога-протезиста еще не встал тогда на практические рельсы, хотя его обсуждение велось довольно давно. Твоя Мать постоянно твердила о насущной необходимости проведения определенного объема зубопротезных работ, однако Дядя Аскет всякий раз ловко уклонялся от конкретных решений, терпеливо отводя ее почти неопровержимые доводы, и потребовалось двадцать пять лет, чтобы его поистине мужской стоицизм уступил женской настойчивости.
Пока Дядя Аскет изучал секретную из-за подробного ее характера карту-пятикилометровку, о которой мог бы, наверно, мечтать не только всякий турист, но и любой диверсант, ты разглядывал идущих, спешащих, прогуливающихся в ожидании другого поезда людей и вдруг увидел на платформе девушку, молодую женщину, похожую на Индиру. В то время многие напоминали тебе ее. Видимо, не отдавая себе в том даже отчета, ты постоянно выискивал подобное сходство.
Похожая на Индиру молодая женщина несла петуха за связанные лапы. Была она стройна и хороша собой, а петух имел рябенькое оперение, и красный, налитый кровью его гребешок покачивался в такт ее шагам. Под ворохом перьев петух был весь какой-то неправдоподобно грузный, обмякший, одуревший. Покорный и ко всему равнодушный, он смотрел на перевернутый мир остановившимся глазом, так что ты даже и не сразу догадался, что это живой петух. Только однажды он встрепенулся, что-то хрипло выкрикнул и снова затих, как бы захлебнувшись собственной кровью. Женщина же шла, несколько как будто даже пританцовывая, и деловито сжимала в кулаке желтые древовидные лапы, не обращая на свою ношу никакого внимания, будто это была уже убитая, ощипанная, готовая для употребления домашняя птица.
Сориентировавшись на местности, Дядя Аскет убрал карту. Ты хотел помочь ему вскинуть рюкзак на спину, но он не позволил, устроился в лямках поудобнее и, подобно полководцу, избравшему путь наступления войска, протянул длань в направлении далекого леса.
Вы тронулись в путь, и шагомер Дяди Аскета начал отмерять частые его шаги. Постепенно дачников, идущих с вами по пыльной дороге, становилось все меньше, поселок кончился, начались огороды, поля, а солнце стояло еще высоко, и ничейные собаки мелкой трусцой бегали по ничейной земле, обегая и вынюхивая друг друга. Вы шли на запад, или на восток, или на юг – ты даже этого не удосужился выяснить в процессе ориентации на местности, – и теперь только нескольким собакам оказалось с вами в одну сторону: четырем кобелям с длинными, приземистыми, исковерканными дурной наследственностью телами, обладающими всеми признаками вырождения, и коротконогой белой сучке, похожей на новорожденного ягненка – уже полному выродку. И все эти четверо обхаживали маленькую, то ли кем-то постриженную, то ли изъеденную лишаем собачонку, при этом самый большой и лохматый все стремился подмять ее под себя, но собачка выкатывалась каждый раз у него из-под ног – такая она была крошечная, – а остальные ждали, высунув языки и тяжело дыша.
Вы вышли к реке. Собаки отстали. Чтобы перейти на другую сторону, пришлось раздеться. Влажный песок на берегу холодил ступни, а вода казалась такой прозрачной, что, будто через увеличительное стекло, хорошо просматривалось дно, все в дрожащих солнечных бликах, струящихся водорослях и пульсирующих стайках мелких рыбешек. Было трудно даже себе представить, где успевала вода настолько загрязниться, пока доходила до Москвы. Словно это была совсем другая вода. И другая река.
Ноги невыносимо жгло, но идти из-за сильного течения приходилось медленно, и ты все думал, когда же наконец вы достигнете противоположного берега, хотя еще недавно, по дороге от станции, когда вы взмокли от жары, о таком можно было только мечтать.
Вот тут ты впервые и увидел Дядю Аскета голым, в одних широченных черных сатиновых трусах. Это был самый настоящий скелет, едва прикрытый спереди на груди атавистическими прядками таких же черных, как трусы, волос – вылитый узник концлагеря, который он сам для себя, в общем-то, и организовал. Но ты не знал тогда и не узнал впоследствии ни одного человека его возраста, который бы так редко болел и никогда не жаловался на свое здоровье. Даже теперь, когда Дяде Аскету под восемьдесят, тебе и в голову не придет предложить помочь ему вскинуть рюкзак на плечи. Кому охота выслушивать его грубовато-независимое: «Еще чего!» Случись же вам снова, как четверть века назад, отправиться по маршруту Тучково – Звенигород, ты будешь, сдается мне, снова бояться отстать от него, потеряться на многолюдной платформе Брестско-Белорусского железнодорожного вокзала, и тебе по-прежнему не одолеть без руководящих указаний Дяди Аскета стремительную, мелководную Москву-реку в ее верховьях, не войти самому в ледяную воду, сбивающую с ног.
Вы шли еще, пожалуй, часа четыре, а потом стали искать место для ночлега, и ты был за то, чтобы расположиться поближе к какому-нибудь населенному пункту, потому что в лесу, честно говоря, было как-то жутковато, а Дядя Аскет мудро заметил на это, что человеку бояться можно только людей, и тогда вы углубились в смешанный лес и в наступающих сумерках бросили рюкзаки возле какой-то кочки. Ты зверски проголодался, Дядя Аскет тоже хотел есть, поэтому вы достали жестяную банку кукурузы, открыли ее консервным ножом и съели подчистую – ты даже допил оставшуюся жидкость. Из-за лени или усталости, или из-за страха перед надвигающейся ночью, инстинктивного, животного желания поскорее спрятаться, замереть, костра разжигать не стали, ставить палатку – тоже. Дядя Аскет расстелил ее на земле, вы легли, подложив под головы рюкзаки, и укрылись серым солдатским суконным одеялом.
Ты долго не мог уснуть. Вокруг монотонно звенели комары, и ты счел за лучшее забраться с головой под одеяло. Стало нечем дышать, а комары изнуряюще продолжали звенеть, но только уже чуть приглушенно. Слышались какие-то шорохи. Потрескивали сучья. Мерещились чьи-то крадущиеся шаги. Дядя Аскет лежал рядом совсем неподвижно – будто умер. И уже спустя какое-то время стало невозможно понять там, под глухим одеялом из солдатского сукна, час прошел или целая вечность, и какое сейчас время суток – вечер, ночь или раннее утро. Ты не спал. Лежал с закрытыми глазами, с изболевшими от страха внутренностями и только на минуту забылся, отвлекся и очнулся вдруг в оглушительном гомоне птиц, на благоухающей клейкими листочками поляне, среди солнечных зайчиков и травы, тянущейся к голубеющему сквозь кроны деревьев небу. Куда подевались все твои страхи, Телелюев? Куда занес тебя сон путешественника? Это внезапное превращение гнетущего мрака ночного леса в легкий струящийся свет, комариного ада – в райское порхание бабочек, мотыльков и зеленокрылых мошек останется в твоей памяти надолго – может, на всю жизнь.







