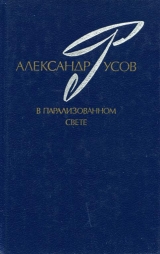
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 45 страниц)
34
В Будапешт Тоник отправился вместе с Платоном. На самолете. Платон по-быстрому оформил его своим секретарем. У писателей есть такое право. На Тонике был теперь синий блейзер, усы он сбрил, одолжил у Антона на время поездки кожаное пальто и выглядел в большом порядке – кого ни спроси. Легкий, элегантный полуспортивный стиль. Во всяком случае, рядом с Платоном в его старомодном потрепанном балахоне с накладными карманами, какой небось уже и в скупку не примут, Тоник смотрелся как настоящий писатель, а Платон был при нем чем-то вроде дядьки, то есть сопровождающего лица. На границе Тоника пропустили сразу – он не вызвал никаких подозрений, а у Платона тут же перерыли весь чемодан. Пограничник долго сверял фотографию в паспорте с его лицом. Такое могло сложиться впечатление, что лицо Платона пограничнику не понравилось. Лицо или фотография. Возможно, то и другое.
Еще не рассвело. Пограничник сидел на дне гулкого короба аэровокзала в застекленной будке, светящейся изнутри зеленовато-голубым, призрачным светом. У Платона был вид настоящего диверсанта, и пограничник, естественно, сомневался в подлинности документа. Платон нервничал. Лоб взмок. Усики прыгали. Тоник тихо сказал пограничнику:
– Он со мной, – и только после этого Платона пропустили.
Интересно, что бы он делал без Тоника?
Прилетев в Будапешт, высадившись и подкатив к зданию, стоящему на краю огромного поля, они оказались в аэровокзале, аэрозале или аэрохолле – в помещении, стало быть, где выдают багаж. Платону все не стоялось, не сиделось на месте. Егозил, нервничал:
– Нас должны встречать! Нас должны встречать!..
– Раз должны, значит, встретят, – рассудил Тоник.
Мол, не суетись, стронцо. А Платон все-таки сорвался, побежал куда-то по узкому, изогнутому коридору, застеленному зеленой дорожкой, вроде как выражающей идею зеленой улицы, отдал тамошним пограничникам паспорт, чтобы поставили штамп, – и был таков. Тоник не торопясь пошел следом. Ему что? У него даже документов не проверили. Сунул только для приличия руку за пазуху – мол, есть у меня документ, – и с концами. Коридор, двери которого закрылись за Тоником автоматически, как в нашем метро, вывел его в большой зал. Тут сразу глаза разбежались. Там пестрит, здесь мелькает. Людей кругом! Что-то по радио передают. Видит: Платон кому-то уже руку трясет. Высокому такому. Курчавому. Тоже в очках.
– Тоник! Кхе! Познакомься! Это Иштван…
«По-русски, стало быть, Иван», – перевел про себя Тоник.
– Очень приятно, здравствуйте, очень приятно… – быстро, будто какой-нибудь натуральный японец, залопотал Иван.
– Привет от Славы Бандуилова, – сказал Тоник.
А тот:
– Спасибо, спасибо, он был у нас тут недавно.
– Я знаю, – сказал Тоник.
– Как долетели?
– Нормально, – ответил Тоник и поинтересовался на всякий случай насчет вещей.
Тут выяснилось, что чемодан, который не получил Платон, остался за сомкнутыми дверями. За границей Венгрии, можно сказать.
Платон – туда. Его не пускают. Мол, где был раньше? Мол, что с возу упало, то пропало. Ауф видерзеен. Ва фан куло! Пересек государственную границу – и сосиску тебе в рот.
Платон мечет бисер, размахивает перед носом стражи багажным квитком. Иван что-то лопочет, забалтывает пограничников по-своему. Шуму! Гаму! Как в цыганском таборе. А их все равно не пускают. Ни того, ни другого. Порядок есть порядок: граница на замке. Двери сдвинуты, черные резиновые шины сомкнуты – иголку не просунешь.
Тоник подходит. Спокойно. Без лишних эмоций.
– Гутен таг. Ундер дер линден. Ке каццо? Ва фан куло. Кеминандо джунчи та. Челентано. Феличита. Товарищ растерялся. Первый раз за границей. Пропустите. Под мою личную ответственность. Он вернется. Ручаюсь. Обратно не улетит.
Нормально так говорит. Главное, убедительно. Те – под козырек. Естественно, пропускают Платона, но только другим путем: в служебные двери.
Минут через пять появляется. Сияющий. Обратно же – с обтерханным фибровым своим чемоданом времен Великой Отечественной войны. Не нашел лучше. Не мог уж новый купить. Писатель называется. Представитель великой державы. Порка мадонна!
Выходят на улицу. Заграница сразу чувствуется. Всякие интересные запахи. Всякие там машины. Яркая расцветка окружающей жизни.
Подходят к стоянке. Иван отмыкает синие свои «жигули-фиат», кладет в багажник перетянутый зелеными брезентовыми ремнями Платонов чемодан.
– Куда теперь? – интересуется Тоник.
– На Байза ут, – говорит Иван и совсем как Тоник, по-заячьи, дергает носом, чтобы поправить сползшие очки. – Потом в гостиницу «Астория».
– Интурист?
Нормальный мужик. Прилично говорит по-русски. Только слишком уж тараторит. Видать, боится, что перебьют, и тогда у него так складно не получится.
Но вот за окнами «жигулей-фиата» качнулся вид, как на цветной импортной фотографии, и пополз куда-то назад. Тонику захотелось курить. Хотя вообще-то он бросил. Так приспичило, что хоть помирай. Тлетворное влияние заграницы – это ясно. Все-таки не выдержал, попросил. Иван протянул импортную пачку, всю из себя такую длинную, красивую, красно-золотую, вроде бы даже надушенную, щелкнул зажигалкой. Тоник припал, затянулся, и город поплыл, закружился в стремительном вихре, будто огромная карусель, а когда немного успокоился – стал вытягиваться к пасмурному небу серой вертикалью, дробясь и измельчаясь внизу цветными пятнышками лиц, вывесок, витрин и дорожных знаков.
Съехали с магистрали, развернулись и притормозили. Колеса «жигулей-фиата» притерлись к тротуару возле какого-то особняка за черной ажурной чугунной оградой. Вышли из машины. Вошли в подъезд. Начали подниматься по винтовой лестнице мимо узких и высоких закрытых дверей квартир. Миновав длинный коридор, оказались в похожем на жилую квартиру учреждении, состоящем из двух или трех просторных комнат. За пишущими машинками сидели две молодые женщины, взглянувшие на вошедших с умеренным интересом. Пахло кофе и чем-то еще. Исключительно импортным.
– Ё напот киванок[53], – сказала одна.
И другая сказала что-то вроде:
– Иванок-киванок, – приподняв симпатичное личико из-за пишущей машинки.
Иштван-Иванок что-то залопотал в ответ. Круглые, вареные, лягушечьи, ватрушечьи слова так и посыпались. Мол, и вас так же. И вас с тем же. Мол, иванок-поткиванок. Мол, иштван кери. Буна зива. Лари видери… И все такое. Мол, раздевайтесь и проходите, товарищи.
Перешли в другую, смежную комнату, как бы закупоренную со всех сторон тяжелыми шторами, мягкой мебелью, пружинистым ковром на полу.
– Пожалуйста, садитесь. Пожалуйста, располагайтесь. Пожалуйста, пожалуйста…
Сели. Утонули в креслах.
Теперь бы уж Тоник точно ни за что не догадался, что это иностранец – так лихо он шпарил по-русски. Две иностранки из соседней комнаты принесли бесцветную шипучую воду в пузатеньких бутылочках. И заодно кофе в маленьких чашках. «Официальный прием», – решил Тоник, закинув для солидности ногу на ногу.
Если честно, то лично он хотел бы жить в Будапеште без всякой программы. Как и у себя – на Строительной. На хрена ему эта программа сдалась! Но Платон что-то вякал насчет ознакомительных поездок по стране, насчет всяких там встреч и культурных мероприятий. Иванок записывал, выдвигал встречные предложения. А потом в комнату приемов, где они сидели, вошел еще один кадр. Тоник даже вздрогнул. Ему показалось, что это Ирэн. Но это оказалась не Ирэн. Вообще Тоник заметил, что все иностранки как-то похожи друг на друга. Девушка подошла к низкому круглому столику, за которым они пили воду и кофе, промолвила что-то на своем иванок-поткиванок и положила белый почтовый конверт прямо перед Тоником.
– На ежедневные расходы, – сказал Иванок.
Платон же сказал только:
– Кхе! – и, не успел Тоник сориентироваться, сунул денежки себе в карман.
Потом, как-то сразу после этого, даже не посидев немного еще для приличия, они снова загрузились в синие «жигули-фиат» и запилили с афигенной скоростью по Будапешту. Совсем, в общем-то, не похожий на обычный, ну в смысле нормальный, наш город, он весь был слеплен из серо-черного пластилина с вкраплениями желто-красно-зелено-золотистых стекляшек витрин и вывесок. День был пасмурный, воздух – мутный. Дрожащая дымка опустилась на всю эту декорацию, затушевала, размыла контуры как бы разомлевших со сна улиц.
«Жигули-фиат» закатились в тесный проулок, справа и слева зажатый почерневшими от сажи домами. Почти в каждом окне пламенела герань. Вжикнул ручной тормоз, щелкнули застежки предохранительных ремней. Клацнули запоры дверей. Они вышли из машины под какой-то вывеской, возле одной из бесконечного ряда нагроможденных друг на друга, постоянно, видно, обновляемых, отдраиваемых витрин. Пахло вкусной едой, сладковатым сигаретным дымом, оттепелью, горелым углем, влажными гиацинтами, очищенными выхлопными газами. Проулок напоминал одну из линий московского пассажа или ГУМа с его прозрачной застекленной вафельной крышей.
Иванок-поткиванок нес впереди чемодан, Платон шел следом, а Тоник – чуть в стороне от них, независимо, помахивая кейсом. Из всех троих он, в общем-то, единственный походил на настоящего иностранца. Выйдя из этого естественного дебаркадера на широкую магистраль, они свернули налево, и Платон первый сиганул в круговорот вращающихся гостиничных дверей. Следом за ним лопасти мельницы слизнули Ивана вместе с фибровым чемоданом. Тоник же нырнул последним – точно под опущенную в воду перегородку, какие устанавливают обычно в открытых бассейнах, чтобы можно было купаться зимой.
Вестибюль гостиницы источал фирменные благоухания и жаркий полумрак, а кругом было много всего написано по-импортному, как внутри во много раз увеличенной для рекламы деревянной коробки из-под дорогих сигар. Иванок-поткиванок вступил в переговоры с администрацией. Платон углубился в заполнение бланков, а Тоник остался без дела – вроде как ни при чем. Как бесплатное приложение к этому стронцо.
Начальство за стойкой выясняло отношения с какими-то высушенными стариками, тихо выражающимися по-английски. Тут же две старые бабки с седыми буклями, одетые под молодых, качали свои права по-немецки. Самый главный за стойкой пожилой начальник, весь в золотых галунах и позументах, лаял со стариками по-английски, шпрехал со старушками, а своими молодцами распоряжался на иванок-поткиванок. Тоник, кажется, уже немного понимал венгерский язык. В общем-то, когда находишься в стране, это вполне естественно. Вот стоящие за барьером в ряд мужики – в таких же точно черных, расшитых золотом адмиральских мундирах, как и их начальник, – щелкают каблуками, когда подходят постояльцы, чтобы сдать или взять ключ, вот выкладывают ключи на стойку, выразительно стуча ими, будто завзятые игроки – костяшками домино.
Тоник дождался удобного момента, когда старики и старушки слиняли. Пришвартовался. Облокотился о стойку.
– Слышишь? Мне надо отдельный номер.
– Пожалуйста?!.
Белые манжеты, черные рукава, золотые галуны предупредительно взлетели, запорхали над барьером. Но тут же стало ясно, что слово «пожалуйста» вовсе не означало готовности удовлетворить законную просьбу Тоника. Глаза у адмирала были пустые и невидящие, как у боксера при нокдауне. Было очевидно, что он не понял просьбы. Небось только слово «пожалуйста» он и знал по-русски.
Кто-то из черных мундиров, наподобие хорошо смазанных поршней скользивших туда-сюда на втором плане, склонился к его уху и, неотрывно глядя на Тоника, что-то шепнул. Перевел, видать, с русского на иванок-поткиванок. Адмирал живо взглянул в ту сторону, где приглашенный в страну писатель Усов продолжал прилежно трудиться над бланками. Потом снова перевел взгляд на Тоника и как-то двусмысленно улыбнулся. Даже усмехнулся.
– Там все улажено!
И замахал руками, перекрещивая их, будто пытался остановить попутную машину или протирал разделявшее их с Тоником запотевшее стекло, которого на самом деле не было. Мол, сосиску вам в рот, товарищ Тоник. Ва фан куло!
– Не имеете права, – сказал Тоник по возможности твердо, но голос его при этом все же дрогнул.
– Все улажено, – повторил адмирал и отвернулся, как если бы Тоник был не иностранцем, не гостем, не представителем великой державы, а пустым местом, то есть как если бы его и вовсе не было.
– Двух мужиков вместе не селят, – настаивал Тоник. – Не положено.
Об этом интересном международном правиле рассказывал ему Слава Бандуилов. Мол, вместе селят только голубых.
– У вас можно, – очень неясно выразил свою мысль адмирал.
– Зато у вас нельзя! – категорически отрезал Тоник. – Я знаю. Вот так.
Портье ударил ладонью о ладонь, отряхнул пыль. Стряхнул, что называется, прах. Мол, разговор окончен, дорогой товарищ. Мол, ва фан куло, каццо!
– Порка мадонна! – возмутился Тоник. – Да кто ты такой?
Смуглое лицо адмирала побледнело. Адмирал полез во внутренний карман кителя, извлек шикарный бумажник из крокодиловой кожи, выложил на барьер визитную карточку. Тоник мельком взглянул на нее: Бела Будаи. Отель «Астория». Адмирал.
– Ладно, – сказал Тоник. – В гробу я видал таких адмиралов. – У нас в цирке они занавес отодвигают и подметают манеж. Поня́л?
Но по плывущему взгляду Белы Будаи видно было, что он ничего не понял. Не осознал.
– Пожалуйста?! – только и повторял он, как попугай.
И только позеленевшие от злости губы раздвинулись в нехорошей улыбке.
«Культурный нашелся! – тоже зло подумал о нем Тоник. – Porco Giuda![54]»
…Их с Платоном апартаменты, однако, оказались в большом порядке. Туда вели белые высокие двойные двери с изогнутой латунной ручкой, которую, как и все здесь, видать, каждый день драили зубным порошком. Холодильник, оформленный под деревянный шкафчик, ломился от импортной выпивки. Две широкие, но непривычно короткие кровати были вплотную придвинуты друг к другу. Журнальный столик и два кресла с высокими спинками стояли поодаль. Как и ребристая подставка для чемоданов с черным громоздким, допотопной конструкции телефонным аппаратом сбоку. Такой высокой рогульки, на которую кладется трубка, Тоник отродясь не видел. Дверей в номере было несколько. Кроме входной – дверцы встроенного платяного шкафа. Столь же высокая и белая, как входная, – дверь во внутренние покои, за которой душ, отгороженный розовой синтетической пленкой, сортир и умывальник зеленого цвета с хромированной арматурой. Куча махровых полотенец на вешалке, а одно даже постелено на полу, рядом с зеленым же унитазом.
Проводивший их в номер Иванок потянул за ремень, болтавшийся возле балконной двери. Загрохотали, опускаясь, жалюзи. Он снова их поднял, демонстрируя местную технику. Огляделся: все ли в порядке? Поморщил нос. Поправил очки. Приоткрыл дверь на балкон.
– Так. Хорошо. Отдыхайте пока. Я позвоню…
И слинял. Что-то, между прочим, было у него общее не только с Тоником, но и с Платоном. «Небось такой же псих», – подумал Тоник.
Их балкон ласточкиным гнездом нависал над улицей. Внизу гремели трамваи. Машины на перекрестке разбегались в разные стороны. Дома дымились, точно оттаивая с мороза. Цветные змейки реклам струились у подножий зданий. Сплюснутые в кляксы, семенили по тротуару фигурки людей.
– Пройдемся? – предложил Тоник, вернувшись с шумного балкона в тихую комнату.
– Который час? Кхе!
– Половина.
– Половина чего?
– Второго, – сказал Тоник.
– У меня деловая встреча.
– Ладно, – сказал Тоник, – как хочешь. Тогда дай немного взаймы.
– Сколько?
Тоник задумался.
– Давай сто.
– Сто чего?
– Ну этих… – сказал Тоник. – Как их?..
Платон отсчитал пять синеньких.
– Только не заблудись. Кхе!
– У меня карта, – сказал Тоник, доставая из кейса карту Будапешта и перекладывая ее во внутренний карман блейзера. – Ты-то когда вернешься?
– Не знаю.
– Учти, тут другое время. И вообще – один больно не разгуливай…
Тоник небрежным жестом накинул чуть широковатое в плечах кожаное пальто, открыл наружную дверь, ступил на мягкую ковровую дорожку, вызвал лифт и остался ждать в полутьме коридора.
Наконец щелкнуло, створки лифта заурчали, поползли в стороны. На пятачке ярко освещенной клетки толпились импортные товарищи.
– Вниз? – на всякий случай спросил Тоник, делая шаг вперед.
– Гоу ту слоу, – ответил тощий старик в светлом, школьного размера костюмчике и ткнул сухим пальцем себе под ноги, прямо в начищенные до зеркального сияния башмаки.
Тоник надавил на кнопку первого этажа. В лифте удушающе пахло импортной парфюмерией.
Кабина вздрогнула, остановилась, и импортные товарищи, все как один, подняли головы, разглядывая загоревшуюся на табло цифру «один». Тоник вышел из лифта первым. Почему-то это был снова его этаж. Ну точь-в-точь его. Он в растерянности огляделся. Та же красная ковровая дорожка, то же белое ведро со щеткой у белых дверей напротив. Откуда ехал – туда и приехал.
Иностранцы переглянулись.
– Айне найн, – сказала гражданка преклонного возраста с голубыми буклями, выкрашенными; видимо, обыкновенными школьными фиолетовыми чернилами, и многочисленными блестящими цепочками на шее.
– Ке каццо? – не понял Тоник.
Старик с зеркальными ботинками снова тыкал иссохшим пальцем в направлении пола. Тоник вернулся в кабину. Старик нажал на кнопку с буквой «F», и лифт снова пополз вниз.
На этот раз они приехали куда надо, в коробку из-под дорогих сигар. Первый этаж, стало быть, был не первым, а каким-то другим. За стойкой регистрации по-прежнему торчал этот стронцо Бела Будаи. Этот каццо в адмиральской форме.
Входные двери прокрутились. Тоник оказался на улице. Все вокруг было каким-то странным, хотя ничего странного вроде не происходило. Чудно́й была зима без снега, воздух с горчинкой, невидящие лица прохожих, дома с потемневшими от дыма и старости стенами. Горизонтально заштрихованные жалюзи окна верхних этажей. Закутки и подворотни, сплошь обвешанные и заставленные вывесками, застроенные витринами, в которых чего только не стояло, не лежало, не висело! Одежда. Украшения. Обувь. Галантерея. Миллионы ярких сувениров во чреве тысяч игральных автоматов. И такое странное состояние, будто пьян, хотя не выпил ни капли. Будто обалденно трезв, хотя и набрался до чертиков. Будто спишь наяву. Или, наоборот, бодрствуешь во сне.
В застекленной будочке на краю тротуара продавали цветы. Будочка была похожа на светофор с тремя одновременно включенными секциями. И внутри этого прозрачного кубика столько топорщилось всего лепесткового, махрового, колокольчатого, белого, синего, красного, желтого, что просто глаза разбегались. Тоник решил купить для Ирэн маленький живой оранжевый подсолнечник. У нас он еще горицвет называется. В общем-то, конечно, не совсем горицвет. Скорее – оранжевая ромашка.
Тоник зашел в киоск. Пожилая, аккуратно причесанная мадам захлопотала вокруг него, залопотала, закатила глаза:
– О, элега́нс!
Мол, губа у вас, месье, не дура, знаете, что взять. И показала три пальца. Мол, три цветка будет в самый раз.
– Пардон, мадам, – ответил Тоник, выдвигая со своей стороны один встречный палец.
Продавщица все поняла. И оценила. Продавщица даже прикрыла глаза, восхищаясь изысканным вкусом Тоника. Мол, подарить один такой цветок – это еще больший элеганс. Это вообще…
Пришлось за такое дело выложить две синенькие. Две из пяти, что ссудил Платон. Тоник, конечно, не ожидал у них тут за границей подобной дороговизны. Чтобы за один какой-то цветок – две бумаги величиной с наши двадцатипятирублевки. Хотя цветок, с другой стороны, был в большом порядке – тут и говорить не о чем. Тоник бы и себе такой купил.
На карте, которую ему дал Слава Бандуилов, значились не только площади, проспекты, улицы, но и каждый дом, будто карта предназначалась специально для шпионов, занимающихся мелкими диверсиями. По такой карте ориентируешься запросто, лучше, чем в Москве, – словно всю жизнь провел в Будапеште. Тоник, кстати, вообще хорошо ориентировался на местности – не то что Платон с его прирожденным топографическим идиотизмом. Даже не понятно, как воевал этот стронцо на войне. Как вообще он мог воевать в составе десантно-диверсионной группы.
У развилки улицы Тоник свернул налево, потом еще раз и оказался в лабиринте запутанных, как макароны, переулков, напоминающих закулисные катакомбы клуба, в заводинках крошечных площадей и небольших перекрестков, загроможденных витринами маленьких магазинов, закусочных, кондитерских, мастерских. Стены домов уходили так высоко, что смыкались над головой, а здесь, внизу, шла тихая, перетекающая из помещений на улицу и обратно жизнь – будто площади служили лестничными площадками, а переулки – коридорами одного здания.
Вся эта вроде как страна Диснея примыкала к малолюдной площади с платной стоянкой автомашин и памятником из белого камня посредине, изображающим группу переплетенных фигур. Через каждые несколько метров стояли автоматы-счетчики, похожие на мини-бензоколонки. Всюду бродили пегие, перламутровые мелкие голуби. Где-то здесь, совсем рядом, находилась улица, на которой жила Ирэн.
Чтобы проверить память, Тоник еще раз заглянул в свою рассыпающуюся записную книжку, разбухшую от вклеенных в нее объявлений, вырезанных из рекламного приложения к вечерней газете. Это были многочисленные предложения женщин и девушек, желающих познакомиться с мужчинами, выйти замуж, обрести временного или постоянного друга. Вырезки пожелтели, клей покоробил страницы. Тоник нашел написанный от руки адрес Ирэн, сверился с картой.
За деревьями небольшого скверика высился дом, весь в строительных лесах. Штукатурка во многих местах отвалилась, куски сырой известки легко крошились и мялись под ногами, будто рассыпанный крутой творог. Белесые, оплывшие выбоины в розовой стене были, скорее всего, старыми следами от пуль и осколков. На углу висела металлическая табличка с названием улицы, которое было написано очень четко – белым на голубой эмали, и Тоник почувствовал, как гулко вдруг заколотилось сердце в груди.
По дощатому настилу он прошел вдоль стены. Большие деревянные ворота дома были открыты настежь. Он вошел в подворотню, поднялся и спустился по ступенькам, ведущим во внутренний двор, где находился не защищенный дверью проем. Стертые, просевшие, обглоданные ступени, образующие серпантин гулкой каменной лестницы, уходили в темную неизвестность. Пройдя несколько длинных лестничных пролетов, он обнаружил новую эмалированную белую табличку на стене: «I emelet» – первый этаж. Лестница вела вверх, но преодолеть первый этаж оказалось невозможно. Приключение с лифтом в гостинице повторялось.
Поднялся еще на два этажа, также бесконечно долгие. От площадки в обе стороны расходились рукава опоясывающей дом галереи. Вновь открылось пасмурное небо, ставшее вдруг совсем близким. Далеко внизу зияло прямоугольное дно пустого колодца.
Зашуршала на ветру белая папиросная бумага, в которую был завернут цветок. Закружилась голова. Вдруг мысль, что он не застанет Ирэн, заставила его содрогнуться. А если нет ее здесь? Уехала. Сменила адрес. Вышла замуж. Сколько времени прошло с того лета, когда она приезжала в Москву? Сколько лет, месяцев или десятилетий?
Вдоль шатких перил открытой галереи стояли побуревшие деревянные ящики с такими же побуревшими чахлыми растениями в истощенной земле. Дом казался необитаемым. Ни звука не доносилось из глубины двора. Ни звука – из-за закрытой двери, сплошь испещренной мелкими табличками с фамилиями жильцов. Тоник сглотнул слюну. Постоял. Надавил на одну из кнопок. Прислушался. Полная тишина. Слышались только глухие удары крови в ушах. Наконец что-то ожило в глубине квартиры. Чьи-то легкие шаги приближались по коридору. Щелкнул замок. Дверь открылась. Это была она!
Какое-то время он по-прежнему оставался на галерее, а она, освещенная электрическим светом прихожей, – внутри квартиры. Их разделяли порог, граница дневного и искусственного света, годы разлуки, месяцы ожидания, их собственные и чьи-то еще фантазии, мечты, вера, неверие, самообман, надежда. Они стояли друг против друга, лицом к лицу, пораженные, обескураженные, растерянные. Ее ослепленные яркой вспышкой дня застывшие глаза еще хранили выражение глубокой сосредоточенности на чем-то другом, постороннем, на каком-то деле, мысли, а губы уже начали оживать, готовые произнести первое слово. На ней были толстый свободный свитер и мягкие вельветовые брюки. Или нет: скорее, домашнее платье, халат. Возможно, что-то еще. Что именно? В чем она была в то утро, день, вечер, когда открыла дверь на третьем, седьмом, девятом этаже: дверь городской квартиры, загородного дома или дачи – дверь, выводящую в летнее тепло из зимних каменных промерзших катакомб?
Ирэн отступила, пропуская его в прихожую, где все было таким же маленьким, игрушечным и аккуратным, как в любой из витрин напротив белого памятника со стертыми очертаниями фигур. На вешалке висела новая мужская касторовая шляпа былых времен, стояла трость, зонт, висело небольшое зеркало – черный, мерцающий прямоугольник. Она повела его в глубь коридора, к белой высокой двустворчатой двери, повернула изогнутую, с завитком на конце ручку, впустила в комнату, вернулась и погасила в прихожей свет.
Два окна большой мрачноватой комнаты смотрели прямо в близкие окна дома напротив. Стол, шкаф, полукруглая белая кафельная печь в углу. Два стула. Полка с книгами. Короткая и широкая двуспальная кровать, застеленная голубым шелковым покрывалом. Нет, розовым. Белым, розовым или голубым… На стенах – фотографии довоенных лет, видно оставшиеся от кого-то и уже не имеющие отношения ни к кому из ныне живущих. Овальное изображение богоматери с младенцем. Безвкусная работа. Ширпотреб. Сусальное золото.
Полная тишина. Шуршание снимаемой с цветка папиросной бумаги. Грохот жалюзи. Монотонное гудение закипающего чайника. Долгий звук самолета в вышине. Яркая вспышка оранжевого гелиотропа. Взлет ракеты. Разрыв зенитного снаряда. Оглушенность. Контузия. Немота…
35
Он лежит и не знает, жив ли. С трудом разлепляет веки. Краем глаза видит кусок чистого от облаков вечереющего неба. Или чего-то еще, тоже очень синего. Снова впадает в забытье. Самолет продолжает кружить над лесом. Самолет кружит над самой землянкой. Невозможно понять по звуку чей. Он пытается сделать над собой усилие: напрячься и разорвать путы, веревку, которой связан. Распороть пластиковый пузырь, в который его запрятали.
Жилка то́кает на виске. Отстукивают секунды невидимые часы. Отстукивает опасность невидимый телеграф. Рука с трудом тянется, по миллиметру приближается к ножу, предусмотрительно спрятанному в сапоге. Горло стянуло. Губы пересохли.
Шепот. Голос.
– Кто?
– К вам.
Сердце колотится. В ушах непрестанный гул.
– Сейчас. Минуту. Кхе!
Больной опускает ноги, садится на растерзанной кровати, все еще не может прийти в себя.
– Ваш отец…
В пролете двери возникает приземистая фигура. Жесткая стальная профессорская бородка. Колючие усы. Колючий взгляд. Одно очко пенсне бликует. Шарканье ног.
– Здравствуй.
Старик тяжело опускается на стул. Слабый поток восходящего воздуха шевелит редкий пушок на голове. Толстые короткие пальцы уперлись в крутые колени. Пиджак и брюки в несвежих пятнах.
– Вот почему и случилось… – начинает отец.
Или это уже продолжение? Скорее всего именно так. Он просто не расслышал начала.
– Холодность и равнодушие… Потеря идеалов… Ваше поколение…
– Извини, я лягу… Кхе!..
– Ложись, ложись… Тебя вон в твои шестьдесят… А мне?.. В мои-то девяносто…
– Отец… Кхе! Я плохо себя… Потом…
– Да я, собственно… Отец твой, между прочим, всю жизнь… за высокие идеалы… А вы?.. Ты, в частности…
– Кхе! Кхе! Кхе!.. А как же тогда… Кхе!.. Porca madonna!.. Кхе! Кхе!.. Dio fascista!..[55] На итальянском фронте… На итало-югославской границе… В горах… С партизанами… Когда под Триестом…
Больной тянется к тумбочке, вытряхивает крошечную таблетку из пробирки, кладет под язык, откидывается на подушке.
– Холодность и равнодушие, – продолжает отец. – Никакой сердечности, уважения…
– А ты-то сам, кхе? Ты уважаешь?..
– Я? Это ты обо мне?..
– Помолчи… Пожалуйста… Кхе-кхе-кхе!.. Очень тебя прошу…
– Когда у человека нет сердца…
Больной закрывает глаза. Самолет гудит, кружит над лесом. Шумит на плите чайник. Голос отца. Во рту пересохло. В груди – кипяток. Мешок. Веревка. Нож в сапоге…
И снова лицо старика. Он сидит в той же позе, упершись руками в натянутые на коленях грязные брюки, часто моргает. Голубые, выгоревшие от старости глаза подернуты туманом. Прозрачная слеза катится по щеке, застревает в седой бородке.
– Ни одного доброго слова…
– Да ты просто не слышал… Не хотел слышать… Кхе!.. Требовал невозможного… Любил тобою придуманного, а настоящего ненавидел… Кхе! Кхе! Кхе!.. Представь… кхе!.. если бы я послушал тебя… если бы окончил тот твой… институт… В который ты меня…
Лицо старика просветляется. Лицо старика добреет. Глаза наливаются хрустально чистой синевой. Протертое пенсне бликует. Морщины на лице расправляются.
– Это было бы прекрасно…
– А я как раз задумал вот написать… кхе!.. о таком… которому… кхе!.. Которому больше не хочется быть прежним… Прежним родительским отпрыском… Кхе!.. Жить чьей-то чужой… кем-то придуманной для него жизнью… Кхе!..
– Глупости.
– Который разочаровался…
– В науке?!!
На лице отца написан священный ужас. С его уст готово сорваться проклятье.
– Зачем же так громко?.. Кхе!.. Разочароваться в науке… Может, всего только в собственных возможностях… Кхе!.. И тогда он… Он умирает… Кхххх!..
Больной закрывает глаза. На этот раз навсегда. Его сердце остановилось. Его сердце разорвалось. У него теперь как бы и в самом деле нет сердца.
Отец задумывается. Отец неслышно барабанит пальцами по коленям.
Приходит заведующий отделением Грант Мовсесович Петросян. Профессор Петросян регистрирует смерть. Смерть от сердечной недостаточности. Смерть от сердечной избыточности. Старик отец – единственный, кто допущен к телу. Единственный, кто пришел попрощаться.
Бывший больной палаты № 3 лежит в гробу. Старик отец закрывает гроб крышкой. Старик отец достает из кармана пиджака веревочку и перевязывает ею гроб. Затем сует перевязанный гроб под мышку, будто коробку с новыми туфлями. Ему удается незаметно выйти из больницы. Оказавшись во дворе, человек с коробкой срывает приклеенные усы, фальшивую бороду, стягивает с головы парик, поправляет растрепавшиеся волосы, на ходу застегивает кожаное пальто…
36
Доктор Кустов направляется к своей машине, ожидающей во дворе. Доктор Кустов открывает переднюю дверцу красных «жигулей» и небрежно бросает перевязанную веревкой коробку на заднее сиденье. Доктор Кустов садится за руль.
Пока разогревается остывший мотор, доктор Кустов связывается с Институтом биологических исследований. Пока разогревается мотор, доктор Кустов играет кнопками радиотелефона. Мигает зеленый индикатор. Мигает красный индикатор. Слабо пиликает.








