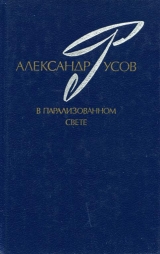
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 26 (всего у книги 45 страниц)
Эти точно отпечатанные на узкой полоске контрастной фотобумаги глаза, освобождающие от мучительной неудовлетворенности, страха перед жизнью и смертью, от постепенного превращения в пыльную мумию, в учетную статистическую должностную единицу, безраздельно принадлежащую учреждению, штатному расписанию, дому на улице Строителей-Новаторов, штампу в паспорте, проволоке, что тянется из двора четырнадцатиэтажного дома прямо до институтского подъезда – провисшей под собственной тяжестью проволоке, по которой гремит цепь, пристегнутая к его ошейнику.
Эти близко посаженные глаза живого, животного, естественного, вещного мира – беличьи, мышиные, чуть раскосые печальные глаза, точно лист подорожника впитывающие его боль, вытягивающие гной из нарывающих ран, сливающиеся в одно двойное око, когда губы соприкасаются с губами, нос с носом, лоб со лбом. Этот усеянный черными точками хрусталик, эта пробитая трещинками льда разбегающаяся вселенная, этот бездонный колодец, куда он погружается с бесстрашием лунатика. Эти тихие, терпеливые, безропотные, чистые, страдающие глаза, в которые он уходит, как в неприступную крепость.
Эти пересохшие губы, легкое, смуглое тело лани, косули, жрицы. Пропитанное благовониями, забальзамированное, пребывающее в неизменной своей красоте вот уже год, два, двадцать, две тысячи лет, когда он впервые предощутил тот грозный вал, которому суждено было набежать, обрушиться, смести его прежнюю жизнь, как был сметен Древний Рим под натиском варваров.
Он потерян во времени. Потерялся. Стал безумным. После того как все логические доводы разума рассыпались в прах…
Он не знает, куда ему идти теперь, кому и чем он больше обязан.
Зимний Будапешт ждал его. Его ждали доктор Варош, будайская крепость, шуршание камней на обочине круто взбирающейся дороги, далекая россыпь пештских огней внизу. Ждали яркие, точно груды разноцветных фантиков, витрины. И старинная библиотека, впитавшая запахи старых монархий, новых пришельцев и свежего кофе. И пыльное кресло в захламленном кабинете Петера Вароша, его мефистофельская бородка, лукавый, приветливый пронзительный взгляд.
Его ждала вскидывающая руки с гремящими браслетами Соломея. Ожидало институтское руководство, чтобы пригласить на очередное собрание, заседание, совещание. Ждал отдел кадров, чтобы отметить очередной присутственный день. Ждали сотрудницы, чтобы очередной раз отпроситься с работы. Ждали опыты по клонированию и гиперклонированию, по зарождению новой жизни, в точности воспроизводящей старую, тогда как мир и без того давно уже состоял из подобий, генетических близнецов, одинаковых лиц, стандартной одежды, скучных служебных поощрений и неприятностей, маленьких личных радостей, стереотипных интриг, слов, восторгов, проклятий, сюжетов, мероприятий, мыслей. Энтропия возрастала, флуктуации истаивали, внешнее давление увеличивалось, верхнее давление прыгало, унификация становилась всеобъемлющей и как бы даже приветствуемой большинством. Клоновая усредненность сводила к нулю цену отдельной жизни. Любое отклонение от предусмотренного программой поведения воспринималось болезненно и подлежало лечению. Возросший спрос на личности удовлетворялся с помощью множительной техники. Клоновая популяция отличалась замечательно короткой памятью: она помнила только себя…
Доктор Кустов медлит перед открытой дверью. Его решающий шаг длится секунду, час, день, вечность, расщепляясь на множество сдвинутых, смазанных, развернутых веером изображений. Слишком большая выдержка съемки. Он еще не пришел, а ему уже пора уходить. Его ждут.
Ждут в другом месте, в другой квартире, доме, на другой улице, в другом городе – там, где нас нет. И в силу объективной, субъективной, личной, безличной – любой в общем-то – уважительной или неуважительной причины он вынужден спешить. Ведь ему не двадцать, а уже сорок или даже шестьдесят лет, и он может не успеть. Он может просто опоздать туда, где его ждут новые возможности, варианты и старые обязательства, дела и делишки, развлечения и огорчения, поражения и победы, последняя возможность стать самим собой и последний риск навсегда от себя отказаться.
Но в конечном счете, в последней, так сказать, инстанции истины, его несомненно ждет женщина с печальными, чуть раскосыми, голубыми, серыми, льдистыми глазами, с набальзамированным телом жрицы и пересохшими от долгой жажды губами. Веселая, шальная, тихая, целомудренная, распутная, молодая, старая, добрая, злая, жадная, щедрая, корыстная, бескорыстная женщина ждет его там, за дверью, в комнате с синими шторами.
28
Все в этом мире намечено, расписано и предписано заранее: радоваться, страдать, идти по этой дороге, сворачивать на ту, возвращаться, болеть, выздоравливать, быть счастливым, несчастным, существовать или не существовать.
Все предписано и предопределено. Генами, антигенами, обстоятельствами, встречами, расставаниями, любовью, ненавистью, игрой случая, сменой времен года, возрастов, поколений, формаций. Предопределено и обусловлено волей, безволием, жаждой жизни и смерти, самоутверждением и самоуничтожением, благородством и подлостью, смелостью и трусостью, умом, глупостью, инстинктом, сердцем, душой, интеллектом, логикой и абсурдом.
Отверженному и возвеличенному, нищему и богатому, низкому и высокому, доброму мученику и озлобленному счастливцу – все предписано и прописано. Все, что требуется. Все, что требуется и что нужно. Всем всего дано и завещано от рождения поровну, уравновешено на точнейших весах, но только завещание сокрыто, сумма наследства не оглашена – и потому мир оплодотворен движением жизни. Великой тайной перевоплощений и дискретных скачков, способностью излучать и поглощать, быть волной и корпускулой, духом и телом. С орбиты на орбиту, из грязи в князи, из поднебесья – на землю! И потому непрестанны эти скачки, непрерывно вращение, неостановимо движение, неуловима пространственно-временная координата. Дабы длилось и пребывало вовеки все сущее, предопределенное небом, начальством, ходом истории, биоритмами, климатическими показателями, фазой луны, продолжительностью дня и ночи, расположением звезд и новыми медицинскими назначениями профессора Петросяна, по-прежнему обеспокоенному состоянием здоровья пациента из палаты № 3.
Грант Мовсесович делает все возможное, чтобы помочь больному поверить в собственное выздоровление. Отказаться от прошлого ради будущего. От многого ради самого необходимого. Это и означает – купировать. Это и называется – реабилитировать. Выявить основное, подавить побочное. Сконцентрировать жизнь, личность, не дать ей рассеяться в пространстве. Вернуть ее в пределы земной человеческой оболочки.
Грант Мовсесович разделяет общепринятую точку зрения, считая социально-психологическую неустойчивость и разрушение системы ценностей основными причинами любого психического кризиса. Причинами болезни подавляющего большинства своих пациентов. Чаще всего в отделение попадают люди так называемых интеллигентных профессий или молодежь. Люди тонкой душевной структуры, поврежденной грубой механической обработкой. Подчиненные, сломленные давлением сверху. Начальники, изувеченные давлением со всех сторон. Женщины и мужчины, пережившие личную драму. Каждый из них в чем-то разуверился, разочаровался. Кто в вечной любви. Кто в социальной справедливости. Кто в неизбежности победы добра над злом. Кому-то разорвали внутренности центробежные силы. Кому-то раздавили – центростремительные. Пришли в противоречие соматика и психика. Психика и соматика. Художники становились пациентами отделения зачастую лишь потому, что не умели быть художниками. Чиновники – потому что им не удавалось стать творцами. Подавление естественной профессиональной необходимости отказаться от себя вчерашнего ради себя завтрашнего приводила в отделение кризисных состояний представителей самых разных профессий. Профессиональный травматизм сплошь и рядом соседствовал с бытовым. Длительно находясь под многоступенчатым прессом, люди испытывали стресс, переходили в депрессивное состояние, вешались, перерезали вены, пили кислоты. А также щелочи. Людей привозили в городскую больницу с сожженными пищеводами, разбитыми головами, с перерезанными или напрочь отрезанными членами, которые оказывались для их обладателей как бы лишними. Некоторые приходили сами, других доставляли родственники. Кто-то навсегда упускал возможность вернуться к жизни только потому, что не знал о существовании отделения кризисных состояний. О существовании Гранта Мовсесовича Петросяна.
Все оборудование, вся сложная техника, накопленная в отделении, существовала здесь лишь для того, чтобы противодействовать другой – раздавливающей, разрывающей, рассверливающей, распиливающей, распинающей человека, манипулирующей им, подчиняющей себе, подавляющей сопротивляемость живого организма, содействующей развитию любой из форм губительной болезни. С другой стороны, больничная техника существовала и действовала в соответствии с теми же законами физики, химии, математики. То есть это была своего рода антитехника, а отделение кризисных состояний – своего рода укрепленным бункером, центром сопротивления, научно-исследовательским учреждением и одновременно – опытным полем жизни. Крепостью-монастырем и красным уголком Астрала. Теплицей. Оранжереей. Парником, где взращивались хрупкие ростки покалеченных жизней…
Профессор Петросян в своем кабинете. Профессор Петросян задумчиво потирает согнутым пальцем шершавую щеку. Профессор Петросян разминает сигарету, сыплет на брюки табак. В результате размышлений он приходит к выводу, что больному Усову из палаты № 3 пора назначить иглоукалывание, а больному той же палаты Кустову – аутотренинг. С третьим больным было бы желательно провести курс лечения гипнозом. Но молодой человек не гипнабелен – вот в чем проблема.
Иглоукалыванием в отделении занимается врач Мурзаханов, по кличке Китаец. Кличка относится более к специальности, нежели к внешности. Китаец – типичный европеец – скорее похож на какого-нибудь выпускника золотомедалиста колледжа Лойолы, магистра тайных искусств, лауреата премии имени Святой Инквизиции. Зато кабинет Китайца – самая настоящая буддийская пагода. Темное дерево, запахи тропиков, тишина и полумрак. На виду весь набор инструментов: иглы большие, средние, малые. Плакаты с ритуальными изображениями человеческого тела и его отдельных частей. Неких общих, а также отдельно женских и отдельно мужских. Красочно обозначены сакральные точки-мишени: как в тире…
Обнаженный писатель Усов распят на циновке. Обнаженный писатель Усов приколот иглами к полу. Китаец склоняется к жертве, вгоняет еще одну. Левую ногу писателя Усова распирает, будто туда вбили клин. Десятками стальных дротиков проколот, зафиксирован в пространстве писатель Усов. Ноги. Руки. Даже уши – как у Гулливера.
– Веруете? – вопрошает иезуит, покачивая указательным пальцем кончик иглы, торчащей из тела.
– Во веки веков, – отвечает распятый святой Себастьян. – In saecula saeculorum. Кхе!
Перед казнью он снял очки. Голубые подслеповатые глаза закатились, Блаженный святой Себастьян, невольник терзаемой плоти, презрев свою плоть, воспарил духом.
– А теперь? – испытует его Китаец, теребя другую иглу.
– Ин секуля секулёрум, – снова выдыхает святой Себастьян и чувствует, как онемевшая рука начинает вдруг наливаться свинцом.
– С вами интересно работать, – замечает иезуит бесстрастно.
Он набрасывает байковое одеяло на тело мученика. Вглядывается в цвет его глаз. Святой Себастьян готов. Приготовлен к святому причастию.
Храм наполняется благовониями. Сыро пахнет розами и цикламенами – как после выноса тела. Где-то вдалеке звучит торжественный гимн. Хоронят женщину, святую уже при жизни. Ее муж терпит муки во искупление собственных грехов. Во имя Ее плоть его угнетается, умерщвляется, дух воспаряет, нимб уже светится над головой. Внутренним взором он прозревает лик святой мадонны: гладко убранные волосы, сомкнутые губы, скорбящие глаза, тонкие пальцы рук, придерживающие ниспадающие на облака одежды. Мысленно он устремляется ей навстречу. Делает невероятное над собой усилие, но, слабо дернувшись, обвисает на кресте.
– Устали? – участливо спрашивает ученик Лойолы, вновь бередя дротики, дабы не прекратилась очистительная мука, поднося к лицу святого зловонную губку, смоченную уксусом и желчью.
Святой лицезрит святую Троицу – единую эссенцию в трех экзистенциях. Он зрит мадонну. Тело затекло и уже не принадлежит ему. Члены застыли и уже не болят, а только ноют. Порка мадонна! Грехи наши тяжкие!..
Нестерпимый запах исходит от губки, смоченной уксусом и желчью. Дабы нимб его засиял ярче, ему дают нюхать sal ammoniacum, или sal armeniacum[51], рекомендуемую в таких случаях древним алхимиком и чернокнижником Василием Валентином, а также заведующим отделением кризисных состояний профессором Грантом Петросяном.
– Платон Николаевич…
Святой Себастьян с трудом приоткрывает глаз. В поле его зрения – смутный размытый контур ученика Лойолы. Дьявол сидит где-то высоко: на стуле, троне или престоле, закинув ногу на ногу.
– Не надо спать… Не спите, Платон Николаевич… Я вот хочу вас спросить…
…Лик мадонны, рыжая челка, смеющиеся глаза…
Sal armeniacum, всесильный, безжалостный sal armeniacum срывает нимб с лика святой, возвращает Усова Себастьяна на землю, в буддийскую пагоду, прямо к ногам Китайца. Левая рука онемела. Правая нога ничего не чувствует. Тут снова начинается коловращение игл. Ловко орудуют аскетически бледные пальцы.
– Распирает?
– Да… Видите ли… Кхе!..
– По-моему, вы, Платон Николаевич, один из немногих наших современных… воспринявших новые формы мышления… На уровне современных знаний, научных достижений… И поэтому ваш художественный стиль… содержание ваших произведений…
– Приятно слышать… Надо же!.. Кхе!.. Поняли основное… А вот критики не видят… Не понимают… Кхе!..
Китаец поправляет падающую иглу, выталкиваемую сокращающимися мышцами.
– Новая форма… Кхе!.. это вроде раскаленной болванки, которую в воду… А замечают лишь шипение и пузыри… Кхе!.. Когда только поймут, что весь смысл именно в закалке?.. Что получено новое качество… Кхе… Признают, что оно действительно новое… Потом забросят в дальний угол отлеживаться… Кхе!.. Как уже общеизвестное… Пока снова вспомнят… Кхе!.. если вообще вспомнят… Эх!..
Перед затуманенным взором вновь возникает лик пресвятой девы Марии… Марии Магдалины… Платон Николаевич расслабляется, забывается, проваливается в небытие…
К жизни его пробуждает церковная музыка. Все тело наполнено перезвоном колоколов.
– Не замерзли? – спрашивает Китаец, снимая одеяло. – Не простудились?
– Нет. Кхе! Кажется, ничего.
– Курите?
– Нет.
– А кашель откуда?
– После контузии.
Китаец извлекает из тела иглы. Ни пятнышка крови. Опытный экзекутор.
– Попробуем заняться вашим кашлем в следующий раз.
Святого Себастьяна пошатывает. Святой Себастьян надевает очки. Святой Себастьян натягивает вельветовые джинсы.
– Фирменные? – интересуется Китаец.
– Да. Померяйте. Кхе!
– Что вы? Зачем?
– Давайте, давайте. Ну! Прямо на вас. Кхе!
– Нет, нет…
– Кхе! Я скоро поеду в Венгрию и куплю себе там новые джинсы.
– Ах, как это неудобно! – говорит Китаец. – Нет, правда… Ужасно неудобно, Платон Николаевич…
29
Если на самый обыкновенный лист бумаги насыпать железных опилок, а под листом поместить магнит, то вмиг сбегутся в круг, слипнутся, встанут на дыбы, обнаружат игольчатую свою структуру, обнажат крохотные свои, совершенные грани невзрачные железные опилки. В школе такой опыт показывают на уроках физики, когда рассказывают о магнетизме, а в отделении кризисных состояний нечто подобное ставит известный специалист в области аутотренинга Нина Ивановна Пшеничная. Подчиняясь нарочито замедленному, четкому звуку ее голоса, движутся по зеленому леопардовому ковру разновозрастные, разно одетые люди – движутся, ориентируя свои индивидуальные поля относительно внешнего принудительного, освобождающего поля. Относительно спасительных, направленных в сторону новой жизни, веры и света полей, искусно создаваемых Ниной Ивановной, Китайцем-Мурзахановым, Грантом Мовсесовичем Петросяном, медицинской сестрой с родинкой на щеке и другими, кто кружит и кружится сам в этом нескончаемом хороводе.
– Корпус прямой… На лбу ни одной морщины! Рука сжимается в кулак… Медленно… Медленно сгибается!..
Больные внимательно слушают. Больные старательно повторяют жест. И сошедшая год назад со сцены балерина Катя послушно сжимает маленький кулачок. И недавно поступивший в отделение начальник отдела одного из министерств Хлысталов усердствует так, что бледнеют фаланги пальцев. И почти такой же прямой, как танцовщица Катя, – такой прямой, будто проглотил аршин, – Антон Николаевич Кустов, доктор Кустов, стесняясь себя самого, окружающих, всего происходящего, проделывает то, что велит Нина Ивановна, с таким видом, будто он тут совсем ни при чем, хотя его никто и не заставляет: занятия аутотренингом вполне добровольные.
Здесь вообще как бы нет ничего обязательного – кроме уколов и таблеток, конечно. И эта необязательность, эта видимая свобода, обусловленная возможностью самостоятельного выбора, является неотъемлемой составляющей того принудительного внешнего поля, в котором кружатся и ориентируются больные отделения кризисных состояний. Каждый может выбирать любые процедуры из назначаемых врачом, и каждый почему-то выбирает именно те, на которых настаивает профессор Петросян. Уже в этом свободном выборе, совпадающем с врачебной необходимостью, сказывается действие невидимого, неощутимого, никакими приборами не регистрируемого благотворного лечебного поля.
– Тело расслабляется… Расслабляется!!!
Стриженная под мальчика Нина Ивановна идет впереди. Стриженная под средневекового юношу Нина Ивановна ведет за собой отряд, выводок, рассаживает в креслах холла, и взрослые, старые, молодые, совсем юные, измученные стрессами, депрессиями и другими людьми, люди доверчиво внимают ей. Расслабиться желает каждый. Это вполне искреннее и нескрываемое желание, потому что здесь, в крепости, монастыре, оранжерее, ничто не угрожает человеку – ничья злонамеренность, хитрость, коварство, ничье стремление подавить, обмануть, воспользоваться, загнать в угол, поймать, предать, уничтожить. Здесь нет нужды все время быть настороже, прятаться в раковину, постоянно быть готовым отражать нападение, защищать свою честь, жизнь и достоинство. Всем желающим расслабиться Нина Ивановна готова прийти на помощь.
Она готова помочь балерине Кате, доктору Кустову и министерскому работнику Хлысталову, заболевшему от телефонных звонков, потока бумаг, от пустых разговоров, ставших с некоторых пор едва ли не главным существом его деятельности, от фактического положения дел в министерстве, повлиять на которое он оказался бессилен, от притворства, лжи и бессмысленности собственного существования. Нина Ивановна готова помочь ему выбраться из ловушки, куда его из научно-исследовательского института заманили высокой зарплатой, соблазнили обещаниями, одурманили призраком власти, государственной пользы, престижного положения.
Рука сжимается в кулак!..
Рука сжимается – тело расслабляется. Соответственно. Оно расслабляется, начиная с мышц лица, шеи, груди, постепенно теряет вес, уменьшается в размерах настолько, что Хлысталова, например, можно спрятать в кармане и незаметно вынести или дать ему возможность самому проскользнуть сквозь решетку тюрьмы, в которую он себя заключил.
Рука сжимается, сжимается, сжимается… И бледное, кукольное личико балерины Кати вытягивается, на нем вспыхивают вдруг разалевшиеся губы. Она первая отрывается от кресла и медленно кружит, опершись пуантом о невидимую твердь. Еще никто не летает, еще Нина Ивановна никого не приглашала летать, а Катя уже свободно парит в воздушном пространстве холла. Блистательной, полувоздушной, сорокалетней Кате, единоправно парящей на совершенно пустой, свободной сцене, вновь рукоплещут Москва и Токио, Париж и Нью-Йорк, Берлин и Милан, Лондон и Будапешт. Она подъемлет брошенные ей из зала цветы, прижимает их к плоской груди, низко кланяется публике, едва касаясь томными пальчиками жесткого тюля пачки.
– Катя!.. Антон Николаевич!.. Образ приятных эмоций!.. – объявляет Нина Ивановна. – Каждый старается вспомнить что-то приятное…
В прошлый раз она водила их всех к морю. Был небольшой шторм, пена шипела, догоняя откатывающуюся волну, гремела галька, чайки носились с гортанными криками. Яростно полоскались на ветру косынки, юбки, куртки, кто-то из смельчаков подныривал под вогнутую, мутно-зеленую стену воды и выплывал уже далеко от берега, а Катя лежала на песке лицом вверх с закрытыми глазами, погрузившись в жаркое черно-красное марево, из которого, будто чертики, выскакивали персонажи одноактного, давно сошедшего со сцены балета на музыку Паганини.
Антон Николаевич не пошел со всеми. Морю он предпочел заснеженное поле и все отпущенное на приятные эмоции время простоял на опушке леса, опершись о лыжные палки. Он стоял и смотрел, как другие одинокие лыжники, точно крошечные одноместные яхты, бороздили сверкающую гладь. Их цветные куртки-паруса скользили как бы в пустоте, пересекаясь и заслоняя друг друга, а несколько фигур застыло, обратив лица к ослепительно яркому солнцу, пылавшему в замерзшем небе среди растрепанных страусовых перьев и розовых опахал цветущего тамариска.
– Приятные эмоции! Все! Все! Все!..
Нина Ивановна хлопает в ладоши, делает шаг в сторону, опускается в свободное кресло сама, исчезает из поля зрения. Теперь слышен только ее звенящий голос:
– Образ приятных эмоций!..
Посверкивает полированный овал стола. Вечнозеленое экзотическое растение вьется, распластавшись по стене. Задвинут в самый угол ящик цветных сновидений с матовым серым экраном. Пахнет сандалом непонятного назначения старинный буфет. И мутная амальгама старого зеркала отражает зеленый полосато-пятнистый, тигрово-леопардовый ковер, а также мягкие кресла, сосредоточенные, самоуглубленные лица, мерцающее пространство холла, сгущающуюся по краям темноту. Сверкает одна из зеркальных граней, наливаясь то красным, то синим и желтым – сверкает и гаснет, проваливаясь в неразличимую глубь Зазеркалья.
– Так… Хорошо… Хорошо… Очень хорошо!..
Нина Ивановна поднимается с кресла. Нина Ивановна оглядывает свой отряд. Нина Ивановна устало улыбается.
– Поздравляю вас, Антон Николаевич. Вы сегодня летали. Да! У вас поднималась левая рука… Вот отсюда… отсюда вылетели… подлетели к телевизору… вернулись… – И, обращаясь уже к Хлысталову: – А вы слишком напряжены. Нужно учиться расслабляться!..
Нина Ивановна о чем-то задумывается. Нина Ивановна подходит к балерине.
– Вы ведь тоже летали, Катенька.
– Вместе с Антоном Николаевичем?
– Ну да. Вот именно. Взявшись за руки, – вторит ей в тон Нина Ивановна.
– Если честно, то я летала с другим.
Обе смеются. И Антон Николаевич вместе с ними.
– Ох, не к добру смеемся! Еще выпишут.
– А что, не хочется? – спрашивает Антон Николаевич.
– Здесь до того спокойно. Все тебя любят. Ни о чем не думаешь…
Вчера вечером Кате было плохо. Она рыдала, билась головой о стену. Антон Николаевич слышал из своей палаты ее душераздирающие крики, чей-то взволнованный громкий шепот в коридоре: «Сестра, укол, скорее», – а теперь вот стоит, улыбается, и никто не знает, что ожидает ее через минуту. Или через час.
Таблетки все-таки помогают. Помогают инъекции. А также электросон, иглотерапия, гипноз, аутотренинг и особенно – то поле, под чьим воздействием собственные поля больных образуют как бы концентрические окружности, по которым кружится, кружится нескончаемый хоровод.
– Не м-могу расслабиться, – подходит к ним Хлысталов. – Никак не могу.
Губы дрожат, взгляд блуждает. Чужой, неприкаянный он какой-то, этот Хлысталов. Каким-то холодом от него веет. Тень, а не человек.
Зовут на обед. Опять какая-нибудь полусъедобная бурда.
– Пошли обедать, – увлекает за собой Катя Антона Николаевича.
– Пошли.
И они забывают о Хлысталове.
Но тут начинается непонятное оживление. Кто-то пробегает мимо в белом халате, едва не сбивает с ног. Хлопает дверь. Взволнованные голоса.
– Кто?
– Хлысталов!
– Что? – спрашивает Антон Николаевич.
Катя недоуменно пожимает плечами.
Мрачный, как туча, врывается профессор Петросян. Исчезает с своем кабинете вместе с дежурной сестрой.
– Опять открытая дверь! – слышится оттуда. – Я же предупреждал! Что?.. Какая надежда?.. Вы что? С седьмого этажа вниз головой… Из шестой. Хлысталов…
И все. Никаких больше разговоров. Только на следующее утро заведующий отделением является в клинику с опухшим лицом и воспаленными от бессонницы глазами.
30
Кабинет следователя по особым делам Александра Григорьевича Скаковцева в Центре Управления расположен на девятнадцатом, сто девятнадцатом или даже еще более высоком этаже бокового крыла. Малый компьютер у стены справа от окна, застекленного темнеющими на ярком свету и бледнеющими с наступлением сумерек фотохромными стеклами, соединен с большим, Главным компьютером, находящимся в соседнем корпусе. Часть обширного письменного стола занимают дисплей, пишущая машинка, панель управления, блок приема и выдачи информации, а позади вращающегося рабочего кресла находится картотека текущих дел. У входа – большой сейф. Он открывается просто: нужно к небольшому намагниченному специальным образом кружку возле хромированной рукоятки приложить точно такой же, величиной с монету, магнитный кружок в виде печатки. С этим кружком Александр Григорьевич не расстается никогда. У других сотрудников Центра, занимающих другие кабинеты, имеются подобные, но если кто-нибудь попытается – случайно или умышленно – открыть чужой сейф, раздастся сигнал тревоги, и номер нарушителя будет тотчас записан с помощью электронного автоматического устройства.
Близится время обеда. Александр Григорьевич возвращается к себе на работу из городской больницы, с Четвертого проспекта Монтажников. Он ставит кейс на светлый полированный стол, щелкает замками, достает блокнот, ручку, диктофон, нажимает черную клавишу. Кассета выскакивает. Александр Григорьевич вставляет ее в гнездо стационарного устройства над выдвижными ящиками стола и щелкает тумблером. Никакого эффекта. Снова щелкает – и опять ничего. Сигнальная красная лампочка не загорается.
– Хм!
Наконец Александр Григорьевич догадывается, что выключена вся система. Александр Григорьевич сетует на свою рассеянность. Раньше такого с ним не случалось. Раньше такого с ним просто не могло случиться. Александр Григорьевич осуждающе качает головой. Александр Григорьевич подходит к вместительному сейфу, который, скорее всего, выполняет роль отсутствующего в кабинете платяного шкафа. Кроме нескольких болтающихся на перекладине деревянных плечиков и мышиного цвета пиджака из чертовой кожи, в нем ничего нет. Александр Григорьевич снимает с себя пиджак, достает тот, что в сейфе, переодевается. Смотрится в зеркало, застегивает пиджак на одну пуговицу. Снова расстегивает. Так, пожалуй, лучше. И пиджак этот даже больше подходит к этим брюкам.
Переодевшись, Александр Григорьевич в некотором роде перестает быть Александром Григорьевичем, тем более что все документы, удостоверяющие его личность и действующие на государственных территориях, в них обозначенных, находятся теперь в несгораемом, непромокаемом, пуленепробиваемом сейфе, который закрывается и открывается так же легко и бесшумно, как кабинет: дверь намертво прилипает к дюймовой раме, и ее уже никакими силами, кроме той, что заключена в магнитной печатке, не отодрать.
Стоит Александру Григорьевичу сменить пиджак, как все его затруднения разрешаются. Красная сигнальная лампочка тотчас вспыхивает сама собой, и начинается скоростная выборочная переписка с кассеты диктофона на запоминающее устройство компьютера. Следователь подходит к окну. Далеко внизу, точно в глубоком ущелье, шумит большой город. Сейчас это сутолочный и суетливый Уолл-стрит, но в другие часы бывает виден более широкий Новый Арбат или более тихий берег Женевского озера – в зависимости от времени дня и года. В сущности, что именно видно в данный момент из окна, не имеет значения, ибо Центр находится одновременно над всеми крупными городами мира – на так называемой Вольве, открытой еще в 1593 году великим Кеплером, и не входит в систему государственных учреждений, а также частных контор ни одной из стран. Центр является в самом широком смысле слова международным, хотя область его интересов еще обширнее.
Как только Александр Григорьевич влезает в свой мягкий, по-домашнему удобный пиджак, все в кабинете неузнаваемо преображается и оживает. Не только включаются звукозаписывающие устройства, но и отпираются, чуть подавшись вперед, наглухо запертые до того ящики письменного стола. Коротко тренькает, включившись, целая батарея телефонов. Начинает урчать кондиционер. Причиной всех этих замечательных изменений является еще более сложным образом, нежели печатка, намагниченный и потому гораздо более ценный, секретный, навечно пристегнутый специальным ремешком к внутреннему карману пиджака из чертовой кожи платиновый жетон с тонко, скорее всего лучом лазера, прорезанными в нем насквозь тремя буквами: «FAN». Жетон этот заменяет любое удостоверение личности, давая право его обладателю находиться когда и сколько угодно на территории Вольвы, Субвольвы и Привольвы[52], а также пользоваться всей имеющейся в распоряжении техникой – то есть превращает следователя по особым делам Александра Григорьевича Скаковцева в экстерриториальную личность, в крупного агента международно-межпланетного класса.
Агент Фан-Скаковцев извлекает переписанную кассету из гнезда, вставляет ее обратно в диктофон, щелкает замками кейса. Агент Фан-Скаковцев поворачивается во вращающемся кресле, достает из картотеки стопку перфокарт, на которых, в сущности, ничего нельзя разобрать невооруженным глазом, сортирует их в соответствии с индексами, обозначенными в правом верхнем углу. Все это пока сырой материал: донесения секретных сотрудников, отчеты, записки, копии документов и свидетельств частных лиц. Ничего нет проще, чем обработать их с помощью компьютера, но при этом, как правило, ускользают важные детали, смысл которых может проясниться только со временем.
Одну из перфокарт агент Фан помещает в щель считывающего устройства. Высвечивается экран, вспыхивает там и тут точечными разрядами.
«Из донесения агенту Фану по делу № 269 874 131 865 744.
КОНСПЕКТ
Надлежащей проверкой установлено, что к моменту начала известной Вам операции в городе Москве проживало около трехсот Кустовых – причем девять с именем Антон или на таковое похожим. Предварительная отбраковка позволила остановиться на четверых. Один из них находится в настоящее время под постоянным наблюдением в городской больнице.








