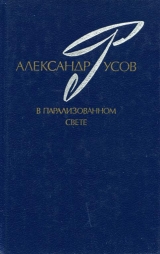
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 45 страниц)
59
– В общем, так, – говорит Тоник, доставая из кармана затиснутой между стулом, на котором он сидит, и стеной куртки подарок – кубик Рубика. – С кем поспорим на сотенную, что я соберу его за десять минут?
Разрушенный этой репликой разговор за столом скисает. Завязавшийся диалог между писателем Усовым и Редактором прерывается. Укоризненный взгляд Переводчицы, зацепив Тоника, соскальзывает куда-то вниз с немым осуждением. Редактор переключается на меню. Обращается с каким-то вопросом к Переводчице.
– Он спрашивает, – переводит она, – что вы будете пить? В качестве аперитива.
– В качестве чего? – настораживается Тоник.
– Ты что будешь пить? – повторяет вопрос Антон Николаевич.
– В смысле безалкогольного, что ли?.. Фанту. И если можно, мороженое.
Переводчица переводит. Редактор смотрит на Тоника. Улыбается не без лукавства.
Три официанта, склонившись, ждут. Редактор держит перед ними речь, загибает пальцы по очереди. Переводчица вторит Редактору. Что-то добавляет. Аранжирует его речь. Аккомпанирует.
Ирэн включается в дискуссию. Дискуссия идет на непонятном языке. Ее участники чему-то радуются, над чем-то смеются, а официанты все записывают и записывают. Сразу трое. Для пущей важности. Или надежности. Для лучшей сохранности информации – так это надо, видимо, понимать.
Платон не понимает ни слова. Ни уха ни рыла, так сказать. Кхекает. Цветные грани кубика Рубика осколочно мелькают в углу закутка. Тоник собирает кубик на скорость. Тоник собирает кубик на спор. Только неизвестно, с кем он спорит. И уж совсем непонятно – на что.
– Он хочет вам кое-что предложить, – обращается Переводчица к Платону с каким-то загадочным выражением лица.
Три официанта удаляются, уходят строем. Редактор победоносно оглядывает присутствующих, точно беркут, которому с самой высокой вершины видно все. Его гладкое сангвиническое лицо кисти какого-то знаменитого фламандского художника – только не сразу сообразишь, какого именно – сияет. Чуть приплюснутая, решительной лепки лысина розовеет в предвкушении.
Он сидит с края стола, у прохода. Платон – напротив. Обе Высокие Стороны обмениваются многозначительными, доброжелательными, ничего не значащими взглядами. Не столько даже из-за языкового барьера и ожидания обещанного сюрприза, сколько из-за не определившегося пока характера предстоящей беседы. Переводчице нечего переводить.
Антон Николаевич вглядывается в ее лицо. Нет, быть того не может.
– Ты?.. Здесь?..
Переводчица не слышит. Не реагирует. Все ее внимание – на нейтральной полосе, разделяющей Высокие Стороны. В данный момент она сосредоточена на том, как перевести на общедоступный язык их взгляды, их немой разговор.
– Ирина?!.
В горле пересохло. Шершавый язык прижарился к нёбу.
Наконец она поворачивает голову в его сторону. Теребит браслет миниатюрных часиков. Смотрит и не видит. Вдруг узнает. Да, это она, Ирина, бывшая жена.
– Вот… Вышла замуж… Выучила язык… Работаю переводчицей…
И уже опять ничего не шевелится в его душе. Только, остается какой-то неприятный привкус, осадок.
– А Клоник где?..
Тем временем Высокие Стороны продолжают обмениваться красноречивыми взглядами. Взглядами-загадками. Взглядами-предположениями. Взглядами-соображениями. А Тоник в своем углу по-прежнему остервенело крутит кубик Рубика. Губы шевелятся, дергаются от напряжения. Темные очки сползли. Одна грань почти уже получилась, сложилась, сошлась. Сидящая прямо напротив Переводчицы Ирэн с восхищением наблюдает за нервными, точными движениями его быстрых пальцев.
Обе женщины чем-то неуловимо схожи. При всем, казалось бы, внешнем различии. Одна отражается в другой как в мутном и, может, не очень ровном зеркале.
Появляются четверо официантов. Медленно подплывает на их руках нечто, сокрытое салфеткой, на блестящем подносе. Медленно причаливает другой поднос – с рюмками. Двое сопровождают. Двое страхуют. Один – тайное, другой – явное.
Метрдотель склоняется перед Редактором, срывает покров с тайны. Тот бережно берет матовый, темный, будто закопченный вековой копотью пузатый сосуд с блестящего подноса. Разглядывает этикетку. Изучает качество стекла. Прикидывает вес. Надувает губы. Важно тяжелит подбородок. Кивает со значением.
Там, за темно-серым, за темно-зеленым бутылочным стеклом, извлеченным, как видно, из глубоких, сокрытых от непосвященных подвалов, плещется на самом дне нечто, едва различимое. Редактор причмокивает со значением. Редактор говорит: иген[72]. Официанты вдруг оживают, оживляются, начинают ловко манипулировать стеклянными предметами.
Драгоценного нектара хватает как раз на две маленькие рюмки. На две мельчайшие микродозы. Как раз только на то, чтобы Редактор и Писатель могли отведать, причаститься, приобщиться, сподобиться, можно сказать, питья богов. Двум остальным мужчинам – Антону Николаевичу и Тонику – наливают что-то бесцветное. Бесцветное и пахучее. Пахучее и общеупотребительное – как каким-нибудь простым мужикам. Как извозчикам, лакеям, половым или почтальонам, вовремя доставляющим телеграммы. Им наливают это из простой бутылки, не освященной редакторским вниманием. Наливают, даже не спросясь. Если, конечно, они не возражают. А как, интересно, могут они возражать? Перед дамами в тот же миг вырастают бокалы. Скорее всего, с апельсиновым соком. Или с фантой. Стырили, стало быть, идею у Тоника.
Редактор сначала только нежно трогает, потом поднимает сосуд с нектаром. Осторожно нюхает. Прикрывает глаза. Открывает глаза. Снова нюхает. Писатель пытается делать то же самое, по аналогии, так сказать, но только с открытыми глазами – из опасения пролить из рюмки или пропустить что-нибудь интересное. Пропущенное трудно будет потом описать. Тоник откладывает кубик в сторону. Антон Николаевич выпивает свою порцию залпом. Редактор медлит, растягивает удовольствие, перекатывает в пальцах граненую ножку. У Писателя Усова все это получается, конечно, не так складно, не так изящно, не так артистично. В конце концов ему не хватает терпения. Он не выдерживает и действует более решительно. По старой армейской привычке. Берет пример с Антона Николаевича.
Официанты в шоке. Официанты оторопело смотрят Писателю в рот, будто ждут, когда оттуда вылетит огромная птица. Птица-феникс. Или даже жар-птица. Но птица не вылетает. Официантам нечасто приходится видеть такое: когда в глотке клиента разом исчезает средний двухдневный заработок служащего. Примерно пять обычных обедов. Обедов или ужинов – это не так уж и важно.
Нанюхавшись вволю, Редактор наконец пригубливает нектар. Редактор отпивает микроглоток от микродозы. Затаив дыхание, официанты смотрят теперь в рот Редактору.
– Х-ыы… – медленно, со значением выдыхает Редактор, и официанты мысленно выдыхают вместе с ним.
Их лица облегченно расслабляются. Птичка вылетела. В рюмке не убавилось. Редактор удовлетворен. Официанты удовлетворены вдвойне. Все в полном порядке.
Тоник снова берется за кубик. Кубик опять начинает поскрипывать в его руках. Будто мнут новую, натуральную кожу.
Редактор спрашивает: что будете есть на первое? Редактор интересуется: что предпочитаете на второе?
Ничего особенного: приносят какой-то суп. Ничего исключительного: приносят пупырчатое крылышко старой утки. Сплошная кожа. Сплошные кости. Обычная столовская еда. Обыкновенная ресторанная. Только стоит в сто раз дороже. В сто или даже в двести – Тоник, признаться, так и не усек. Только обслуживает взвод официантов. Вот тебе и весь шик, мамма мия. Вот и вся фирма, порка мадонна!
– Как дела, Ирэн? – спрашивает Платон Николаевич. – Когда должна выйти книга на венгерском?
Теперь уже его вопроса не слышит Ирэн – так увлечена она Тоником. В данный, конкретный момент тем, как ловко собирает он кубик Рубика. Тоник такой необычный. Тоник такой симпатичный. Тоник такой умный и мужественный. Рядом с ним любая женщина почувствует себя настоящей, истинной женщиной…
…Платон Николаевич подносит обыкновенную ложку с обыкновенным супом ко рту. В подвале душно и дымно. Ядовитым пламенем горят витражи. Суп невкусный. Осточертели комплексные обеды. Платон Николаевич собирается позвать Машу, попросить принести что-нибудь порционное, но тут же забывает и вместо этого вновь продолжает мысленно расставлять фигуры будущей истории, продумывать мотивировки, раздавать роли главным и второстепенным лицам, идеальным героям и отрицательным персонажам, а также многочисленным участницам массовок Праздника Свободы и Дня Независимости…
Тоник скрипит кубиком, тяжело дышит. Даже лоб от натуги вспотел. Вот уже и вторая грань близка к завершению. Но, к сожалению, вкрался один лишний квадратик другого цвета. Частичными мерами его уж теперь не удалить. Терапевтическими средствами положения не исправить. И тогда Тоник решительно разрушает созданное с таким трудом, вновь раскручивает кубик на мелкие цветные осколки.
Вот это упорство! – восхищается молодая красивая женщина, сидящая напротив Тоника. Вот это решительность! Так может действовать, конечно, лишь стопроцентный мужчина! Только самый настоящий ковбой-плейбой.
Ирэн предельно возбуждена. Ирэн оглушена, ослеплена. Ирэн расслабилась в любовной истоме. Стоп-кадр: портрет одалиски. Рисунок фломастером. Ню.
…Пустая тарелка стоит на столе перед Платоном Николаевичем. Напротив сидит Незримый Внутренний Редактор, его друг, его враг, его неотвязный двойник. Современный фламандский тип. Портрет работы неизвестного мастера. Сангвиник в аккуратно завязанном галстуке и в рябеньком пиджаке. Белейший воротничок перетягивает багровую шею чревоугодника.
Платон Николаевич мысленно вычеркивает весь эпизод с обнаженной. Платон Николаевич мысленно вычеркивает даже упоминание о «ню». Про себя он одевает Ирэн в соответствии с обстановкой торжественного приема по протоколу в фешенебельном ресторане «Матьяш пиллз», возвращает ее за стол, сажает между Антоном Николаевичем и Редактором, мысленно рвет рисунок фломастером, а также все рисунки Тоника на подобные темы и вариации, ибо прекрасно знает, что Незримый Внутренний Редактор все равно не даст их ни выставить, ни описать. Кхе!..
Чуткое ухо официанта опять склоняется к ветчинно-окороковым губам Фламандца. Черная бабочка порхает над скатертью. Фламандец-редактор плотоядно изучает новую этикетку. Редактор пробует что-то новенькое. Причмокивает. Дегустирует. Оказывается, не то.
Приносят еще, но и на этот раз Редактор сомневается. И на этот раз он не уверен.
Четверо удаляются. Четверо приближаются. Редактор причмокивает и вновь отвергает. Такая у них игра. Синхронные движения. Неясные условия. Непредугадываемые ходы.
Четверо движутся как один. Редактор пригубляет, кивает, берет в руки, постукивает ногтем по стеклу, изучает, еще раз пробует на вкус, что-то говорит.
А Тоник знай свое: сворачивает, скручивает, перекручивает кубик Рубика: крак! крэк! хряк! хрясть!..
Чудо-кубик! Игрушка века. Забава для всех: для маленьких и больших. Кубик-арлекин. Кубик-хамелеон. Кубик-оборотень. Сплошные превращения, не успеваешь глазом моргнуть: белого – в синее, синего – в желтое, желтого – в красное. Двадцать секунд – мировой рекорд.
Тоник крутит-вертит-вращает кубик, гоняет по граням цвета. Редактор рассуждает о литературе. Называет имена и произведения, загибает пальцы. Писатель слушает, внимает, исподволь поглядывая на Тоника – скоро ли у него там наконец получится? Пока же получается только вот что: на глянцевой, фасеточной, зеркальной поверхности кубика четыре официанта превращаются сразу в сто.
И вот их обслуживают уже сто официантов, и тьма народу вокруг, хотя ресторан почти пуст. И вот уже одно изображение дробится на тысячу. Тысяча одинаковых изображений-отражений, как в граненом стеклянном пасхальном яичке. Миллион одинаковых лиц. И вот уже Тоника не отличить от Антона, Антона – от Платона. Платона – от Фламандца. Фламандца от Редактора. Редактора от Писателя…
А тут еще сплошная неразбериха в семейных положениях, семейных отношениях, психологических осложнениях. Все разводятся – тотальное бедствие. Все тоскуют о том, что утратили: о молодости, любви, свободе. Кто о чем.
Все уже чувствуют и мыслят по-новому, а живут по-старому и никак не могут понять, что же это такое с ними творится.
И в то же время – все всё как бы знают теперь. Все ученые. Страшное дело. Сосиску им в рот!
Все всё вроде бы понимают.
То есть понять вообще ничего невозможно. Кхе!
Люди разучились удивляться, восхищаться, преклоняться. Люди не научились еще общаться на новом, естественном для них теперь языке. Устали люди. Объелись, а не насытились. Облились, а не утолили жажды. Кубик Рубика – единственная отрада. Почти естественная отдушина. Да где его достанешь в Москве? Спасибо Антону. Хороший человек. Добрый. Отзывчивый. Ну что ты!.. Клевый такой мужик…
– Между прочим, братцы, – в который уже раз перебивает Тоник Редактора, еще не кончившего рассуждать о жизни и о литературе, – надо все-таки совесть иметь…
И рвет своими молодыми зубами белое, жесткое, несъедобное, спрятавшееся под толстой пупырчатой кожей старое утиное мясо. Прихлебывает из бокала какой-то желтый пузырчатый безалкогольный напиток. Дает время созреть этой самой призрачной, неуловимой совести в душах сотрапезников.
Все с удивлением и интересом поворачиваются в сторону Тоника. Редактор вежливо-недоуменно вскидывает брови. Сидящая прямо напротив Ирэн Белокурая Переводчица шокирована. Вот-вот с ней случится истерика.
– Сколько времени можно собираться? – продолжает Тоник и делает несколько выразительных крупных глотков. – Он ведь там совсем один, стронци! Оголодал, охлял небось на больничных харчах… Тогда уж домой забрать его надо, что ли…
– Что за вопрос! Кхе! Надо пойти, навестить! – самым решительным образом поддерживает его Платон Николаевич. – Обязательно! Кхе! В ближайшее же время. На ближайшей же неделе.
Антон Николаевич тоже согласно кивает, прожевывая трудный кусок.
– Только чтобы железно, мужики, а? Без булды́!..
60
До доктора Вароша Антону Николаевичу удалось дозвониться только в девятом часу вечера.
– Ты где до сих пор пропадал? – раздался в трубке бодрый, приветливый голос.
Антон Николаевич не сразу даже узнал Петера. Давно не виделись, не разговаривали.
– Да тут, в подвальчике «Матьяш пиллз», – ответил Антон Николаевич, пытаясь догадаться, откуда это Петер Варош узнал о его приезде. – Прием был. Банкет по протоколу…
– Так я тебя жду.
Самое же непонятное и удивительное заключалось в том, что на этот раз Петер говорил совсем без акцента.
– Поздно уже. Встретимся завтра.
– Какой поздно!
– А где я тебя найду?
– Как выйдешь на набережную, сразу свернешь налево. Увидишь большой черный дом.
– Академия наук, что ли?
– Ну да, академия…
Повесив тяжелую трубку на рычаг, Антон Николаевич вернулся к поджидавшим его на улице. Участники встречи в «Матьяш пиллз» прощались. Дождь перестал. Сырая мгла опускалась на землю. Редактор в плаще и шляпе выглядел теперь маленьким, обыкновенным, даже, пожалуй, затрапезным человеком. Здесь, у подножья тонущего в ночной дымке моста, менялись все размеры, объемы, пропорции. Платон благодарил Редактора за радушный прием. Переводчица улыбалась всем сразу. Потом разошлись в разные стороны.
Антон Николаевич пошел налево, как и велел ему Петер Варош. Редактор – прямо через улицу, перпендикулярно мосту. Переводчица и Ирэн захотели проводить Платона и Тоника до гостиницы.
Когда, расставшись с женщинами у подъезда «Астории», двое последних поднялись к себе на этаж, кто-то догнал их и окликнул. Сгорбленная горничная в белом переднике показывала скрюченным пальцем в глубь коридора и лопотала что-то непонятное.
– Чего она?
– Не знаю, – сказал Платон. – Номер оплачен. Может, это твои дела с Белой Будаи? Кхе!
– Гляди-ка! Запомнил…
Тоник ухмыльнулся, довольный. Горничная залопотала еще проворнее.
– Будаи… Будаи…
– Сейчас, – сказал Платон. – Одну минуту.
– Айн момент, – перевел Тоник. – Туалет. – И захлопнул белую высокую дверь с бронзовой витой ручкой прямо перед носом горбуньи.
– Сколько сейчас? Кхе! Который час?
Часов нигде поблизости не было.
– Наверное, около девяти? Кхе!
Скинув пальто и велюровый пиджак прямо на кровать, Платон отправился в ванну. Вскоре оттуда донеслось жужжание электробритвы, неясное пение, и вот уже писатель Платон Усов, побритый, умытый и вытертый, вышел в одной майке и трусах, по-военному быстро натянул брюки, достал из чемодана чистую белую рубашку, надел ее и, втянув живот, принялся законопачивать подол, не догадываясь или просто ленясь расстегнуть пояс.
– Ты куда это собрался, стронцо?
Платон не ответил.
– Слышь? Тебе не надо туда. Я сам схожу.
Платон продолжал вслепую завязывать галстук, перекидывая и выводя конец на плотный узел, как это было модно несколько десятилетий назад.
– Слышь? Сейчас так не носят. Давай покажу.
– Это неважно. Кхе!
– Лучше садись роман свой пиши.
– Почти уже написал.
– Уже?
– Только записать осталось.
– Тогда кончай.
– Как раз сегодня и собираюсь. Кхе!
От Платона несло реликтовым шипром. Будто из парикмахерской.
– Это не тебя – меня вызывают, слышь? Кадр тут один наклюнулся. Есть договоренность. Ты будешь лишним…
Платон взглянул насмешливо. Тоник рассвирепел.
– Сказано – не ходи! Не лезь куда не просят. Поня́л? Ва фан куло!
Платон тем временем надел свой черный велюровый пиджак, застегнул на одну пуговицу, повертелся перед зеркалом возле шкафа, снял несколько ворсинок с лацканов, проверил ладонью качество бритья, пошевелил подстриженными усиками, остался доволен. Вид у него был торжественный и взволнованный.
– Это тебе туда незачем идти, Тоник. Номер ведь на мое имя. Кхе!
– Ну и дурак! Придурок… Рахит психованный… Террорист контуженый… Иди-иди…
Тоник по-заячьи дернул носом, на котором снова с некоторых пор красовался «бутон лямур». Поправил очки. От обиды и чувства собственного бессилия на глаза его навернулись слезы.
Горничная терпеливо ждала за дверью. При появлении постояльцев она тотчас сорвалась с места и почти побежала, мелко перебирая кривыми ногами в белых носочках. Красная ковровая дорожка кончилась. Резко повернув, коридор сменился бесконечно длинным переходом, ведущим как бы в другое, недавно, судя по всему, пристроенное здание. Скромный фасад небольшой старой гостиницы для иностранных туристов скрывал, по-видимому, значительные коммунальные ресурсы. Горничная резко остановилась у одной из дверей, будто у нее разом кончился завод. Они вошли.
Александр Григорьевич Скаковцев поднялся из-за стола навстречу. Возле самого окна с темными, но уже, по случаю позднего времени, просветленными стеклами, с совершенно убитым видом сидел на стуле Антон. Кожаное пальто на нем было расстегнуто. Кондиционер не работал. Мышиного цвета пиджак Александра Григорьевича висел, небрежно накинутый на спинку рабочего кресла. Рукава свисали так низко, что почти касались пола.
– Вот и прекрасно, что без опозданий.
Тоник вскинул запястье, обнажил часы с белым циферблатом и черными цифрами по кругу. Там, на циферблате, было написано: «Wostok». И совсем внизу, очень мелко: «17 jewels».
– Без десяти девять, – объявил во всеуслышанье Тоник.
– Так у тебя, оказывается, есть часы? Кхе!
– Ну!
– Почему же раньше молчал? – Платон взял Тоника за руку. – Покажи.
– Семнадцать джевелз, – сказал Тоник. – Фирма́.
– Семнадцать дьяволз?
– Джевелз, стронцо, – поправил его Тоник.
– Вот я и говорю, – сделал вид, что не расслышал, Платон. – И зачем столько? Кхе!
– Ты что, стронцо, по-английски не понимаешь?
– У меня никогда в жизни не было часов, – признался Платон.
– Пить не желаете?
Александр Григорьевич открыл дверцу встроенного шкафчика, выставил на стол три бутылки фанты.
– Я уже коротко проинформировал Антона Николаевича…
Александр Григорьевич заложил руки за спину, в задумчивости прошелся по кабинету туда и обратно.
– Да вы садитесь. Садитесь. В ногах правды нет… В общем-то, теперь можно уже не пускаться в пространные объяснения. Достаточно будет сообщить вам о принятом сегодня днем на расширенном заседании Коллегии окончательном решении по вашему делу и провести, что называется, его в жизнь… Если сможете, то постарайтесь все-таки понять, оценить нашу объективность и беспристрастность…
Пока Александр Григорьевич говорил так, Тоник рассеянно тыкал одним пальцем в мертвые кнопки пульта, чтобы хоть чем-то занять мешающие руки. Антон нервно крутил кожаный пояс пальто, а Платон, сосредоточив все внимание на блестящем носке своего лакированного туфля, чуть шевелил им и изредка клацал вставной челюстью.
– В прошлый раз, Антон Николаевич, мы договаривались о том, что вы примете безотлагательное решение относительно известного вам вопроса, касающегося двух известных женщин… Такового решения вы не приняли, но теперь это даже и не принципиально, поскольку наша точка зрения несколько переменилась… Вы же, Платон Николаевич…
– Насчет баб, Сань, ты зря, – перебил его Тоник. – От баб им обоим очень даже крепко досталось…
– Собственно, у меня по этой части – никаких претензий, – живо откликнулся Александр Григорьевич. – И отзывы окружающих самые благоприятные. И результаты проверки… Какие могут быть претензии? Всю жизнь каждый из них любил и был верен одной женщине. Вот, пожалуйста… Полный список ее имен… Фотографии разных лет… Никакой подтасовки… Все проверено досконально по отцовской и по материнской линиям – вплоть до авункулата…[73]
– По части вафанкулата, Сань, у них все нормально, – сказал Тоник. – Это я тебе точно говорю. А вообще-то ты прав. С этими стронци один сплошной вафанкулизм…
– Значит, обвинение в убийстве снимается? Кхе!
– Отчего же? – вкрадчиво возразил Александр Григорьевич, проводя ладонью от обширного покатого лба до острой, сходящейся на конус макушки, на которой курчавились как-то вдруг заметно погустевшие и потемневшие волосы. – Вы убили… Никаких сомнений… Убили идеал… Обобщенный, так сказать, образ… Убили в здравом уме и трезвой памяти и потому приговариваетесь. Обвинение, кстати, выдвинуло против вас пять пунктов: преднамеренное убийство, незаконное проживание под разными именами, отягощенное нарушением паспортного режима, перерасход энергии и засорение Каналов Связи.
– Как-то глупо приговаривать сразу троих по одним и тем же пунктам… Антинаучно…
Лицо у Антона Николаевича стало белым как мел. Было видно, чего стоило ему самообладание.
– Не троих, а двоих, – сказал Тоник, глядя исподлобья. – Я не в счет. Поня́л?
– Да, – подтвердил Александр Григорьевич, – одному из вас решено сохранить жизнь. – И, словно бы в подтверждение своих слов, он постучал по столу торцом карандаша, как это делал обычно профессор Грант Мовсесович Петросян. – Мы его оформим как Кустова. Собственно, все документы готовы. Осталось только, уточнить возраст. И конечно, уплотнить время за счет… Ну вы меня понимаете. Особенно вы, Антон Николаевич…
Тоник сорвался с места, принялся паясничать:
– Так что все, ребята. Аривидерчи… Гуд бай… Ва фан куло!.. Между прочим, я ведь предупреждал тебя, пи-исатель… Пеняй теперь на себя, лишенец…
– Какой же ты все-таки негодяй! – медленно, отчетливо, хотя и мелко дрожа всем телом, произнес доктор Кустов. – И вы тоже. Петер Варош… – ядовито усмехнулся он, не глядя в сторону Александра Григорьевича.
– Ну это лишнее… Взаимные оскорбления… Обвинения… Хотя, конечно, мне ваш обычай ругать друг друга перед ответственным испытанием… Перед экзаменом на… Это ведь вам не опыт в пробирке…
Александр Григорьевич привычным жестом попытался распрямить непослушные вьющиеся волосы. Только сейчас все трое заметили, что на нем белый медицинский халат. И руки в карманах. И большие пальцы не помещаются, торчат наружу.
– Я только хотел узнать, уважаемые… Ваши последние желания… И потом еще вот… Мы могли бы договориться о способе… Хотя он и не имеет принципиального значения… В любом случае это совершенно безболезненно. Полная анестезия…
– Дай-ка твой кубик, приятель. Кхе!
– Это ваше последнее желание?
– Да.
Тоник, вопросительно взглянув на Александра Григорьевича и не заметив возражений с его стороны, достал из кармана куртки кубик с отдельными вкраплениями инородных цветов на одноцветных гранях, которые ему так и не удалось устранить во время приема в ресторане «Матьяш пиллз». Платон повертел игрушку, что-то соображая, потом решительно сдвинул, несколько раз повернул. Крэк! Крэк! Крэк! – проскрипел кубик. И еще раз: крэк! Все цвета оказались на месте, каждый на своей грани.
Александр Григорьевич вопросительно взглянул теперь на Антона Николаевича. Он снял белый халат, бросил на стул, потянулся к своему пиджаку, хотя в комнате, пожалуй, за эти четверть часа стало только еще более душно. В то же мгновение Тоник, будто дикая кошка, в один прыжок достиг стола, схватил закрытую бутылку фанты и со всего размаха ударил Александра Григорьевича по голове.
Раздался такой звук, как если бы рубанули тесаком по кочану капусты. На пол полилась желтая пузырящаяся жидкость, и безжизненное тело Александра Григорьевича свалилось с глухим стуком.
– Ну что, мужики?..
Губы у Тоника прыгали. Руки не слушались.
– Оттащим?
Во время всеобщей растерянности Антон хотел было прихватить пиджак Скаковцева – чтобы тот не замерз, пока его будут тащить по улице, что ли? – но Тоник не дал, истошно заорав:
– Дурак? Не волочешь?
– Что? – не понял Антон Николаевич.
– Не трожь, говорю, падла! Положь на место!.. В больницу его! Скажем, что перепил. Сюда он теперь хрен вернется без этого своего пинджака. Без этого дребанного своего мундира он ничто, поня́л?
– Так куда его теперь?
– На Четвертый проспект Монтажников. Может, махнем его на того… Ну… на нашего… У меня там сестра знакомая… Договоримся…
Тоник подхватил стоявший в углу кабинета набитый пузатый портфель, хозяйским глазом осмотрел напоследок комнату, отвинтил от прибора какую-то красивую железяку, сунул в карман, взглянул на всякий случай в окно.
Платон и Антон схватили под руки обмякшее тело и поволокли в сторону лифта.
61
Обещанное выполняется. Желаемое осуществляется.
Трое направляются к стоянке машин, где белые «мерседесы» соседствуют с черными «волгами». Трое вышагивают по весенней, залитой солнцем маленькой площади Будапешта с белой скульптурной романтической группой в центре…
Трое вышагивают по весенней, залитой солнцем и талой водой Москве.
Тоник в фирменном блейзере – смуглое, худое, мужественное лицо крепкого парня, удачливого коммивояжера, плейбоя-сердцееда.
Антон Николаевич в тройке: весь с иголочки. Супермен от науки.
Платон Николаевич в черном велюровом пиджаке; шелковый бант на шее. Цветущий вид. Уверенный взгляд. Знаменитый писатель в расцвете славы.
А им навстречу – по улицам, мостам, площадям, эстакадам наперерез и не пересекаясь с ними, как бы сквозь них, по развязкам надземных, надводных, подземных путей сообщения – движутся их женщины, жены, любимые девушки в легких и ярких весенних платьях, в благоухании парфюмерных испарений, с влекущими, улыбающимися лицами, с подернутыми загадочной поволокой глазами. Они идут им навстречу, на встречу с ними, настоящими мужчинами, людьми дела, кавалерами успеха, красивыми, сильными и молодыми. Медсестра Ирочка – воздушная как пена – кадр что надо. Переводчица Ирэн – сдержанный спортивный стиль. Возлюбленная муза писателя Усова – эфемерное, бесплотное создание, сотканное из звуков музыки. Ну и так далее…
Они идут на свидание, с работы и на работу, в магазин и парикмахерскую, в суд и больницу. В любом случае, однако, они идут туда, где их ждет триумф. Они идут сочетаться законным браком, разводиться, судиться, принимать награды, жаловаться, любить…
Такой вот образуется парад-алле, оборотная сторона которого – скончавшийся после тяжелой продолжительной болезни, как принято писать в таких случаях, больной палаты № 3 отделения кризисных состояний.
Глаза бы на него не смотрели: сущий скелет. Высохшее тело мумии, резко выступающие скулы, глубоко проваленные глазницы, впадины на висках. Такого перед похоронами, если, конечно, имеются друзья, родные и близкие, то есть если есть кому хоронить, – еще приводить и приводить в порядок. А лучше тихо и незаметно, без пышных церемоний, отправить его туда, куда отправляются все в назначенный день и час.
Пускай мертвые хоронят своих мертвецов. Живых он больше не интересует. Внимание живых привлекают те трое. Живые с любопытством и завистью оборачиваются им вслед. Живые хотят походить на них. Хотя бы немного.
К о н е ц
1981—1983
ЗАПИСКИ БОЛЬНОГО
Набросок к замыслу
Тетрадь с этими заметками была обнаружена среди вещей больного палаты № 3 Отделения кризисных состояний…

…Гляди, наша улица Горького шумит, урчит, бурлит, исходит бензиновой гарью! Мы снова здесь. Все возвращается на круги своя. Но где друзья, школьные товарищи? Где наша школа? Ее больше не существует. Так мало теперь детей в центре, что некого учить. И тот двухэтажный дом, где жила Индира, тоже давно разрушен: на его месте высится гостиница «Интурист». И в переулке, где сам ты жил когда-то…
Давай уж тогда по порядку.
Как полагаешь, с чего начать? Может, старт нашему правдивому повествованию даст одна из маленьких внутрисемейных аварий, из-за которой ты провалялся на больничной койке одиннадцать месяцев? Согласись, что от выбора точки отсчета многое зависит. Тут нельзя ошибиться ни на один факт, иначе утратится смысл событий, перепутаются причины и следствия. К сожалению, кое-что я стал уже забывать, отдельные эпизоды помню смутно.
Ну что ж, обсудим не торопясь…
Попробуй все-таки сконцентрироваться на главном, выбрось из головы лишнее.
Относительно точки отсчета ты абсолютно прав. Попытаемся же нащупать миг полного взаимопонимания и согласия, дабы без сомнений и колебаний в нужный момент надавить на ребристую головку хронометра, зажатого в потной ладони.
Вполне ли понимаешь ты, что последует за этим?
Разумеется. Время тотчас ускользнет из-под нашей власти, подчинившись механически монотонному дерганью стрелки, сосредоточенно-неумолимому бегу дней и лет.
А ты, или я, или оба мы одновременно почувствуем при этом лишь легкий укол. Выступит кровь, набухнет каплей и медленно начнет стекать на рыжую клеенку, если только сестра в белом халате не успеет отсосать ее в трубочку или размазать по стеклу, превратив в ржавый сухой остаток.
Помнишь? Ты был почти взрослым, когда мать однажды проговорилась о некоторых тайных обстоятельствах твоего появления на свет – не то чтобы вынужденно, скорее в силу природной своей несдержанности и обескураживающей многих непосредственности натуры, сохранившейся до преклонного возраста. Однако с той поры обремененности тобою, когда она была еще слишком юна и, по всеобщему мнению, весьма привлекательна, прошло очень уж много лет. И муж ее, твой отец, в те годы был молодым, красивым, полным сил мужчиной с покрытыми густой вишневой эмалью «кубарями» в петлицах гимнастерки офицера бронетанковых войск. Вспоминая, ты будешь, между прочим, всякий раз подчеркивать это обстоятельство, как бы оправдывая ее, жалея себя, еще не родившегося, и нынешнего, уже вышедшего на финишную прямую. Короче, имел место период, возможно совсем небольшой, когда ей захотелось продлить свое безоблачное счастье, внезапно нарушенное ежедневной тошнотой, рвотой, головокружением, отсрочить приход отпущенных судьбой трудностей, ответственности и страданий. Тогда она прибегла к помощи хины, но хина не помогла. То ли горчайший порошок по какой-то причине утратил природную свою активность, то ли женская природа взяла верх, или что-то в последний момент дрогнуло в сердце будущей молодой матери – во всяком случае, ты родился живым и даже, что называется, в рубашке: лишь пигментные пятна на твоем лице всегда будут напоминать о той страшной, таинственной борьбе, которую она вела наедине с собой, и о ее невнятных метаниях. А позже, во время войны, в эвакуации, когда, лишенный материнского молока, ты умирал от голода и болезней, набросившихся на ослабленный хинным отравлением младенческий организм, она вдруг проявила чудеса материнской находчивости, силы и мужества, чтобы спасти тебя. Твой рот забит был белым налетом, ряской смерти, плесенью небытия, ты едва дышал, врачи признали себя бессильными. Тогда твоя мать с отчаянной решимостью сама выгребла указательным пальцем из твоего рта и горла всю эту мерзость и ты задышал ровнее. Какая-то старуха дала за буханку хлеба целебное зелье, мать приготовила питье, и понос прекратился. Словом, тебя можно было счесть вторично родившимся, хотя вряд ли подобное начало следует признать удачным или даже удовлетворительным.







