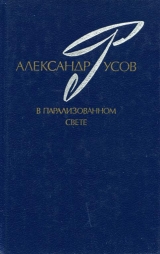
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
– Не беспокойся. Она уже в номере.
– В каком номере?
– В твоем – триста девяносто третьем. В каком же еще!
– Порка мадонна! Ну спасибо, коли не шутишь.
Тоник дергает дверь.
– Сань, открой. Я пойду к ней.
Александр Григорьевич будто не слышит. Он думает о своем, морщит покатый лоб.
– К тебе загляну попозже. Слышь? А то Платон скоро вернется.
– Не скоро. У него ведь прием в «Матьяш пиллз».
Александр Григорьевич достает из кармана брюк брелок в виде буквы F, откупоривает бутылку емкостью 0,33 л с желтой шипучкой «фантой» – фирменным напитком Следственного Отдела, разливает в тяжелые хрустальные стаканы с утолщенными днищами.
– Вам не тесно вдвоем в одном номере?
– Нормально, – говорит Тоник. – Я ведь вроде его секретаря. Что называется, при нем…
– А разве не сам по себе? Не по своим звукооператорским делам приехал в Будапешт? Не по светотехническим?
Александр Григорьевич медленно глотает лопающиеся пузырьки.
– Вообще-то конечно, Сань. Если разобраться…
Тоник выпивает из своего стакана залпом. Мелкие пузырьки расслабляющим кипятком бегут по жилам.
– Да ты разденься, здесь жарко.
Сам Александр Григорьевич скидывает свой мышиного цвета пиджак, вешает на спинку рабочего кресла.
– Кондиционеры ни к черту…
Тоник распускает кожаный пояс, расстегивает пуговицы на кожаном пальто. «Да, – думает. – Ну и клевое у него оборудование! Одни эти ручки-штучки чего стоят. Что ты!.. Фирма́… Свистнуть бы, конечно, отвинтить…»
– Я, ты знаешь, могу Платона и у себя устроить.
– Где?
– Да прямо тут…
Александр Григорьевич опускает глаза, загадочно улыбается. А вот Тонику не нравится эта его кривая улыбочка. И то не нравится, что за глаза он называет Платона только по имени, без отчества. Писатель все-таки. Мог бы и повежливее.
– Ему-то это на хрена?
– У тебя ведь девушка…
– Оно конечно… – соглашается Тоник. – Но, с другой стороны, там, обратно же, душ, сортир, койки широкие. Все удобства.
– Ему тут тоже будет неплохо.
– На раскладушке?
И снова такая же странная, себе на уме улыбка.
– Все равно эта сука жизни не даст, – говорит Тоник. – Этот каццо. Этот стронцо…
Тоник прямо задыхается. Не хватает слов. Зла не хватает.
Александр Григорьевич подходит к столу со стороны рабочего кресла, щелкает рычажком и опять ловит себя на непростительной забывчивости. Зябко поеживаясь, будто замерз, хотя стало не то что прохладнее, а еще даже жарче, он надевает пиджак, снова щелкает рычажком, отворачивается, становится к Тонику спиной, наклоняется, бормочет вполголоса:
– Три девять три. Снять семнадцатого. С Бюро Проверки согласовано…
Что-то в столе опять начинает гудеть, урчать и вибрировать, потом стихает.
– Все в порядке. Бела Будаи больше не дежурит.
– Уволили? – спрашивает Тоник.
– Ну…
– Отпуск?
– Да. Долговременный… Знаешь, – вдруг говорит Саня Скаковцев, – он заболел.
– Грипп?
– Что-то вроде.
– Надолго?
– Навсегда.
– Сосиску тебе в рот!..
Тоника даже в жар бросает. Александр Григорьевич смеется Александр Григорьевич отмахивается: мол, не стоит благодарности. Такая, мол, мелочь. Сущие пустяки.
– Главное, чтобы у тебя с твоей девушкой… – И тон такой отеческий. – Чтобы у вас все было хорошо.
Тоник терпеть не может, когда с ним так разговаривают. С Платоном из-за этого вечно ругается.
– Нет, – исправляет ход его мысли Александр Григорьевич. – С Платоном как раз совсем не так…
– А что? – спрашивает Тоник несколько оторопело.
– Ну что?.. Убил жену – теперь льет крокодиловы слезы.
– Уби-ил?..
– Да ты ведь сам рассказывал.
– Что? Я?
– Ты, конечно.
– Когда это?
– Сейчас уточним.
Александр Григорьевич заглядывает в блокнот.
– Вот… Двадцать девятого ноября. В восемнадцать часов семь минут.
– Где это я рассказывал, каццо?
– У себя в клубе… Про то, как он ей изменял… И как довел…
– Так я же в другом смысле. Порка мадонна!
– Убивают только в одном смысле.
– Сосиску тебе в рот! Ты чё ему клеишь?
Улыбка постепенно сходит с лица Александра Григорьевича. Добродушие и благожелательность оставляют его.
– Не беспокойся, он получит свое. А ты очень скоро получишь отдельный номер.
– Кончай, стронцо! Платон – законный мужик. Ты его не тронь, каццо. Поня́л? Падлой буду! Лучше не тронь… – Тоник обводит кабинет взглядом, которого не различить под темными стеклами очков. – Я психованный. У меня справка есть… – но угроза звучит как-то очень уж неубедительно.
Александр Григорьевич внимает. Александр Григорьевич усмехается.
– Ну, если не его, то тебя…
– Дурак, что ли?
Александр Григорьевич прогуливается по кабинету. Александр Григорьевич показывает, сколь он умеет быть снисходительным и терпеливым.
– Твоя кандидатура согласована. Ты остаешься. Но если настаиваешь на замене, я готов. Исключительно из хорошего отношения. Хотя мне, конечно, лишняя морока. Придется переоформлять документацию.
Александр Григорьевич медленно проводит по столу пальцем. Александр Григорьевич словно бы проверяет, нет ли на столе пыли. Потом еще раз проводит, в перпендикулярном направлении. Получается крест.
– Профессора Петросяна знаешь?
– Баклажанью морду?
– Ну так вот: поручим ему.
– Что?!..
– То самое.
Александр Григорьевич в глубокой задумчивости рисует на несуществующей пыли еще один крест.
– К тому же у них на тебя зуб. Это я до сих пор не давал им. Скажи спасибо.
– За что? Чё я сделал? – заскулил, едва не заплакал Тоник.
– Что сделал? Если понадобится, найдем. И что сделал, и чего не делал. Тут важно решить принципиально.
Тоник всхлипнул, втянул голову в плечи, сжался весь, сморщился. Настоящий старичок. Или младенец.
– Ну-ну! Возьми себя в руки! Ты же мужчина.
Александр Григорьевич вновь зашагал по кабинету, вслух размышляя и делясь своими планами на ближайшее будущее.
– Ровно в девять вы все собираетесь у меня. Выйдет же отсюда только один. Этот один – ты. Тут не все определяет личная симпатия, хотя и она, конечно, играет определенную роль. Чтобы ты правильно меня понял… Нас интересуют будущие возможности, а не прошлые заслуги. Мы скорее радикалы, чем консерваторы, и потому – на стороне молодости. Стариками пусть занимаются другие ведомства. Пускай они их защищают, оберегают, отстаивают права…
Этот стронцо так и шпарил, так и шпарил. Как по радио.
– Ты понимаешь, я бы не стал тратить время на объяснения с тобой, если бы… – Александр Григорьевич остановился на полпути между окном и дверью. – Если бы не нужда в гарантиях. Мы должны быть уверены, что завтра ты не полезешь в петлю. В этом миленьком твоем доме на Строительной. Иначе зачем все усилия? Может оказаться, что мы больше потратимся на свечи, нежели стоит вся игра. Теперь о Платоне, за которого ты так горячо вступился… При нормальном раскладе ему бы осталось написать всего две, ну от силы три книги. Но ведь и без них всего через пятьдесят пять… какой у нас месяц?.. – Александр Григорьевич поискал глазами настенный календарь. – Да, ровно через пятьдесят пять с половиной лет, по данным общественного опроса, он станет одним из самых известных и читаемых писателей в мире. Разумеется, сам он этого все равно не увидит, а те две или три книги ничего не прибавят к его славе. Что жизнь? Один миг. Книгой больше, мгновением меньше – какая разница?.. Ну а об Антоне Николаевиче и вовсе говорить не стоит. Тут потребовалось бы столько энергии… Да вот расчеты, если они тебе о чем-нибудь… Так что поверь, никакого смысла… При том энергетическом кризисе… При том режиме экономии, который всем нам приходится соблюдать… Антону в любом случае не на что рассчитывать…
Тоник сидел ссутулившись, сплетя между коленями бледные длинные пальцы.
– Теперь иди, – сказал Александр Григорьевич. Вид у него был тоже измученный. – Ступай к своей девушке, а к девяти возвращайся. И не опаздывай.
Он тяжело опустился в свое рабочее кресло, не проводив Тоника даже до двери.
54
Худое аскетическое лицо Антона Николаевича еще более заостряется. Остаются одни очки. Проглотив уйму успокаивающих таблеток, он перестает садиться за руль: не может ориентироваться в быстро меняющемся мире транспортных магистралей. Цепкая память, твердость походки, прямая осанка – куда только все подевалось? Он становится рассеянным, неряшливыми сутулым. Еще недавно будучи всем нужным и для всех интересным, Антон Николаевич вдруг перестает быть тем, чем был: уважаемым доктором Кустовым, человеком дела, человеком успеха. Отстав от находящейся на марше эпохи, он плелся теперь в печальном одиночестве по пыльной дороге, уже и не пытаясь догнать остальных.
И вот, находясь именно в таком состоянии, он укладывает однажды в свой портфель самое необходимое и, никому не сказав об этом, отправляется на вокзал. Он отправляется на Киевский или Московский, Бухарестский или Будапештский вокзал, одновременно напоминающий и купол центрального или периферийного, заполярного или континентального – субтропического уж во всяком случае – рынка, и опрокинутый аквариум, и базилику Сан Джованни инлатерано в Риме. Выйдя из метро, он поднимается по мокрым и уже сухим, обледеневшим и уже оттаявшим, серым, шершавым, широким ступеням, сливается с толпой, входит внутрь и останавливается у светящегося табло.
На табло – время прибытия и убытия ежедневного поезда Будапешт – Москва. На табло – часы прибытия и убытия ежедневного поезда Москва – Бухарест. Антон Николаевич отодвигает твердый кожаный край рукава пальто, вглядывается в положение часовых стрелок. До прибытия поезда Бухарест – Москва остаются считанные часы. До прибытия поезда Будапешт – Москва остаются считанные минуты.
Где-то в вокзальной глубине слабо фосфоресцирует стойка буфета. Жарко светятся стекла с цветными пейзажами. Яркие витражи, призрачные миражи – никчемные рекламы трансконтинентальных рейсов. Вдоль прохода в зале ожидания тянутся ряды, громоздятся штабели навязчиво однообразных кресел, веселых пластмассовых стульчиков без спинок. Черные, белые и оранжевые вогнутые сиденья доставлены сюда прямо со Всемирной выставки пластмасс. Их скопление являет собой как бы многократно увеличенный и умноженный кабинет дантиста. Или складское помещение фабрики тазобедренных протезов. Или склад сидений для унитазов, выполненных по последнему слову технической эстетики и сантехнической мысли.
Кустов присаживается на одно из таких типовых сидений, на один из универсальных безразмерных стульчиков, жестких и пружинистых. Кустов проверяет, удобно ли на нем помещаться, удобно ли отдыхать, ждать. Приладившись наконец, он устраивает на коленях пухлый портфель и принимается разглядывать интерьер – все эти многочисленные колонны, антаблементы, барельефы, горельефы, коринфские вазы, светильники, ложные балкончики и галереи – весь этот романтический альянс дворцовой эклектики и вокзального униформизма, в лоне которого сидят, стоят, снуют, дефилируют по проходу люди – пульсирует толпа, поток постоянно перемещающихся на большие расстояния пассажиров.
Под гулкими сводами громко хлопают крыльями голуби. Цокают по камню подковки и подковы, набойки и подметки, каблучки, каблучищи. Время остановилось, увязло в тесте музейной лепнины, в паутине перепутанных рельсов, застыло в опрокинутой вагранке – под застекленным выпуклым ребристым перекрытием – под высоко опрокинутым над платформами вафельным параболическим желобом дебаркадера.
Кустов попадает в гулкое сырое пространство этой аэродинамической трубы. Он выходит из дворцового помещения на гладко асфальтированную площадку, где две симметрично стоящие обнаженные гипсовые наяды с красными фонарями в руках встречают и провожают поезда. Перрон дальнобойным орудием нацелен в далекий, едва различимый просвет серой хмари. На электронных часах и электронном термометре над перроном вспыхивают поочередно показания температуры и времени, времени и температуры.
По глубокому пазу между платформами медленно и бесшумно приближается поезд. Незрячий бликующий циклопический глаз нащупывает в торце тупика два густо смазанных, замурованных в толщу бетона и асфальта ограничительных чугунных буфера.
Кустов идет навстречу поезду. Кустов воспринимает боковым зрением тусклое свечение рельсов. Поезд приближается. Акульи зубы решетки. Уже слышно утробное гудение двигателя. Тужатся тормоза. Лязгают сцепления. Колеса давят кем-то просыпанную крупу. Хрустят панировочные сухари на рельсах.
Стучат колеса. Сердце колотится. Голова кружится. Щекочет пятки, как возле края обрыва. Пропасть тянет. В глазах черно от слепящего света. В глазах бело от сверкания рельсов.
Он идет по платформе навстречу поезду. Он ослеплен. Расплавлен. Раздавлен. Превращен в тень. В силуэт из черной фотобумаги. В расплющенную до прозрачности фольгу. В расплывающийся мираж.
В глазах плывет. Гудит оглушительно. Он теряет зрение. Теряет слух. Теряет сознание. Проваливается в ночь. Проваливается в свет.
Толпа устремляется на перрон. Спасать. Встречать. Вытаскивать из-под колес. Завывает сирена «скорой». Завывает сирена «милицейской».
…Этот дебаркадер вокзала. Эта бесконечная труба. Этот наземный, подземный тоннель. Серные испарения. Запах горелого топлива. Удушье от выхлопных газов. Чирканье света по кафельным плиткам. Блики. Рефлексы. Машины проносятся мимо – будто бритвой с размаха по лицу: раз! раз! раз!..
Душераздирающая какофония. Непроглядное, беспросветное жерло тоннеля, едва освещенного, ведущего в ад.
Он плетется по обочине, по узкой бровке тротуара, по одному из лонжеронов этой железнодорожной, автодорожной конструкции.
Грохот колес, визг тормозов, завывание «скорой», пиликанье «милицейской». Оглушительный гул. Резонанс. Реверберация.
Аберрация.
Он подавлен. Парализован. Раздавлен. Ни жив ни мертв на этом пути из чистилища в ад.
Тоннель вдруг кончается. Он опять на набережной. Но теперь уже на том берегу, где Рыбацкий бастион и собор святого Матьяша. Вдыхает сырой прохладный воздух. Пешт остался по другую сторону тоннеля. По левую сторону от моста. Тот город за Дунаем с черным, как негр, зданием уже поглотили синие сумерки. Только первый план выступает контрастно.
Он стоит на будайской набережной с нелепой голубой трансильванской вазочкой в руке – на платформе Киевского, Будапештского, Бухарестского вокзала, опустив тяжелый портфель на асфальт, в который уже раз перечитывая узкую табличку – белую на зеленом надпись: «Будапешт – Москва», «Москва – Будапешт». А на черном, бархатисто-угольном табло над перроном все еще бегут, кривляются, ломаются, крошатся и вдруг мертвенно застывают буквы и цифры, набранные из желтых, как свежая пыльца, точек. Яркая люминесцентная краска видна издалека.
Он останавливается возле открытой двери вагона остановившегося поезда. Он останавливается возле девушки-проводницы, стоящей на перроне. Девушка-проводница проверяет билеты. Серый берет. Серый жакет. Серая юбка и девичий стан… Мой мимолетный роман!..
Эх, Маша-Маруся, ромашка моя,
Помнишь ли знойное лето
Это?
Ах, нам с тобой никогда не забыть
Все,
Что пришлось пережить…
Музыка на вокзале. Толпы провожающих. Толпы встречающих. Духовой оркестр.
Посадка. Площадка. Серая юбка и девичий стан. Лязг буферов. Он с трудом поднимается со своим тяжеленным портфелем по крутым железным ступеням наверх и выше – на второй этаж пассажирского, скорого, пульмановского вагона дальнего следования и международного класса.
Еще одна лестница ведет вниз, будто в трюм корабля. Узкая лестница, пылающая красной ковровой дорожкой вагона СВ и бархатом малиновой шторы где-то там, внизу, в едва различимой глубине.
Трое проводников-официантов в черных брюках, белых куртках и с черными бабочками на крахмальных грудях встают на его пути. Снизу доносятся едва уловимые запахи съестного. Он просит разрешения пройти. Его не пускают.
– Мой билет я уже сдал. Там, у проводницы…
Из-за бархатной широкой шторы, за которой слышится неровный шум голосов, выходит четвертый.
– Ё напот киванок, – приветствует его Антон Николаевич.
– Добрый день, – отвечает четвертый. – Добрый вечер. Доброе утро, – говорит он по-русски без малейших признаков акцента. – Что вам угодно?
– Я хочу пройти, – говорит Антон Николаевич. – Туда.
– Все занято. Извините.
– У меня есть билет. Я приглашен. Меня ждет доктор Варош. Из Будапештского политехнического…
– Фамилия?
– Кустов.
– Усов?
– Что?
– Да, да, пожалуйста. Заказано на семнадцать. По протоколу.
– Как?
– Пожалюста?!.. Добро пожаловать в «Матьяш пиллз»!!!
Метрдотель почтительно кланяется. Едва шевелится тяжелая малиновая бархатная штора у него за спиной.
55
Вообще-то Тоник решил бежать. На хрена ему сдалась эта больница? Этот каццо Баклажанья морда и этот стронцо Леонардыч Козья Борода. Лечить, суки, ни хрена не умеют, только и знают, что диссертации себе делают. Лишь бы перьями скрипеть. Им человека угробить – раз плюнуть. Этот Леонардыч, слышь? – хотел Тоника загипнотизировать. А сосиску в рот не хочешь? Вот Тоник и устроил ему козью морду. А чего? Запросто. Тоник такие штуки знает. Надо только собраться с мыслями, сгруппировать все мышцы и медленно повторять про себя: «Ва фан куло! Ва фан куло!» И все дела. Никто уже тогда к тебе не подступится. Никакой гипноз не возьмет. Леонардыч, конечно, пошел Баклажану жаловаться. Вот и решили они Тоника унасекомить, к ногтю прижать.
Тоник это дело сразу усек. Перестал принимать больничную пищу вообще! Таблетки стал спускать исключительно в унитаз. Не давался теперь сестрам делать уколы. Пил – только из-под крана. Боялся, что подсыпят чего-нибудь в еду. Или в питье.
Дождался случая. Дождался вечера, когда дежурила та сестра с родинкой на щеке. Тот кадр, который он в первый же день заклеил. Ну после отбоя лег он в койку – как положено. Лежал тихо. Лежал и слушал громыханье редких трамваев под окном. Потом нажал кнопку вызова. Девушка пришла. Он ее обнял. Поцеловал. Сказал, что уходит завтра в море. В смысле: гуд бай, подруга. Ауф видерзеен. Аривидерчи, Рома…
Девушка в слезы. Естественно. Ну как обычно. Тебе, мол, нельзя. Для здоровья опасно. И всякие там женские штучки в таком роде. Себе, говорит, вред наделаешь и меня могут с работы уволить. Неужто тебе плохо со мной? Мол, я ведь на все готова, на все согласна – что только пожелаешь…
А Тоник ей:
– Прощай, любимый город…
Она:
– Нет, мой родной. Нет, мой любимый…
Тоник на это:
– Ты не бои́сь, подруга! Если чего, я тебя к себе на работу в клуб устрою. По той же специальности. И может, даже женюсь.
А она знай свое:
– Не уходи, миленький.
И все такое известное.
Тоник:
– Дело решенное. Мне пора, – и застегивает молнию на джинсах. И надевает куртку. Прилаживает лыжную шапочку.
Кто болеет за ЦСКА, тот выиграет наверняка! Вот так, красотка! Не плачь, не горюй. Напрасно слез не лей. Лишь крепче поцелуй… Ну и так далее. Все, стало быть. Финиш. Полный дембель.
Девушка тайком открывает маленьким ключиком бронированную дверь, изящно оформленную под застекленную перегородку с ситцевыми занавесочками. Тоник бросает прощальный взгляд. На овальный полированный стол в холле, на цветной телевизор в углу, окруженный импортными креслами, на ярко освещенный настольной лампой столик дежурной сестры. Дежурной лисички-сестрички. И вот они уже выходят в курилку. Холл остается за кормой. Универсальной гнутой отмычкой с квадратным четырехгранным углублением, какими пользуются в поездах проводницы, девушка отмыкает следующую дверь – на лестницу.
Тоник делает девушке ручкой. Тоник посылает воздушный поцелуй. Тоник сбегает по ступенькам. Марш за маршем. Душа в предвкушении свободы ликует. Полный атас! В гробу он видал эту больницу. Особенно Баклажана. А уж эту Козью Морду Леонардыча – вообще… Сосиску им всем в рот!
Снизу доносятся голоса. Снизу доносится топот ног. Тоник замедляет шаги. Тоник останавливается. Неужели тревога? Неужто его запеленговали? «Ну, – думает, – если начнут брать, живым не дамся. Прощай, – думает, – любимый город!..»
Дорогу ему преграждают трое. Трое лбов в белых коротких куртках. Трое, стало быть, санитаров. Инструкторов-чемпионов по каратэ. Соединенные Штаты Японии.
Тоник уже приготовился к схватке. Тоник встал в стойку. Руки крест-накрест. Не забуду мать родную! Подходи по одному!
Но те не подходят. Боятся. Понимают, что пахнет жареным. Вроде как бы даже стесняются. Уразумели, конечно, что он мастер. Международного класса. Что голыми руками его не возьмешь. И даже самурайские мечи им тут не помогут. Сзади к этим троим присоединяется еще один – по виду старший. Маленький такой, лысоватый.
– Иванок, – говорит. – Иванок-поткиванок.
Вежливо так. Вроде: извините. Мол, ложная тревога. Отбой. Ошибка вышла. Мы приняли, мол, вас за кого-то другого. Вы приняли нас за кого-то еще…
– Элфтаршак Уссофф? – говорит этот маленький лысоватый японец и так низко кланяется, что даже задевает бархатную портьеру у себя за спиной.
– Чего? – пытается уточнить Тоник.
Японец широким жестом откидывает малиновую штору. За шторой открывается просторный зал. Японец устремляется по проходу между столами, увлекая Тоника за собой. А Тонику на хрена это нужно? На хрена ему эта ихняя столовая для больничных сотрудников? Он этой больничной едой сыт по горло. Но тут японец ложится на левый борт, берет, стало быть, курс к левой стене и останавливается возле одной из секций, устроенной вроде ниши. Стол для шестерых приставлен торцом к стене. За столом сидит Антон в гордом одиночестве. В окружении, следовательно, пяти пустых пухлых, обтянутых темной коричневой кожей стульев, красиво обитых специальными такими мебельными гвоздиками с большими шляпками золотистого цвета.
56
Белокурая Переводчица фальшиво улыбается. Белокурая Переводчица то и дело торопит: мы можем опоздать, мы опаздываем, уже опоздали.
Ладно. Хорошо. Опоздали. Чего же тогда торопиться? Чему улыбаться?
…А Пешт повсюду развесил сети туманов. И Буда нависла над Дунаем фарфоровыми бирюльками Рыбацкого бастиона. И кирха-церковь, на обломках которой старший сержант Платон Усов, младший лейтенант Платон Николаевич некогда стоял, разглядывая осколки витражей, до сих пор так и не найдена. Так и не обнаружен тот разрушенный прямым попаданием костел-собор. Белокурая Переводчица, молоко тумана, домашняя обстановка издательства «Европа», из которого они так и не ушли еще, подвальчик «Матьяш пиллз», куда они скоро отправятся, намеченный на завтра просмотр модного в этом сезоне фильма «Мама Рома» и послезавтрашняя поездка в Шопрон, в римские каменоломни, – все это, помимо осознанных и целенаправленных усилий писателя Усова Платона Николаевича, сплавляется в его воображении с написанными и еще не написанными фрагментами будущей книги.
Им с Переводчицей постоянно встречаются в пути какие-то люди, которые идут навстречу по туманным улицам, этажам, коридорам, входят и выходят на остановках из общественного транспорта, и среди множества чужих лиц то и дело мелькают знакомые: то разболтанный парень в спортивной куртке и лыжной шапочке, то сердитый и строгий на вид научный работник в кожаном пальто, то молодящийся старик с похотливым взглядом и нервически прыгающей щеточкой седых усов…
Издатель, сидящий напротив в обтянутом серым букле мягком кресле, понимающе кивает, проявляет заметный интерес, помешивает ложечкой остывающий кофе. Платон Николаевич продолжает делиться своими творческими планами. Своими непрестанно ветвящимися идеями относительно книги, которую собирается написать, которую уже пишет. Белокурая Переводчица с трудом переводит его сбивчивую речь, наполненную самыми невероятными ассоциациями. Вид у нее усталый. Взгляд потухший. Синяки под глазами, как после бессонной ночи. Вместо живых красок лица – разводы косметики. Она уязвлена недавно сделанным ей грубым замечанием. Она к этому не привыкла. Она просто убита. Ей выражено недоверие. Ее профессиональное мастерство поставлено под сомнение. Писатель Усов обращается с ней как с последней девчонкой. Как с какой-нибудь путаной Евой…
Переводчица улыбается Издателю через силу, одними губами. Пытается сберечь остатки профессиональной и женской гордости. Переводчица теребит браслет, касается выпуклым крашеным ногтем выпуклой чечевицы крохотных часиков.
– Извините… Нам пора… – говорит она совсем тихо, без прежнего уже напора в голосе.
И даже не так уверенно встряхивает своей золотистой гривой.
Платон Николаевич упирается ладонями в бугристое букле подлокотников кресла. Платон Николаевич поднимается. Издатель тоже ставит пустую кофейную чашку с черным осадком на журнальный столик. Встает. Они говорят друг другу приятные слова. Белокурая Переводчица переводит. Подробно. Детально. Дотошно. Со всеми оттенками смысла. Что в данном случае совсем уж не обязательно.
На улице мелкий дождь. Изморось. Туман. Асфальт тускло светится. Тепло. Парит. Почти как прохладным летом перед грозой. Хотя на улице сейчас европейская зима. Хотя на улице европейская весна. Они садятся в трамвай, в автобус или в автомобиль. Возможно, спускаются под землю – в метро, если только станция подземки находится рядом. Или даже идут пешком.
Еще половина пятого. Еще без пятнадцати пять. Без десяти. Еще уйма времени, и нечего было торопиться. Еще можно прогуляться по улице, ведущей к Дунаю, остановиться возле одной из витрин с женскими украшениями. Судя по всему, Платон Николаевич собирается сделать переводчице дорогой подарок. Смягчить нанесенную обиду. Восстановить атмосферу доброжелательности. Вернуть былую любовь. Он собирается сделать это из самых добрых чувств, без всяких задних мыслей. Как отец – дочери. Как известный старый писатель – своей молоденькой секретарше. Как муж – жене, любовник – любовнице…
Из сплошного тумана выступает начало моста – вздыбленные переплетения стали. И вот они снова вдвоем на улице, одни во всем городе, в целом мире.
Платон Николаевич покашливает. Он плохо переносит сырой будапештский климат, влажный будапештский воздух. Переводчица берет его под руку, льнет к плечу. Переводчица вполне оценила его искреннее желание, его благородный порыв. Да, они непременно зайдут в этот магазин, но только не сейчас – потом. Это извечное женское «потом».
– Нам пора, – интимно шепчет она, горячо придыхая, благоухая терпкими духами.
Совсем как его жена. Тут не только сходство имен – поразительное внешнее сходство. Как бы даже сходство физиологии. Временами даже такое впечатление, что это именно она и есть.
Им опять овладевает неистребимое, паническое, навязчивое желание – бежать. Бежать во что бы то ни стало, неважно куда. Но Переводчица крепко держит: не вырваться.
Невыносимо! Бессмысленная поездка. Пустое времяпрепровождение. Зачем ему эти встречи, приемы? Эти опустошающие разговоры. Зачем эта женщина?..
Будапешт в молочной дымке. Стальные, разъеденные непогодой конструкции моста вязнут в тумане, в мутном крахмальном растворе.
Они входят в неказистый подъезд. Платон Николаевич помогает даме раздеться, сдает рыжую кожаную куртку в гардероб. Раздевается сам. Переводчица причесывается перед зеркалом, раздирает щеткой спутавшиеся золотистые пряди.
По узкой лестнице они спускаются в подвал. Три официанта в белом и черном встречают их. Из-за малиновой бархатной портьеры появляется маленького роста пожилой метрдотель с прилизанными редкими волосами.
Их торжественно вводят в зал. В сопровождении метрдотеля и двух официантов они подходят к столу, за которым уже сидят двое.
Платон Николаевич плохо видит. Очки запотели. Все как в тумане. Но тут картина просветляется, и Платон Николаевич сразу узнает.
– Подпольные люди! Кхе! – севшим вдруг от волнения голосом восклицает он.
– Привет, стронцо!
– Здравствуйте, – говорит доктор Кустов.
Переводчица в растерянности. Ее прекрасные глаза мечутся по раскрасневшемуся лицу. Встреча по протоколу, а тут двое лишних – и один из них, как видно, тот, о котором говорил Платон. Интересно, который?..
– Ё-мое, мы тут с голоду помираем. Сколько можно ждать?
Антон Николаевич передвигается вдоль стола ближе к стене, освобождая место для дамы. Тоник, сидевший напротив, делает то же самое.
Появляется хозяин приема – Редактор. Редактор и его молодая сотрудница в сопровождении трех черно-белых официантов, замыкающих шествие. Плотный, сангвинического склада Редактор – большой человек на фоне измельченных предметов, образующих дальнюю перспективу зала, – приветствует сидящих за столом улыбкой банкира. Пожимает руку Переводчице. Пожимает руку Платону.
– Разрешите представить…
– Очень приятно…
Редактор представляет гостям свою сотрудницу. Переводчица переводит:
– Сотрудница отдела русской литературы…
Сотрудница улыбается. Платон говорит:
– Кхе! В общем-то мы, так сказать, знакомы…
Тоник мнется у себя в углу.
– Ирэн!.. – выдыхает он наконец, когда подходит его очередь быть представленным.
57
Вот вы и снова собрались вместе – сильнейшие представители человечества: рыцари, подлецы, импотенты, повелители, властелины и в двадцать, и в сорок, и в шестьдесят лет. И вместе с вами – ваши женщины. Догадываетесь ли вы, что думают они о вас? Вы, вечно молодые ничтожества!
Это ведь только на первый взгляд вы разные. Вы только хотите быть разными, казаться блондинами и брюнетами, людьми умными и значительными, атлетами и интеллигентами, героями и суперменами, а на самом деле все вы на одно лицо, все одним миром мазаны. И цена вам, нынешним, – ломаный грош даже в базарный день. Есть только один среди вас – действительно умный, нежный, страстный и добрый, необыкновенный и удивительный, на других совсем не похожий. Единственный, кто умеет любить, преклоняться перед женщиной, боготворить ее. Кто умеет ценить ее верность и преданность, в ком не иссякают благородство, великодушие и честь. Но где его встретить, найти? А встретив, как удержать?
Каждый из вас – это только немой инструмент. Лишь женщина способна извлечь из него достойную, совершенную, божественную музыку. Всегда ли вы, больные самомнением, зараженные ленью, немощью, идеей мирового господства, помните об этом? Смирите гордыню, вернитесь к домашним очагам! Ибо, если не вернетесь и не раскаетесь, вас ждет жестокая одинокая старость и долгая мучительная смерть. Вы умрете как бездомные собаки, и некому будет даже подушку поправить, даже закрыть вам глаза.
Молите же о пощаде! На колени!
58
ТЕЛЕГРАММА
–ГЕН ШУЛЕПНИКОВУ-
ЗАПРАШИВАЕМЫЙ ВАМИ СПЕЦИАЛИСТ СПИСКАХ СОТРУДНИКОВ НАШЕГО ИНСТИТУТА НЕ ЗНАЧИТСЯ
-КЛОН ЗУЕВ-
* * *
…с прискорбием сообщает о трагической гибели жены… Светлая память… навсегда…
* * *
Сосиску вам в рот! Ва фан куло!
Тоник
(Бывший заключенный палаты № 3)
* * *
Уважаемый Платон Николаевич!
В связи с истечением срока действия издательского договора на Ваш роман о дружбе и сотрудничестве ученых социалистических стран, заявленный под названием «В ПОЛЯРИЗОВАННОМ СВЕТЕ», прошу в десятидневный срок…







