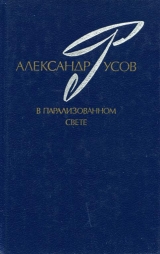
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 44 (всего у книги 45 страниц)
Откуда бы в населенном пункте В взяться цветущим тополям в июле?
Если она так сказала, значит, уже красила тушью ресницы. Ведь тополиный пух пристает к намазанным ресницам, как мухи к липучке. И тут же появляются слезы…
Тополиный пух за городом? Ты не путаешь?
Мы спустились с горки и теперь подошли к тому месту, где два года назад грузовик сбил десятилетнего мальчика – в то лето, когда Индирины родители снимали дачу на станции «Ермолаевка»… Помню, вот так же шли с кем-то из взрослых, дурачились – четыре разновозрастных мальчика, срывали колючки репейника, пулялись друг в друга. Я набрал полную горсть репья, начал бросать, а тот мальчик отскочил… Не помню даже, как его звали. Белобрысый такой соседский мальчик. Худенький. Ну, в общем, обычный. Шел, весело подпрыгивая… Я замахнулся, а из-за поворота выскочил грузовик. Я даже вскрикнуть не успел, остальные же просто не заметили. Правда, взрослый как-то диковато оглянулся, когда грузовик прогромыхал мимо. Стало опять тихо, мы продолжали свой путь, и только мальчик остался лежать посреди шоссе, уткнувшись головой в руки, будто вдруг уснул на ходу. Взрослый сразу бросился за грузовиком, замахал руками… Я сначала не понял, заикнулся было о враче. Потом заметил лежащие отдельно на асфальте мозги… Потом мы сошли на тропинку…
Что?
С обочины сузившегося на повороте шоссе мы сошли с Индирой на тропинку, обсаженную деревьями с одной стороны, однако я не уверен, что деревья эти были посажены, а не выросли сами собой.
Ничего не понимаю.
Ты вспомни…
Тут действительно все каким-то удивительным образом переплетается – эта тропинка-полуаллея, Индира в черных очках, тот белобрысый мальчик и твой Отец, который однажды приезжал к тебе на дачу вечером, после работы. Вы гуляли с ним до темноты и никогда не были столь близки, взаимно доверительны, как в тот раз. Впрочем, подобных встреч, когда вы оставались наедине и оба не испытывали чувства неловкости, можно пересчитать по пальцам. Собственно, ты хотел лишь показать ему самое красивое здесь место – спуск к реке, густо заросший высокой травой, ромашками, ка́шкой, лесной гвоздикой, колокольчиками, иван-чаем, ниже – лютиками, – склон, на котором все благоухало и волновалось на ветру, звенело мошками, мушками и гудело шмелями, а ближе к ночи погружалось в сонное безмолвие, заволакивалось белесым туманом, плывущим над рекой. Но вы не дошли даже до березовой рощи, где у самой опушки всегда можно было набрать маслят. Вы не пошли дальше небольшого огороженного поля, потому что комары донимали, их носились здесь несметные полчища. Постояв поэтому в нерешительности, вы вернулись все-таки на тропинку, параллельную шоссе, и принялись ходить по ней взад-вперед: сто метров туда, сто обратно. Отец что-то рассказывал тебе, ты тоже о чем-то рассказывал ему, а когда споткнулся о выпирающий из земли корень старой ели, он заботливо тебя поддержал. Касание крепкой отцовской руки было волнующим. Уже очень взрослый мальчик, ты чувствовал себя рядом с ним по-прежнему маленьким и почему-то постоянно оправдывался, но в чем состояла твоя вина, толком не знал. Гортань теснило невысказанное, тело сжималось как перед прыжком. Ты боялся показать, что ожидал гораздо большего от встречи с ним. Возможно, это проистекало от слишком уж страстного желания видеть Отца значительным и необыкновенным. Приходилось предельно напрягать слух и нервы, чтобы воспринять нечто едва уловимое, что, возможно, таилось в его словах, жестах, в сдержанной интонации, однако ускользало куда-то, тебя почти не затрагивая. Это противоречие между желаемым и реальным заставляло тебя, в свою очередь, говорить, двигаться и вести себя неестественно, а Отец, конечно, все это замечал…
Так о чем говорили вы с Индирой, когда впервые приехали в населенный пункт В? Не могли же вы в самом деле, не проронив ни слова, пройти керосиновую лавку, спуститься вниз по шоссе, подняться на горку и, опять-таки молча, дойти до поворота, где два года назад грузовик сбил соседского мальчика?
Убей меня бог, приятель, разрази тебя гром – не помню. Сплошное безмолвие. Какая-то непреодолимая немота, будто в деревенском клубе, когда разом умолкают стоящие по обе стороны от экрана динамики, а возмущенные зрители начинают топать ногами, свистеть и кричать: на мыло!!! Но звука все равно нет – только немые тени продолжают двигаться по экрану. Мы ведь уже выясняли. Я попросил тогда Индиру снять черные очки, а она ответила, что у нее болят глаза.
Чепуха! Ничего подобного ты ей, конечно, не говорил. Не осмелился бы. К тому же, в отличие от тебя, она не имела привычки оправдываться.
Ну почему же…
Вспомни хотя бы старую запись, сделанную на магнитофоне «Днепр-3» в той самой Маминой комнате, где вы потом чертили черными чернилами чертеж чрезвычайно чисто…
Нет, не помню. Как-то совсем вылетело из головы.
Что, память уже подводит?
Вероятно.
Почему же тогда ты прекрасно запомнил такой незначительный эпизод: как вместе с Девушкой Из Далекой Армении, дочерью друзей вашей семьи, приехавшей погостить на дачу, ты проделал тот же путь: от керосиновой лавки до поворота шоссе, – разумеется, без каких-либо признаков нетоварищеского к ней отношения?
Я ведь вел ее показать самое красивое место здесь: спуск к реке.
Как и Отца?
Да.
А Индиру куда ты вел?
Индиру – туда же.
Девушка Из Далекой Армении написала тебе впоследствии несколько писем.
Да, у нее был такой крупный, решительный почерк и хороший, свободный русский язык. Будто она тоже исписала не одну тетрадь под диктовку своей бабушки.
Сама девушка и ее письма настолько восхитили твою Маму, что втайне она вынашивала мысль о более серьезном, чем переписка, характере ваших отношений, тогда как Индирины письма Маме не нравились.
Она находила их безвкусными и фальшивыми. Они действовали на нее как скрип ножа по тарелке, хотя ее мнение об Индире меня с некоторых пор не очень-то интересовало.
Разумеется, уже одного наличия в твоем сердце Индиры было достаточно, чтобы с Девушкой Из Далекой Армении, говорившей, в отличие от Индиры, тихо и с мягким армянским акцентом, столь не соответствовавшим мятежному духу ее русских писем, – чтобы с той улыбчиво-строгой девушкой в белом платье у тебя, Телелюев, ничего не вышло. Ты не дал ей возможности, не дал оснований, хочу я сказать, еще глубже узнать и больше полюбить природу средней полосы России с ее буйством трав и плывущими над рекой туманами. Впрочем, вернувшись в Армению, Девушка В Белом через какое-то время и сама поняла, что по-настоящему любит только родные горы. И как только она это поняла, все в ее жизни решилось самым удачным образом: она вышла замуж за армянского парня, родила троих детей, и теперь она давно уже бабушка… Как, кстати, у тебя со слухом?
Ты имеешь в виду музыкальный слух? К сожалению, медведь на ухо наступил, ничего не попишешь.
Нет, я не только о музыке, но и вообще…
Что ты хочешь этим сказать?
Знаешь, чем отличается фальшь от откровенной лжи?
Чем?
Это как бы та же самая нота, но звучащая чуть ниже или выше. Это искусственные цветы или белые хвостики с черными кончиками под горностая. Это те же цветы, тот же мех, но только в некотором роде приукрашенные, выдающие себя за нечто более высокое, совершенное, естественное и дорогое, чем таковыми на самом деле являются. Но бывает и так, что люди без слуха фальшивый звук предпочитают истинному.
Опять катишь бочку на Индиру?
Скорее уж на тебя. Перечитай-ка снова ее письма. А потом – для сравнения – письма Девушки Из Далекой Армении… Ну да ладно, мы отвлеклись. Дыша, таким образом, свежим воздухом лиственных лесов населенного пункта В, вы, следовательно, все больше молчали – во всяком случае, в твоих воспоминаниях это выглядит именно так. Вы молчали, будто стояла суровая зима, а не теплое лето и вы боялись ослушаться Бабушку, которая наставляла вас перед этой поездкой: только, пожалуйста, ребята, не разговаривайте на морозе, – хотя никакого мороза, разумеется, не было и Бабушка ничего не знала об этих поездках.
Мама тоже.
Попробуй все-таки вспомнить. Ведь поначалу разговоры с Индирой раздражали тебя. Они как бы разрушали тот образ, который всякий раз ты заново тщательно складывал из осколков в своем воображении. Тебе гораздо приятнее и спокойнее было, когда она молчала. Но постепенно ты привык, а потом и полюбил звук ее голоса, ее чуть резковатую манеру четко формулировать свои мысли и даже сомнения выражать таким образом, будто это не обыкновенная девочка сомневается в чем-то, а доцент кафедры философии читает лекцию о сомнении как о частной категории противоречия, которое лежит в основе единства и борьбы противоположностей, являющихся вполне осознанной ею необходимостью.
Лучше всего, конечно, было общаться на языке взглядов, поцелуев, тактильных касаний…
Расширившись, тропинка превратилась в проселочную дорогу, идущую перпендикулярно шоссе. Одновременно расширился угол зрения, освободившись от узкой направленности убегающей вдаль полосы асфальта. Взору открылось поле, заросший пустырь, а верхнюю часть этой панорамы занимало небо, усыпанное взбитыми сливками облаков. И снова дышалось свободно…
Стоп! Скажи, чего тебе захотелось тогда?
Действительно. Вдруг захотелось, чтобы рядом была не Индира, а какое-нибудь смешливое, подвижное, пусть даже нелепое существо – какой-нибудь тушканчик, ежик, пес-барбос, с которым запросто можно пройтись колесом по этой дороге, схватиться в понарошечном поединке, выкатиться на траву, визжа, рыча, подзадоривая друг друга.
Но рядом была Индира в черных очках… Да, Индира.
Немного скованная, манерная, очень степенная, благовоспитанная девушка, которой было просто немыслимо предложить перелезть через плетень, чтобы надергать морковки, нарвать гороха – или что там еще культивировалось за той колхозно-совхозной оградой? И не менее странно было бы, наверно, предложить ей броситься наперегонки через пустырь до первых финских домиков, которыми тогда уже начали застраивать склон к реке.
Не забывай, что у Индиры было слабое сердце. К тому же в ее модных хлипких туфельках не больно-то пробежишься по земле.
Уже сама подобная мысль показалась бы тебе тогда дикой. Невозможно было представить Индиру, вчерашнюю освобожденную от физкультуры школьницу-аккуратистку со всегда холодными, синюшными руками, бегущей с кем-то наперегонки, – разве что по ровной дорожке, в порядке, так сказать, галантной игры. Несколько грациозных, жеманных шажков, символическое убегание, символическая погоня, пристойный повод для объятья: ах, попалась птичка, стой!.. Тут в лучшем случае, хочу я сказать, оставался простор для свободных фантазий в духе Ватто – если бы не красный сарафан Индиры, вся тайна безобразности которого с его оборочками, фестончиками и фонариками, заключалась лишь в непомерной его претензии на элегантность – все в той же ф а л ь ш и в о с т и, как мы ее определили, – и больше ничего в нем такого особенного, пожалуй, не было.
Я почти уверен, что Ватто не стал бы переносить этот сарафан ни на одну из своих жемчужных картин. У него совсем другой колорит.
Согласен. Не стал бы. Даже как ироническую деталь. А теперь попробуй взглянуть на себя, приятель, со стороны. Взгляни же своим строгим, беспощадным взглядом умудренного жизнью человека на того коротконогого шпендрика, который топает рядом с жеманницей Индирой. На того разглагольствующего идеалиста с деформированным, раздутым повышенной гормональной активностью носом, который ведет свою небесную избранницу под ракитовый кусток. Обрати внимание на его неуверенную походку, на стоптанные, как у Сени Вечного Жида, башмаки, на безбровое, прямо скажем, далекое от совершенства лицо, и тогда этот бегло запечатленный портрет удивительным образом напомнит отдельные черты твоих школьных друзей. Может, это вовсе и не ты, Телелюев? Может, это все не с тобой? Может, это Бубнила Кособока + Тункан + Лапа + Херувимов, деленные на четыре? Что же касается кавалера в духе Ватто, то тут не столько из ложной скромности, сколько исходя из простого здравого смысла, ты должен будешь согласиться с тем, что ни тогда, ни впоследствии ты не годился на эту роль. Точно так же не подошла бы Индира в ее черных очках на роль деревенской скромницы – вроде той, что стоит, потупившись, на известной картине-гиганте французского художника Бастьена-Лепажа «Деревенская любовь», находящейся в постоянной экспозиции Музея изобразительных искусств имени всеми нами любимого русского поэта. А вот роль деревенского парня ты сыграл бы запросто. Что называется, одной левой. Собственно, тут тебе и играть было бы незачем с учетом стопроцентной крестьянской родословной по линии деда со стороны отца. Тебе, в общем-то, ничего не стоило, хочу я сказать, махнуть через тын, за которым росли морковка, горох, огурцы, люцерна, тимофеевка, житняк – или что там еще? – облокотиться на верхнюю жердь, чуть театрально склонив набок свою буйную голову, ибо косой пробор к окончанию десятого класса несколько утратил свою четкость, и…
Итак, Телелюев, ближе к делу. Чинным, стало быть, ходом и мелкими галантными перебежками, чередующимися с неуклюже наивными деревенскими заигрываниями, Индире, должно быть, особо чуждыми, вы дошли до березовой рощи, куда однажды так и не дошли с твоим Отцом и где можно в сезон набрать маслят – таких сопливых грибов, один вид которых способен вызвать у чистых чувствительных барышень весьма отрицательные эмоции. Растут, однако, маслята самым живописным образом, прячутся в траве и во мху, и если бы ты не представил себе наглядно, как Индира брезгливо, двумя пальчиками с остро отточенными, наманикюренными ноготками станет вытаскивать их из земли, стараясь не испачкаться, ты бы, возможно, предложил ей заняться именно этим делом, вместо того чтобы следовать дальше к речке, а потом еще дальше, в лиственный лесок, который более одного-двух метров вглубь уже и не просматривается с дороги. Ты предложил бы ей собрать маслят, чтобы она могла отвезти их своим родителям на обед, но, признайся, боялся испортить другую обедню, которая ждала тебя на другой стороне реки под ракитовым кусточком в лиственном лесочке. Та обедня, собственно, была тебе, в общем-то, ни к чему, но с учетом того, что в насквозь пронизанной солнечным светом березовой роще водились только маслята, или в данное время лета маслята преобладали, и ничем другим вам заняться не представлялось возможным, и ничего другого Индира вроде от тебя не ждала, пришлось следовать дальше, не задерживая внимания девушки на этой воистину удивительной, хотя и специфической достопримечательности населенного пункта В.
Вы проследовали дальше, и тут, едва миновали последние березы, начался склон, который в обязательном порядке ты показывал или, во всяком случае, пытался показать всем, кто приезжал к вам на дачу в гости из Москвы, Далекой Армении или из любой другой братской республики. Ты, конечно, очень хотел показать его также своему Отцу, но тогда, к сожалению, было очень много комаров, они тучами носились в воздухе, и к тому времени уже стемнело, так что вы вернулись, не дойдя даже до березовой рощи.
Ты нарочно не стал говорить Индире о том, какой сюрприз ей приготовил, а лишь поотстал на шаг, с нетерпением ожидая того волнующего момента, когда склон наконец откроется перед нею и она застынет как громом пораженная, а ты подойдешь сзади и положишь ей руки на плечи. Или обнимешь. Или просто встанешь рядом. Это даже трудно теперь представить, какая там была красота до того, как склон застроили дачами. Скажи, Телелюев! А всего-то тридцать километров от Москвы. Всего меньше тридцати лет назад. И дело тут не только в разнообразии полевых цветов, трав, бабочек, мотыльков, шмелей, жуков, мух, пчел, полукомаров-полумушек с прозрачными крыльями, не в том, что склон совсем не затоптан, будто человеческая нога никогда не решалась сойти с тропинки, чтобы вторгнуться в эти дебри… Просто тут было какое-то неповторимое сочетание всего этого: распахнутого неба, серебрящихся под солнцем трав, колышущихся цветов, пахучей полыни, редких молодых сосенок на самом верху, сбегающей круто тропинки с просвечивающей из-под вытертой травы рыжеватой землей, густых и темных кружавчатых кустов внизу, обозначающих живое русло, а дальше, уже за рекой, виднелся свежий бархатистый лужок и сплошной низкорослый лиственный лес. Не перечесть было одних только зеленых тонов и оттенков – от бледно-салатовых до ярко-изумрудных, отдающих в синь. Но дело опять-таки не в этом, а в той переплетенности сложных впечатлений, которая просто не может не ошарашить любого, кто окажется здесь впервые, и даже во второй, третий, тысячный раз. Сам ты, когда попал сюда впервые, простоял, будто парализованный, не меньше часа, а потом, к собственному стыду, пустил слезу, как какой-нибудь сопляк, которому устроили «темную». И потом, когда приходил сюда один или приводил гостей, всегда испытывал такое сильное волнение, будто здесь, на этом склоне, должно было однажды произойти нечто необыкновенное, как если бы тебе здесь предстояло постичь главную истину жизни.
И не то чтобы ты был такой слабонервный хлюпик. Ты наблюдал ведь и за другими, и помнишь, как у Девушки Из Далекой Армении увлажнились глаза при виде всей этой первозданности. Улучив момент, она даже повернулась к тебе спиной, будто разглядывая прозрачную, как аквариум, березовую рощу или заболоченную излучину реки слева, а на самом деле, устыдившись своих слез, попыталась тайком осушить их. Раньше со словом «рай» ты связывал нечто искусственное, вырезанное из цветной бумаги или отлитое из мертвенно-бледного фарфора и потом раскрашенное, нечто сусально-кладбищенское, а теперь оно наполнилось для тебя жизнью и новым смыслом, потому что тот спуск к реке ты готов был назвать теперь именно этим словом.
И вот склон предстал перед вами. Индира шла впереди. Шла медленно, чуть откинувшись назад, чтобы не понесло под гору – и когда вы уже наполовину спустились, ты окликнул ее, решив, что девушка о чем-то задумалась и ничего не видит вокруг. Ты окликнул ее. Она оглянулась.
– Смотри, какая красота, – сказал ты.
Она глубоко вздохнула и раскинула руки в стороны, будто желая обнять все видимое пространство.
– Замечательно! Роскошно! Какой воздух!
Подмышки ее теперь были чисто выбриты, волосы от близости воды мелко завились, а раскрытые в полуулыбке губы пересохли, обнажив тусклую, серую, испорченную эмаль зубов. Ты попытался уловить в ее поведении хотя бы тень волнения, робости, смятения, но ничего такого заметить не смог. Индира радовалась солнцу, хорошей погоде, тому, что творилось в ее душе, и даже фонарики коротких рукавов подоткнула, чтобы открыть для загара еще большую поверхность тела.
От досады, на какой-то начавшей вдруг подниматься в груди волне бешенства, тебе захотелось схватить и уволочь ее в темный лес: как тот волк из той басни – того ягненка.
Сбежав в небольшую долину, тропинка начала петлять, выбирая места посуше, грунт попрочнее. Земля с вытоптанной до самых корней травой из рыжей и твердой постепенно превращалась в черную и рыхлую, похожую на жирную замазку. Трава становилась все более сочной, тяжелой, напитанной влагой и уже не шелестела на легком ветру, а чуть шевелилась, едва подрагивая своими острыми, как бритвы, краями. И лютики, и куриная слепота, и лиловые, словно ночные железнодорожные светофоры, низкорослые цветы обретали здесь какой-то сгущенный, мрачноватый колорит, и от этого делалось темно вокруг, хотя никаких деревьев поблизости не росло, и на очистившемся от кучевых облаков небе по-прежнему ярко светило солнце.
Река была неширокая, с медленным течением, и только в тех местах, где поваленное дерево или коряга преграждали ей путь, слышалось нетерпеливое журчание, бульканье, а в отдельных местах обветшавшее русло, как бы не выдержав напора, расступилось, образуя небольшие заводи. Вода там почти замирала, становилась зеркально гладкой, непроницаемо черной, как нефть, хотя и оставалась совершенно чистой – ничего не стоило убедиться в этом, зачерпнув пригоршней с низкого берега. В одном из таких бочагов купались на глубине, и закрутившаяся иной раз на одном месте травинка вызывала в душе ощущение жути. Водоворот не превышал размеров столовой тарелки, но конус воронки сходился, казалось, под столь малым углом, что невольно рождалась мысль о бездонной впадине, о гибельном низвержении в Мальстрем. Здесь водились пиявки, рыбу же никто не ловил, и никто, возможно, не знал, как называется эта река.
Уткнувшись в прибрежные ивы, настолько частые и глухие, что воды за ними не было видно, тропинка раздваивалась, и слева открывался тот самый облысевший, обрывистый бережок, напоминавший деревенскую ржаную лепешку, где купались и загорали, а справа, метрах в двадцати от развилки, имелось заменявшее мостик бревно, с незапамятных времен упирающееся своими концами в скользкие бугорки, будто наскоро слепленные из мокрой сажи. Кому впервые приходилось преодолевать это препятствие, поначалу терялись, робели, придумывая, как бы подступиться, тогда как уже привыкшие с ходу ступали на бревно с облезшей корой и, даже не балансируя руками, в три-четыре шага оказывались на другой стороне, не испытав при этом ни страха, ни душевного трепета.
На противоположном же берегу, стоило только вынырнуть из-под темной кровли склонившихся ив и низкорослых бородавчатых ясеней, снова пылало лето, звенели комары, мошки, пчелы, стрекозы, слепни и застывшие в неподвижном воздухе мухи с радужными, прозрачными, пронизанными тончайшей паутиной жилок, вибрирующими, точно пропеллер, размазанными в пространстве крыльями. И зябкая прохлада, исходившая от воды, уже вновь манила к себе, но вы уходили все дальше, по высокой траве, по зеленой лужайке, топча муравьев, букашек и божьих коровок.
Вы уходили все дальше – ты и Индира, – все дальше от того, что принято называть миром детства. Прошло всего несколько дней, недель, месяцев, когда, как будто все еще оставаясь на прежних своих позициях, в подмосковном достославном пункте В, вы на самом деле ушли уже бог знает куда. Все свершилось удивительно быстро, неожиданно и словно бы незаметно. Давно ли первый раз ты пошел в школу? Давно ли – в восьмой класс? И вот тебе уже кажется, что все прошлое, ушедшее, уходящее ты любишь слепой, фанатичной любовью, тогда как настоящее почти безразлично тебе.
Ну это уж слишком, Телелюев. Насчет настоящего, я имею в виду. Ты ведь с утра и до вечера попу от стула не отрывал, готовился в институт. То есть дух твой, хочу я сказать, был куда как крепок. Точно так же, как и твои убеждения, – пусть они были и не совсем твоими. Просто считалось общепринятым, что мальчик из интеллигентной семьи должен обязательно поступить в институт, неважно даже в какой. Единственное, что могло отвлечь, да и отвлекало время от времени от учебников, это Индирины письма с юга.
13.8.58
Милый Тиль!
У тебя что-нибудь случилось? Твое письмо такое грустное, или только кажется мне грустным оттого, что я здесь такая веселая. Знаешь, я просто страшно, дико веселая. Нет и следа моей прежней раздраженности и вечной взволнованности. О, какие у моря чудесные ночи! Ты себе не представляешь, как в такие вечера чудесно слушается Шопен. Воздух просто напитан элегией. Около моря есть очень красивый сад. Бесконечное великолепие! Это мое любимое место. Когда становится темно, там прекрасно!
Почему твое письмо такое сухое? Мне даже кажется, что не ты его писал, или что оно не мне написано. На что это похоже? Ужас!
Знаешь, милый, я обиделась, ты обиделся – право, это не по-мужски. Неужели теперь я опять должна улаживать все эти мелочи? Боже мой! Сколько раз я просто проглатывала маленькие обиды вместе со слезами, молча. Когда мы бываем где-нибудь вместе, ты со мной подчеркнуто невежлив и часто даже так резок, как вообще воспитанным людям с девушками не полагается быть. Когда мы только с тобой… Почему же?.. Я устала это повторять…
Ах! На что я сержусь?.. В последний раз ты сказал: «Какая ты, Индира, ревнивая». Ревнивая! Да как ты посмел сказать мне это? Я не могу видеть эту … Б. Н. [74] Я не взываю к долгу и морали, но, может быть, ты думаешь, что я такая дурнушка, что и понравиться никому не могу? Ты очень, очень ошибаешься!
Милый! Мне всегда хотелось, чтобы человек, которого я полюблю, был действительно очень умный, серьезно умный, а не так… ветер. Вот ты думаешь, что я не стала поступать в институт, грубо выражаясь, из-за лени. А ты знаешь, как мне хочется серьезной жизни и такой же большой, настоящей, серьезной, чистой и верной любви. Разве я не заслуживаю этого?! Так, как ты относился в последнее время ко мне, можно относиться только к давно надоевшей, вцепившейся в тебя жене. Да я все равно… Нет, непременно встречу н а с т о я щ е г о человека.
Но я люблю тебя! Я хочу тебе добра и не хочу, чтобы ты стал легкомысленным.
Скоро, мой дорогой, мы будем вместе и все опять будет хорошо, правда? А теперь я скучаю без тебя так же, как и ты, правда?
Твой навсегда И н д и р ч и к
О каждом экзамене жду весточки. В свободное время рекомендую читать газеты.
И вот все позади.
Напротив, все впереди, приятель!
В институте вывесили списки принятых. Странное состояние! Кажется, весь мир ликует – совсем как после твоего возвращения из Филатовской больницы в школу в канун нового 1956 года. И такая же неустойчивость. Такая же легкость. Словно любой порыв ветра способен подхватить и унести тебя неизвестно куда. С другой стороны, ты сразу вдруг стал таким взрослым, самостоятельным, почувствовал себя старше Индиры.
До начала занятий в институте оставалась целая неделя. Индира скоро должна была вернуться с юга. Ты скучал. Хотелось написать ей письмо, но оно бы уже не успело дойти. По старой школьной привычке ты отправился бродить по улице Горького – что еще оставалось? Тебя вновь тянуло к ее дому, как тянуло позапрошлой зимой, когда с неба валил крупный, липкий рождественский снежок и ты как маятник болтался туда-сюда целый день, пока окончательно не стемнело. Ты представлял, какой красивой и загорелой вернется она с юга, как ты встретишь ее с цветами на вокзале и, оставив вещи дома, вы тотчас отправитесь куда-нибудь – скажем, на кинофильм «Карнавальная ночь», или в Измайлово, или в населенный пункт В.
Так думал ты, так мечтал, прогуливаясь возле застекленной двери ее дома, и вдруг нос к носу столкнулся с Ней. Тебя словно кипятком ошпарили. Ты едва узнал Индиру. В черном, сильно открытом гипюровом платье, с ярко накрашенными губами и коротко стриженными волосами, отчего ее лицо стало совершенно круглым и невыразительным, она была не похожа сама на себя. Будто она загримировалась под кого-то.
Ты мучительно вспоминал: где же мог еще видеть ты это лицо? – и вдруг поймал себя на том, что стыдишься стоять с ней рядом. Тебе стало вдруг нестерпимо стыдно и страшно, хотя удалось при этом даже изобразить приветливую улыбку. Улыбку! Ты улыбнулся и захлопал крыльями, точно обезглавленный петух. Хотел было крикнуть: кукареку! – но кричать, к сожалению, было положительно нечем. И невозможно было понять, что же случилось: ты ослеп или внезапно прозрел?
Ты сказал ей, что куда-то торопишься, вернулся домой, повалился на кровать и сразу уснул.
Во сне ты видел Индиру. Это был каменный сфинкс, стоящий посреди пустыни. Еще больше, чем в жизни, на себя не похожая, тем не менее это была она – загадочное существо с телом львицы и человеческой головой. Ее лоб прикрывала косая челка. Под прямым и крупным, явно Индириным носом обозначились пышные усы. Щеки же были изрыты мелкими конопатинами. Огромные серые глаза, не мигая, смотрели на тебя в упор. Словно напружиненные перед прыжком и одновременно совершенно расслабленные широкие лапы оставались недвижны. Ты стоял, зачарованный ее застывшей позой, пока боковым зрением не увидел, что со всех сторон необъятной пустыни к сфинксу стекаются люди. Обозримое до самого горизонта пространство постепенно заполнялось мелкими фигурками, отчетливо различимыми на фоне песка и выгоревшего, почти бесцветного неба. Люди подходили, падали ниц, бормотали молитвы, каждый на своем наречии – белые, черные, желтые, одетые в причудливые одежды странники, по-разному выражающие свою любовь, страх и почтение. Однако Индира смотрела только на тебя, а остальных словно не замечала. Тебе одному задала она коварный вопрос. Предстояло правильно на него ответить, чтобы остаться в живых. За что ты любишь меня? – спросила Индира, но ты словно онемел. Ты не знал, что ответить. Тотчас несколько богомольцев вскочили с земли, отряхнули песок с коленей, быстро построились. В руках у них оказались ружья. По молчаливой команде сфинкса они вскинули их, начали целить в тебя, и вот прозвучало: пли! Раздался залп. Ты увидел только огненные сполохи, разом вырвавшиеся из длинных стволов, а выстрелов не услышал, возможно, потому, что уже был убит. Ты пошатнулся, но остался стоять. На белой рубашке, купленной Мамой по случаю выпускного вечера, выступили, расплываясь, красные пятна. Что это было: кровь? клюквенный сок? Ведь стреляли со слишком близкого расстояния, и промахнуться было невозможно. Но тут ты вспомнил Овода, который тоже не упал после первого залпа. Вновь раздалась команда: целься! Ты поднял правую руку, зажав кулак. Ты крикнул: «Да здравствует Индира!» И снова грянул залп, который ты опять не услышал. И так продолжалось без конца. Ты стоял, обливаясь кровью, и кричал из последних сил: «Да здравствует Индира Великолепная!» – пока не проснулся, весь мокрый, как мышь, и такой слабый, будто из тебя и в самом деле выпустили всю кровь.
В тот день ты походил на сумасшедшего.
Наверное. Почему-то оказался в Измайлове. Перед глазами все кружилось в неостановимом вихре: покосившиеся заборы Ермолаевки, гранитный парапет набережной, школьный двор. И все лица, лица, лица… Ничего не видел, не слышал. Ноги сами привели к тому поваленному дереву, возле которого когда-то родились слова, прозвучавшие как клятва. А земля ходила ходуном – как при землетрясении…
Тогда и было землетрясение. Ты разве не помнишь, дружище? Одно из первых московских землетрясений, во время которого заколебался построенный неопытным восьмиклассником языческий храм, неизвестно на чем так долго державшийся. Постройка заколебалась и рухнула, погребая под своими обломками священное изображение идола.
Но скажи, почему так невыносимо расставание?
Да у тебя, приятель, самый настоящий «собачий комплекс», постоянная нужда в Хозяине.
Собачий?







