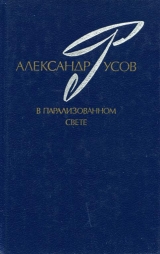
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 45 страниц)
Правда, те записи носили общий характер и основывались на том общеизвестном факте, что все в нашем подлунном мире движется от начала к концу в силу естественных причин, каковые физика объясняет законами термодинамики. Чтобы провести химическое превращение, нужно преодолеть запрещающий барьер, которым природа отделяет жизнь от смерти, движение от неподвижности, безобразное от прекрасного, благонамеренных супругов и законопослушных граждан от преступников и прелюбодеев. Требуется катализатор, фермент, способный дать реагирующим веществам энергетический толчок, загнать их на самую вершину горы, откуда бы они скатывались уже своим ходом, преображенные до неузнаваемости.
Дело оставалось за экспериментальной проверкой. Синтезом необычных, придуманных им ферментов Триэс поручил заняться Гурию, а Инну не стал даже посвящать в возможные последствия намеченных опытов. И без того его с аспиранткой связывали слишком уж тесные, можно сказать роковые, узы.
Почти не веря в успех, Сергей Сергеевич пытался все же угадать цену, которую придется платить за невиданный риск. Соотнести затраты и возможный полезный выход. Имей он дело с паровым двигателем, способным превратить всего несколько процентов тепловой энергии в механическую, речь бы пошла лишь о низком коэффициенте полезного действия, о тоннах впустую сожженного угля, но на сей раз затевалось нечто куда более тонкое, грандиозное и дорогостоящее. Найти бы, получить нужный фермент – тогда и умереть не страшно.
Вот до чего додумалась его умная голова, идя на поводу у глупого сердца! Или только этого он и добивался?
Во-первых, почему умереть, а не жить? Уж не такую ли цену исподволь назначил Сергей Сергеевич? Или кто-то ему ее навязал, поймав на неосторожном слове? Но кому, собственно, он собирался платить? И почему так вот, по-купечески, один за всех? Кого собирался он отвести в сторонку, чтобы опередить любую другую попытку сделать то же? Уже заплачено, господа товарищи, уже заплачено!..
В конце августа, перед началом студенческих занятий, в Лунино приехали Тома с мужем. Хотя Степановы давно ждали их, молодые явились как гром среди ясного неба. Сергей Сергеевич бросился навстречу дочери, и они долго стояли, обнявшись, едва покачиваясь, точно в замедленном танце – совсем как много лет назад, когда Томка была маленькой, а он, ее отец, вот так же неожиданно возвращался домой из командировки.
– Папочка, дорогой, – шептала она, припав к его обросшей шершавой щеке.
Сергей Сергеевич закрыл глаза, еще крепче прижал к себе дочь. Казалось, он обнимает возлюбленную – единственную, желанную, самой жизнью ему предназначенную, посланную богом женщину, которую звали сначала Диной, потом Инной, а теперь наконец она обрела истинное свое имя.
– Томка! – задохнулся он.
И тотчас буря, мотавшая его без передыха последние два месяца, утихла. Он почувствовал такое облегчение, будто одного этого поцелуя ему и недоставало для счастья, а все его переживания, связанные с полетом над цветущим лугом, безумным вращением на центрифуге, все ложные усилия и устремления, которыми он мучил других и себя, вся неизрасходованная любовь и нежность нашли теперь свой естественный выход.
Ощущение вновь обретенного счастья оказалось, увы, непрочным и кратковременным. Вскоре оно сменилось нервозным ожиданием отъезда Томы. Сергей Сергеевич испытывал уже тайную ревность к ее мужу, даже имени которого не смог запомнить, не находил себе места, не умел разумно воспользоваться немногими днями дарованной близости. Он все бродил в одиночестве, почти не бывал дома, словно боясь привыкнуть к присутствию дочери и не перенести неизбежной разлуки.
Когда они уехали, Сергей Сергеевич с головой ушел в институтские заботы и за день так уставал, что сразу после ужина ложился на диван. Из него словно вынули какую-то пружину. Он совершенно потерял способность засыпать без снотворного, щеки ввалились, лицо приобрело землистый оттенок, и весь он как-то сник, сгорбился, высох. Дина умоляла его обследоваться. Его здоровье не на шутку тревожило ее, он же отделывался то шуткой, то клятвенным обещанием пойти к врачу. Обещание свое он так и не выполнил, однако вместе с первыми удачными лабораторными опытами, подтверждающими его гипотезу, заметно приободрился, выпрямился, даже посвежел. Если искомый фермент пока и не был найден, то направление поисков становилось все более очевидным. Кажется, они находились на верном пути. Праздник на их улице близился и при благоприятном стечении обстоятельств вполне мог совпасть с юбилеем института, приуроченным к празднованию Нового года.
Из всех сотрудников степановской лаборатории один только Валерий Николаевич как кормящий отец разросшегося семейства увильнул от бремени предпраздничных хлопот и расходов, а также ряда служебных и общественных институтских обязанностей. Единственное, что он продолжал делать исправно, со всем присущим ему педантизмом, – это поливать опытные лабораторные растения, посаженные не только в обыкновенные цветочные горшки, но и в самые невероятные сосуды, оказавшиеся некогда под рукой: в фарфоровые чашки, стеклянные цилиндры, толстостенные эксикаторы, напоминавшие по форме деревенские суповые миски, и даже в легкую пенопластовую упаковку из-под новых приборов.
Но так ли уж отвлечен был семейными обстоятельствами в действительности Валерий Николаевич? Не дальновидная ли рука судьбы навязала ему почетную роль многодетного отца и отстранила от прочих забот, оставив одну-единственную, лишь затем, чтобы сделать своим послушным орудием, ускорившим и без того стремительно надвигающиеся события?
Триэс же, напротив, взваливал на себя все новые добровольные труды, наскоро подытоживал разрозненные результаты исследований за последние несколько лет, чтобы обобщить их в монографии, писать которую ему никто не поручал. Куда он так спешил? Неужели и правда собирался поспеть к институтскому юбилею? Прийти к нему, что называется, с новыми трудовыми успехами?
В последнее время, пребывая по ночам в тревожном забытьи, между сном и явью, Сергей Сергеевич часто переносился мысленно в далекое прошлое, в доисторическую эру гигантских животных и растительных форм. Почему-то такие сны были ему приятны, а пробуждение мучительно, ибо оно возвращало в мир мелких вещей, измельченных масштабов. Он вновь закрывал глаза, стараясь поскорее забыть о том, что динозавры вымерли, древовидные папоротники исчезли, мамонты вымерзли, а оставшихся добили люди с дубинками.
Всякий раз эти ночные грезы смыкались с его собственным научно-фантастическим замыслом, который однажды солнечным утром, в начале июля, поразил воображение Сергея Сергеевича. Возникали и новые видения-замыслы, замыслы-гиганты. Во сне они претерпевали эволюцию. Подвергались естественному отбору. Приспосабливались к окружающей среде, к постоянно меняющимся обстоятельствам…
Глубокой осенью рано утром в профессорской квартире раздался телефонный звонок.
– Сергей Сергеевич, приходите, пожалуйста, скорее.
– Что случилось?
– Я тут одна. Мне страшно…
– Кто звонил? – спросила Дина Константиновна, когда он повесил трубку.
– Из лаборатории.
– Валерий?
– Нет.
– Гурий?
Он промолчал.
– Ты уйдешь сейчас?
– Да.
«Неужели опять? – подумала Дина с отчаяньем. – Нет, я этого больше не вынесу. Ведь это она звонила. Он опять пойдет к ней».
Лабораторная комната оказалась заперта. Сергей Сергеевич дернул за ручку.
– Кто? – тихо спросил голос за дверью.
– Откройте.
Замок щелкнул, дверь отворилась.
Кроме Инны в комнате находились Гурий и обе лаборантки. Горел свет. Четыре пары глаз были устремлены на него. Инна показала в сторону окна.
Сначала Сергей Сергеевич ничего не увидел. Ему просто показалось, что окно занавешено шторой, и он не сразу сообразил, что это крупные глянцевидные листья загородили окно, слившись в сплошную массу. На полу валялись осколки цветочного горшка и комья земли. Причудливо изогнутые белые корни растений мохнато свисали с подоконника, напряженно тянулись к другим сосудам с землей, надеясь найти там дополнительные источники питания. В месте стыка потолка и стены образовалась глубокая трещина, уже плотно забитая листьями. По потолку беспорядочно разметались молодые побеги.
Сергей Сергеевич осторожно дотронулся до корней и почувствовал ответное движение.
– Кто это сделал?
Все молчали.
– Вчера вечером Валера полил его, – сказал наконец Каледин.
Сергей Сергеевич продолжал пристально смотреть на Гурия, будто ожидая дополнительных разъяснений, но никаких разъяснений не последовало.
– Вот контрольное растение. – Инна взяла с лабораторного стола небольшой горшок, помеченный черным восковым карандашом. – А это… это… – запнулась она, не зная, как назвать то, что находилось теперь перед ними.
– Где Валерий Николаевич? – спросил Триэс.
– Еще не приходил.
– Я не трогала, Сергей Сергеевич, – нарушив томительную тишину, вдруг запричитала одна из лаборанток. – Честное слово, Сергей Сергеевич. Это не я. Мне-то зачем? Был бы хоть цвет, а то зелень одна…
В наступившей опять тишине послышалось легкое шуршание, будто песок сыпался или мыши грызли деревянную перегородку. Сергей Сергеевич взглянул на потолок, откуда упало несколько хлопьев отсыревшей побелки.
– Сверху не приходили?
– Стучались, но мы не открыли. У них, кажется, пол приподнялся.
Триэс рассеянно кивнул, как-то странно заулыбался. Подошел к своему столу, раскрыл телефонный справочник, набрал трехзначный номер.
В это время в дверь отрывисто постучали.
– Кто?
– Это я, Инна, открой.
Ласточка вихрем ворвался в комнату, сразу устремился к окну.
– Вот это да! Вы зачем заперлись? Надо народ звать. Это же чудо!
– Ты наверх посмотри.
– Ну и что?
– Потолок рушится. Там у них пол вздулся.
– Жду, – сказал кому-то Сергей Сергеевич, повесил трубку, обошел лабораторный стол, большим и указательным пальцами потер глянцевитую поверхность одного из листьев.
– Так все-таки кто? Кто из вас вчера случайно или специально…
– Я, – сказал Ласточка. – Я поливал его.
– Чем?
– Обыкновенной водой.
– А остальные?
– Остальные – кетеновыми растворами. Ну как обычно…
– Значит, все, кроме этого, поливали кетеновыми растворами? Все? – лишний раз уточнил Триэс.
– Кроме этого и контрольного. Их я поливал простой водой. Да, точно. А это… еще весной… помните?..
Триэс наморщил лоб.
– Помните, как Аскольд полил его однажды кротоновым раствором и оно совсем перестало расти?
– Валера, ты ведь брал колбу на мойке, – сказала Инна. – А что если… Там же могли быть какие-то остатки.
– Остатки чего? – спросил Ласточка.
– Я ее как раз собирался мыть… Сейчас. Одну минуту. – Гурий раскрыл лабораторный журнал, показал Триэсу пропись эксперимента вместе с нарисованной рядом структурой последнего из полученных ферментов.
Сергей Сергеевич снова перевел взгляд на густые, темно-зеленые листья, залепившие окно. Сейчас они были единственной реальностью, связывавшей ночные его видения с дневной жизнью.
– Значит, Аскольд?
Ласточка кивнул.
– А вчера, говорите, туда попал фермент… – вслух рассуждал Сергей Сергеевич.
– Я этого не утверждаю.
– Но и не отрицаете?
Какое-то время Ласточка колебался.
– Вообще-то конечно… – вынужден был согласиться он.
– Очевидно, это был раствор… вот… вот такого кротона, – ни на кого не глядя, высказал предположение профессор.
Он небрежно набросал формулу на отдельном листке и вопросительно взглянул на Валерия Николаевича.
– Не совсем… Аскольд ведь занимался тогда… Нет, карбонильный кислород не здесь.
– Он должен быть там, где я его изобразил, – не терпящим возражений тоном заявил профессор.
А сам подумал: до чего чудно́! Специально стимулировали рост растений кетенами, а они не желали расти. И вдруг законсервированный тщедушный уродец, случайно политый сильно разбавленным раствором фермента, вымахал за одну ночь, выдал свой полный ресурс. Причем реакция пошла не в колбе, а прямо в живой клетке, в самый переломный, должно быть, момент задуманного им п р е в р а щ е н и я – когда кротон уже перестал быть кротоном, но еще не успел стать кетеном… И почему именно ночью? Потому что великое должно созревать и вершиться втайне? Но чтобы такой небывалый ф е р м е н т а т и в н ы й м е т а б о л и з м!.. Изголодавшаяся природа просто взбесилась…
– Вот и все, – сказал он себе. – Теперь и умереть не страшно.
– Что? – не расслышал Ласточка.
Кто-то снаружи тихонько стучал в дверь. Гурий приоткрыл ее и впустил Андрея Аркадьевича Сумма.
– Сергей Сергеевич! Инна!
– Полюбуйтесь, – сказал Триэс. – Такого больше нигде не увидите.
– Фантастика! – пришел в полный восторг Андрей Аркадьевич. – Чего только не придумает современная наука.
– Это мы так, в порядке самодеятельности, – скромно заметил Триэс. – Своего рода поэтическая вольность.
– Но вольность, существующая, так сказать, объективно, независимо от нашего сознания…
– Зависимо, зависимо, – поспешил разочаровать его Триэс. – Вы сами скоро убедитесь в этом.
– Что вы собираетесь с ним делать?
– Мы его уничтожим.
– Как?
– Это всего лишь черновой набросок будущей работы. Здесь много случайного, неточного. Вот когда-нибудь, когда будут подходящие условия… Лет через…
Андрей Аркадьевич, близоруко щурясь и сутулясь сильнее обычного, разглядывал растение, захватившее, кроме большого окна, еще и полстены.
– Помните, в Приэльбрусье, одна из стен нашего дома была увита плющом? Помните, Инна? Вы тогда еще…
Инна смутилась, и Андрей Аркадьевич, поймав на себе заинтересованные взгляды посторонних, скомкал конец фразы.
– Вы сказали «когда-нибудь», – поспешил переменить он тему разговора. – Значит, есть надежда, что можно вырастить такое чудо еще раз?
– Полной уверенности, конечно, нет. Однако что прикажете делать? Потолок рушится.
– Потолок можно отремонтировать.
– А если рухнет корпус?
– Ничего, построят новый. Да что вы, в самом деле? Только варвары способны уничтожить такое великолепие.
– Видите ли… В некотором роде это растение незаконно… Преждевременно. И для нас. И для остальных. Даже темы для него нет. Даже в перспективных планах развития… Неизвестно, например, на чей счет списывать затраты по ремонту помещения. И вдруг окажется, что оно способно расти бесконечно?
Андрей Аркадьевич недоверчиво хмыкнул.
– Преврати мы маленькое растение в большое, все, может, были бы довольны. Но поскольку большое грозит превратиться в огромное, а мы к этому не готовы, его придется ликвидировать. И лучше мы сделаем это сами.
– У вас поднимется рука?
– На то, чтобы ликвидировать несколько килограммов никому не нужного хлорофилла? Подумаешь! Мы привыкли даже к тому, что целые главы истории стираются, переписываются заново…
– Главы, положим, не стираются, – нахмурился Андрей Аркадьевич. – Разве что отдельные строки. И то – лишь временно… Так какое название вы собираетесь дать этому гиганту?
– Незачем его называть.
– Ну как же? А для истории? Когда она будет написана вполне правдиво… Я бы, пожалуй, предложил назвать ваше растение так: «Музарелла Фестивальная».
– С одним или двумя «л»? – спросил Ласточка.
– Видимо, с двумя… Вы ведь пригласили меня как представителя отдела информации?
– Только как друга, – сказал Триэс.
– Понятно. Хотите быть скромными. Ну-ну! – Андрей Аркадьевич осуждающе покачал головой. – Да вас просто не заметят! Что бы вы там ни сделали, ни изобрели. О вашем существовании просто никто не узнает. Главное ведь сейчас знаете что? Постоянно выступать, трубить на каждом углу, бить в барабаны. Хоть и не поймут, а запомнят, обратят внимание. Все настолько погружены в собственные проблемы. Ничего не стоит сгинуть в этом бездонном море информации.
– Вот и хорошо!
Белесый вихор у Ласточки на макушке трепетал вызывающе.
– В каком смысле, простите?
– Ну наступят же когда-нибудь другие времена… Людям до смерти надоедят все эти врали, болтуны-выступалы, пустомели-рекламисты, кликуши-крикуны. Они вдруг опомнятся и спросят друг у друга: неужели не осталось среди нас нормальных? Кто, вместо того чтобы молоть языком и орудовать локтями, как следует умеет работать руками и головой? Кто сидит на своем месте и тихо, достойно делает свое настоящее дело? Вот тогда-то, может, мы и понадобимся. Мы и наша «Музарелла».
Уже через час после ухода Андрея Аркадьевича все было кончено. Лаборантки несколько раз выходили на улицу с огромными свертками и под моросящим дождем направлялись в сторону институтской свалки. Комната стала доступной для всеобщего обозрения.
Приходили разные товарищи: в одиночку и группами по несколько человек – в костюмах, халатах и ватниках. Они стучали по стене кулаками, прикладывали ухо, слушали. Каждая новая комиссия утверждала, что разрушение произошло не по вине контролируемых ею служб. Назначили специальную многоотраслевую комиссию, подключили отдел информации, машинную технику. Были получены интересные, хотя и нелепейшие по сути своей результаты. Расчеты, в частности, показали, что если бы потолок начал рушиться от старости или проседания фундамента, он разрушился бы не здесь, а совсем в другом месте. Служба коммуникаций указывала на строителей. Строители же уверенно потрясали справочником Ле Беля и де Бура. Для выяснения причин аварии кто-то предложил воспользоваться методом изотопно меченных предшественников – в просторечье: «методом предшественников». В щель засунули крюк и вытащили несколько листьев – вещественных доказательств, позволяющих эксплуатационщикам обвинить строителей в недобросовестности. Якобы в бетон могли попасть семена, прорасти и разрушить несущую часть перекрытия. Строители только посмеялись, не сочтя даже нужным ответить официально. Лично Никодим Агрикалчевич приходил осматривать щель в потолке, однако его реакция была неопределенная, и конфликтующие стороны не могли понять, кого поддержит он в затянувшемся споре.
Впрочем, Никодиму Агрикалчевичу было не до того. В это время он слишком много внимания уделял и н с т и т у ц и о н а л ь н ы м структурам, необходимым институту как воздух, ибо без них система согласований работала из рук вон плохо. Большие надежды возлагались на товарища Кирикиаса, который должен был довести начатое им до конца, но товарищ Кирикиас что-то не очень их оправдывал. То ли по состоянию ухудшившегося здоровья заведующий отделом информации уже не тянул, то ли просто по возрасту. И хотя Никодим Агрикалчевич был всего на год моложе Вигена Германовича, он не боялся ставить такого рода вопросы ребром: либо тянет товарищ, либо не тянет. Для одного шестьдесят лет – это только начало, для другого, извините, конец.
Казалось бы, отдел Кирикиаса уже сделал первые шаги в нужном направлении, опробовал систему институциональных взаимодействий, но учет, контроль и отправку опытных образцов с помощью электронно-вычислительной техники так и не наладил пока. Ожидалось, что машина будет не только решать, стоит ли отправлять предлагаемый образец в ту или иную заинтересованную организацию, и если да, то в каком количестве, каким видом транспорта, в какой упаковке, с какой конечной целью, – но и вести основную работу по административно-техническому согласованию. На первых порах это позволило бы значительно разгрузить рабочий день не только Никодима Агрикалчевича, но и других институтских руководителей, снять с них часть ненужной ответственности, сократить объем циркулирующих по институту бумаг, документов и число согласующих подписей. Однако товарищи из других организаций по-прежнему табунами гоняли по инстанциям, выклянчивали у разработчиков «капелюшечку» и вывозили опытные образцы партизанским способом и своим ходом, кто в чем мог: кто в дамских и хозяйственных сумках (с портфелями в Институт химии не пускали), кто в карманах и в папках для бумаг. Какая же это, извините за выражение, научно-техническая революция, спрашивал себя с возмущением Никодим Агрикалчевич, если женщины тянут на вокзал целые канистры с консервантами, разработанными в лаборатории профессора Степанова? А ведь разработка хорошая, нужная, хотя кое-кто и пытался мешать ей в свое время, тогда как техника, с помощью которой результаты работы стараются теперь внедрить в жизнь, прямо надо сказать, никудышная. Не пора ли навести порядок, обновить руководство отдела информации, ответственного за решение проблемы в целом? Так думал, прикидывал, взвешивал Никодим Агрикалчевич, допоздна засиживаясь в своем кабинете среди нимф, пастухов и фавнов.
А что профессор Степанов? Как реагировал он на события и перемены в лаборатории, институте, в мире за последние полгода? Как воспринимал Солнечный юноша, летавший на крыльях недолговечного счастья над зелеными лугами Приэльбрусья, крах мимолетных иллюзий, запрещение кетеновой тематики, разрешение кетеновой тематики, переименование кротоновой тематики, все эти рискованные химические превращения, внезапный рост и гибель Музареллы Фестивальной, с легкой руки Валерия Николаевича Ласточки чуть не разрушившей институтское здание? Может, его командировочная любовь к Инне была лишь освобождением от неких внешних и внутренних запретов, долгие годы тяготивших его? Сбрасыванием старой кожи? Кротоновым метаболизмом?
Он опять чувствовал опустошение, полный упадок сил. Снова казалось, что жизнь исчерпана. Тот последний ее отрезок, который начался со взлета самолета, взявшего курс на Минеральные Воды, и окончился плачевным приземлением где-то в районе Лютамшор, длился, по субъективным его представлениям, бесконечно. Ложное ощущение необыкновенности и мимолетности всего случившегося сменилось ложным убеждением, что нынешнее его состояние – навсегда. Пожалуй, лишь только теперь он оказался вполне готов к самому худшему. К худшему из того, что могло еще произойти с ним.
ГЛАВА XX
КАРНАВАЛ
Праздник близился. Его приурочили к новогоднему торжеству, словно для того только, чтобы усилить всплеск ликования, зревший в душе каждого как решительный протест против непролазной грязи уходящей осени и хмурых дней наступавшей зимы. Различные институтские службы, отделения, отделы, лаборатории точно бульдозеры сгребали в кучу все то разноцветное, редкостное, яркое и лакомое, из чего должен был родиться праздничный карнавал. И главным среди маленьких и больших, мощных и маломощных строительно-устроительских механизмов стал отдел информации, назначенный ответственным за предстоящее мероприятие. Подводились итоги многолетней деятельности института, суммировались награды, выявлялись лучшие из лучших, строились декорации, писались речи, раздавались роли, покупались призы и сувениры, рассылались приглашения.
Капитальное строительство нового корпуса очередной раз заморозили до весны, как были заморожены до весны деревья, цветы и часть невырубленного мелколесья, подступающего с одной стороны к самой строительной площадке. Снаружи недостроенный корпус продолжал оставаться все той же серой, невзрачной бетонной коробкой с незаделанными швами и проржавевшей железной арматурой, но зато в его неприметную дверь сбоку какие-то люди продолжали втаскивать все новые свертки, тюки, рулоны, доски, листы фанеры, провода, а также свежесрубленные елки и массивные детали неизвестного происхождения, которые, однако, без труда несли мужчины и даже женщины.
Каждый отдел выделял для этого определенное количество носильщиков, некоторые же лаборатории целиком были брошены на подготовку к юбилею. Хотя с них никто и не снимал плановых обязательств, итоговые производственные показатели даже превышали достижения предыдущих лет, и план института в целом был выполнен, как обычно, более чем на сто процентов в рекордно короткий срок – к двадцатому декабря. Все свидетельствовало о хорошей организации труда, правильной расстановке кадров, об умении использовать внутренние резервы.
Каждый начальник, маленький и большой, уже с весны думал о будущем и, по мере возможности, готовил тылы. Даже июльское обсуждение научной направленности работ отдела информации имело определенное отношение к юбилею. Трезво оценив свои силы, Виген Германович пришел к выводу, что послать двух человек на строительство нового корпуса он все равно не сможет, и обратился с просьбой усилить отдел. Руководство, как известно, пошло ему навстречу. Так сотрудник степановской лаборатории Аскольд Таганков оказался сотрудником отдела Вигена Германовича, однако по не вполне понятным и не до конца выясненным причинам он вскоре исчез, ушел, испарился или «сгорел», как утверждали некоторые. Когда до Нового года оставались считанные дни и подготовительные работы подходили к концу, стало очевидно, что отсутствие Таганкова никак не сказалось на общих итогах – что был он, что не был. Наверно, если бы даже сто таких таганковых исчезли, и тогда бы все, что намечалось, было исполнено.
Штаб проведения юбилея находился в кабинете Вигена Германовича, а комната переводчиков быстро превратилась в артистическую уборную, заваленную костюмами, париками, фальшивыми усами и прочим театральным реквизитом. Над маленькой боковой дверью в недостроенный корпус повесили бывший в употреблении транспарант «Добро пожаловать!» и написали от руки объявление, извещающее о дате карнавала, которую и без того все хорошо знали. Легко было понять, почему эта ложная внешняя убогость лишь разжигала любопытство участников и гостей, наслышанных о невиданных масштабах намеченного мероприятия и о том, что там, внутри, создается нечто совершенно уникальное.
Три серых пасмурных дня и непроглядных зимних ночи светились окна отдела информации. В просветах неплотно задернутых штор тут и там возникали маски, лица, кружевные воротники, береты с пышными перьями. Что-то там примеряли, что-то репетировали. В пригласительных билетах оговаривалась возможность для иногородних прибыть на праздник в своих маскарадных костюмах – разумеется, предварительно согласованных с устроителями. Костюмы же хозяев неоднократно обсуждались и уточнялись на многочисленных оперативных совещаниях.
В один из таких суматошных вечеров в отделе информации появился сильно исхудавший Андрей Аркадьевич Сумм. Его глаза от переутомления покраснели и слезились, так что приходилось поминутно вытирать их носовым платком.
– Пришел поработать, – объяснил он Вигену Германовичу.
– Зачем? – махнул тот уже сильно отекшей рукой. – Вы свое дело сделали. Тексты карнавальных представлений приняты и одобрены.
– Я сейчас перевожу Овидия, а здесь, знаете ли, какая-то более привычная обстановка. Вы не против?
Виген Германович был не против. Он только не мог понять, как можно променять домашний уют на весь этот кавардак, царящий в отделе.
– Ступайте в соседнюю комнату, – посоветовал он. – Денис! Голубенко! Дай-ка мне вторые экземпляры.
Сев за свободный стол, Виген Германович принялся перелистывать список, занимавший несколько десятков страниц. В первой колонке значились номера по порядку и номера отделов, в следующей – наименование маскарадного костюма, в третьей же и последней, озаглавленной «Ознакомлен», расписывались будущие участники маскарада – каждый против своей фамилии.
На торжественную часть пригласили всех, на карнавал же можно было прийти лишь в карнавальной одежде, которой в централизованном порядке обеспечивались участники праздничного представления и руководящее звено, начиная с заведующего лабораторией и выше. Остальные, по желанию, шили ее самостоятельно в соответствии с инструкцией, подписанной Вигеном Германовичем и утвержденной в установленном порядке с Никодимом Агрикалчевичем Праведниковым.
Среднее административное звено решили выпустить в красочных нарядах мушкетеров. Много говорили, не раз собирались по этому вопросу. Наконец пришли к заключению не делать в костюмах никаких различий между заведующими отделов и лабораторий. Только для заведующих отделениями приготовили костюмы капитанов мушкетеров. Что касается Сергея Павловича Скипетрова, единственного в Институте химии члена-корреспондента, то его собирались облачить в небесного цвета плащ с золотыми звездами.
Все это вместе с предстоящим угощением почетных гостей и оформлением зала потребовало немало средств. Часть денег внесли участники карнавала, сколько-то взяли из директорского фонда, на большую сумму выписали фиктивных премий, существенно помог профсоюз.
А над Лунином уже нависала томительная скука ожидания – постоянная предвестница веселья. Уже праздно шатающаяся публика подходила к боковой неприметной дверце с лозунгом «Добро пожаловать!», пыталась всеми правдами и неправдами проникнуть внутрь или хотя бы краешком глаза взглянуть на то, что ее ожидает там вскоре. Дружинники разговаривали вежливо, но никого не пускали.
Ждали академика Добросердова – одного из самых почетных среди почетных гостей. Многократно звонили ему в другой город домой, но к телефону никто не подходил. Связывались с дирекцией института, где он работал, но секретарша всякий раз сообщала, что академик только что, буквально минуту назад, отлучился в лабораторию. Однако и в лаборатории его не оказывалось. Тогда вынуждены были просить телеграммой подтвердить его согласие приехать в Лунино на юбилей. И хотя никаких обнадеживающих сведений на сей счет не поступило и продолжавших прибывать гостей уже негде было размещать, закрепленный за академиком номер «люкс» по-прежнему пустовал.
Присутствие на торжественной части всех сотрудников считалось обязательным. Поскольку такое количество народа институтский актовый зал заведомо вместить не мог, в холле установили динамики, а на столе президиума и на трибуне – дополнительные микрофоны.
Сначала впустили почетных гостей и среднее административное звено. Потом, когда заграждение сняли, пестрая ревущая толпа устремилась в открытые двери. Двум дамам, чтобы не быть сметенными, пришлось отойти в сторону и притулиться возле стены. К ним приблизился некто в голубом плаще Звездочета, церемонно раскланялся.
– Сергей Павлович, вы разве не выступаете? – спросила одна из дам, одетая в черное платье Бедной Лизы.
– Несколько позже, Дина Константиновна. Несколько позже.
– Прямо вот так, не переодеваясь?
– Я намерен выступить в особом роде.
К ним подошел один из распорядителей.
– Сергей Павлович, пожалуйста. Вас ждут в президиуме.
– Потом, – отмахнулся Звездочет.
– Вы не знакомы? Это Инна Владимировна, аспирантка Сергея Сергеевича.
– Нет, с Инной Владимировной мы не знакомы…
Та, вторая, что была в облачении королевы, как-то вдруг растерялась и сделала неловкий книксен.
– Очень приятно познакомиться. Всегда готов служить благородным дамам.
– Надеюсь, – отвечала в тон Бедная Лиза, отводя Сергея Павловича в сторонку и скромно потупив взор, – что при случае вы окажете заслуженное благодеяние одной бедной, оскорбленной душе.








