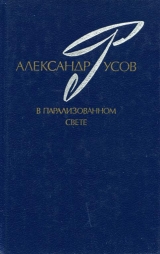
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
Или, например, эти заковыристые письмена? Тункан их начертал, кто же еще! Математик Тункан, представитель «загнивающей интеллигенции». Маленький, надменный, с красным, угреватым носом, сальные волосы, пересыпанные перхотью, расчесаны на косой пробор. С гонором мальчик, серебряный медалист. Защитил две диссертации. Работает на космос.
А тут что за тонкие корявые буковки, спирохеты бледные?
Нужно ли представлять автора?
Херувим, если не ошибаюсь?
Он самый. Голубоглазый блондин с ровно отглаженными назад соломенными волосами. Аккуратист. Школьный поэт и будущий экономист-международник. Тоже серебро. Очкарик. Потенциальный истерик. Постоянные истории с женщинами, которых он либо не мог удовлетворить, либо не хотел иметь от них детей, а они ему их зачем-то рожали. Писал хорошие стихи. Во всяком случае, лучше его в ту пору стихов у вас в классе никто не писал. Много рассуждал на социальные и политические темы. Одно говорил в узком дружеском кругу – и совсем другое на экзаменах. Словом, типичный будущий политик в духе того времени. Успешно защитил диссертацию в сфере политической экономии.
Остается, пожалуй, еще только один член «выездной редколлегии» – тот, что в порыве разгоревшегося спора вскакивает вдруг со своего места, опрокидывая на себя чашку с остывающим чаем. Все смеются. Кто-то намекает даже, что это не чай, что Лапа просто описался. Лапа растерянно улыбается, краснеет как маков цвет. Сначала решительно отрицает, потом смеется вместе со всеми. Щеки у него и впрямь такие румяные, как у нагулявшегося в сквере младенца. Он пытается что-то доказать, уже не относящееся к чаю, прижимает запястья к груди – ни дать ни взять большая лохматая собака, вставшая на задние лапы. Высокий плотный шатен. Непослушные волосы во все стороны. Зимой носит ушанку. Тесемки всегда развязаны, одно ухо прижато к макушке, другое отпало и болтается. Вид идиота. Почерк жуткий. Характер добродушный. Его каракули не разбирает даже математик, который за все время учебы ни разу не поставил ему ниже пятерки. С е р е б р о. Долгое время работал в Женеве на международном научном поприще.
Так что там все-таки было еще в этих письмах?
Говорю тебе: в каждом хотя бы немного говорилось о Тихоне, и во всех с восторженно-негативным оттенком. Воображала, задавака, с бешниками танцевала на школьном вечере – разве не ясно? Таких не любят.
Скажи, как у нас со временем?
На этом хронометре, честно говоря, ни фига не разобрать. То ли десять минут восьмого, то ли без двадцати пяти два.
Ну хотя бы год какой?
Неужели забыл? 1955-й. Во всяком случае, именно им помечены те коллективные письма с рисунками.
В больницу тебя положили осенью?
Да, после двух пневмоний.
Значит, дело движется к зиме?
Совершенно верно.
Прекрасно. Вот тут-то, кажется, все и начнется. Как чувствуешь себя?
Нормально.
На слабость, быструю утомляемость не жалуешься?
Иди на фиг!!!
Стало быть, ты пропускаешь в общей сложности две четверти и какое-то время самостоятельно занимаешься дома. Ребята помогают тебе догнать остальных. Лапа и Тункан – по физике и математике, Бубнила Кособока – по русскому, литературе и остальным.
«С тобой друзья» – так, кажется, называлась одна из тех пьес о старшеклассниках.
Перед самым почти Новым годом ты возвращаешься в школу, в свой 8-й «А» класс. Всеобщее ликование и поздравления. Бенгальские огни и брызги шампанского. Кнопка, острым концом вверх подложенная тебе под зад, и кусочек карбида кальция – в чернильницу. Совсем как в старое доброе время раздельного обучения. Интересно, обратила тогда на тебя внимание Воображала Уродина?
Не смей ее так называть!
Ну хорошо, извини: Тихоня. Так что, обратила?
Не припомню…
А я, ты знаешь, запомнил только ее равнодушные, прозрачные студенистые глаза и большой выпуклый лоб, весь в мелких пупырышках.
Итак, ты возвращаешься в школу и сидишь теперь в первом ряду за четвертой партой, а за третьей, прямо перед тобой, сидит Она. Тебя уже потянуло, притянуло к ней. Мушка попалась, лапки увязли в меде. Не в силах оторвать взгляда от ее спины, ты как бы пытаешься загипнотизировать ее, внушить ей некую сакраментальную мысль, но сам оказываешься загипнотизированным, выпавшим из учебного процесса. Каждая деталь ее внешности, одежды производит на тебя неизгладимое впечатление: торчащие под форменным платьем лопатки, черные крылышки фартука, пухлая короткая коса, кончающаяся плавным завитком, мочка левого уха с бледной родинкой, когда она, вся такая прямая и неподвижная, чуть поворачивает голову к доске. И еще ты видишь в этот момент кончик ее крупного, пористого носа из-за округлой щеки, крутой подбородок и две поперечные складки на шее – грозный признак будущего ожирения, которого, кажется, так и не произошло.
То, что ты сидел теперь за четвертой партой и тайком все уроки напролет рисовал портреты Тихони со спины, не объяснить случайностью. Кстати, это ведь не ты выбрал ее тайным предметом страсти – а она тебя притянула, перетянула с другого ряда, пересадила с места на место, даже не взглянув ни разу в твою сторону.
Телекинез?
Просто вы оба уже готовы были досрочно стать взрослыми.
Хорошо, согласимся на этом.
Итак, где мы находимся?
На полустанке юности, на самой границе 1955 и 1956 годов.
Так. Ясно.
Школьный вечер. Новый год…
Музыка, вальс!
Коридор третьего этажа полон. Захлебывается репродуктор. Под длинным, узким потолком тускло светят матовые шары, и света от них ничуть не больше, чем на обычных переменах второй смены. Но на самом деле это праздник, приятель. Самый настоящий праздник, на который ты явился в карнавальном костюме Кавказца. И угораздило же тебя! Дома перед зеркалом – в черкеске, курчавой папахе, в мягких черных сапожках и чувяках, с деревянными серебряными газырями на груди и с кинжалом на поясе – ты мнил себя настоящим джигитом, а тут, среди своих ребят, одетых в обыкновенные москвошвеевские костюмы и скороходовские ботинки, вдруг оказался какой-то белой кавказской вороной.
Но ведь карнавал!
Все равно. Ты чувствовал себя смешной, неловкой и даже, пожалуй, жалкой какой-то кавказской вороной в этой маскарадной одежде, и стыдно было именно за то, ради чего ты вырядился – чтобы отличиться от других.
А Тихоня?
Она была одета индианкой в настоящее сари цвета блеклой сирени и вела себя очень достойно и независимо, будто ей это не в диковинку. Будто одевалась так каждый день и приезжала в школу на слоне в золотых носилках. Накрасила губной помадой родинку посреди лба, розовым лаком – ногти и надела на бледный пальчик мамино бирюзовое колечко. Она была самая нарядная на этом вечере, но и самая, пожалуй, чудна́я, вроде как сумасшедшая. Это заметили, кажется, даже бешники. Они не очень-то приглашали ее танцевать, а завзятые хулиганы вообще обзывали Чучелой, но она их словно не замечала.
Индийская королева, дочь Ганди, невеста Шивы, что делала она здесь, такая нездешняя, среди незрелых сосунков, которые когда еще смогут стать настоящими мужчинами? Что делала она среди гипсовых копий с греческо-римских скульптур, изображающих Сократа и Аристотеля, Диану и Афродиту – среди этих гипсовых подобий, величественно стоящих в простенках между окнами в окружении ящиков, горшков и кадушек со стрельчатой, мясистой, воздушно-кружевной субтропической зеленью? Среди этих шкодливых, дергающихся незрелых мальчишек, пуляющих скатанными из жеваной промокашки шариками, и обыкновенных девчонок, на большинстве которых даже не выходные платья, а будничные коричневые школьные формы со множеством швов и вытачек, особенно заметных из-за отсутствия фартуков?
…Сначала ты чувствуешь только кожей. Ощущаешь, как мурашки побежали по телу и руки покрылись пупырками, хотя ничего еще понять невозможно: отвратительная акустика, ужасный репродуктор. Тем временем звуки шопеновского вальса заполняют длинный школьный коридор, звуковая волна ударяет в дребезжащие стекла, а к тебе как бы постепенно возвращается слух, и ты вдруг слышишь искаженную почти до неузнаваемости музыку божественного, неповторимого. Шопена…
Тебе плохо, девочка? Тяжелая голова, мигрень, воздуха не хватает. Хочется, наверное, убежать, куда-нибудь спрятаться. Для кого только ты так нарядилась, Индира? С ними ведь всеми ужасно скучно, не о чем слова молвить. Примитивны, нелепы. Чуждая среда. Тебе куда интереснее со взрослыми. Весталка, лучшая твоя подруга, старше тебя на сорок лет. Вы живете в одной коммунальной квартире. Ее комната похожа на оранжерею, вся в зелени. У нее есть муж, третий или четвертый по счету. Весталка не расписана с ним, с дядей Догом, породистым, красивым мужчиной, который долгое время работал на радио, писал сценарии, пьесы, но их потом почему-то не ставили, а теперь он работает рентгенологом в ведомственной поликлинике. Ты была совсем маленькой, когда однажды перед праздничной демонстрацией в ваш дом пришел милиционер и двое в штатском. Они проверяли у всех документы, а дядя Дог здесь не был прописан. Он стоял в пижаме в дверях, и ты была почему-то уверена, что его сейчас арестуют. Неужели дядя Дог мог оказаться шпионом? Но ведь дом ваш находился на улице Горького, и мимо вашего парадного всегда шли нескончаемые колонны демонстрантов. И где же было скрываться шпиону, откуда стрелять в демонстрантов и вождей, как не отсюда?
Отчего дядя Дог перестал писать пьесы? Считается, из-за того, что начал пить. Он пил и до сих пор нравился женщинам, иногда пропадал на несколько дней, морочил Весталке голову какими-то творческими планами, ночными совещаниями и прочим, чем морочил еще в пору своего расцвета. Бедная Весталка всему верила, или только делала вид, что верила, жалела, обожала своего Дога, курила длинные папиросы и говорила хриплым, прокуренным голосом:
– Тебе будет трудно в жизни, деточка. Ты умная, тонкая, необычная. Ты опоздала родиться на несколько десятилетий, и, пожалуй, еще не родился тот, кто достоин стать твоим мужем.
Клубы папиросного дыма сплетаются со стеблями комнатных декоративных лиан, вы сидите поздно вечером на небольшой, слабо освещенной поляне тропических джунглей, в самой сердцевине необозримой, вытянутой кишкой коммунальной квартиры, и Весталка напрасно ждет своего Дога, напрасно приготовила вкусный ужин. Он придет только завтра или послезавтра – совсем пьяный, измызганный, совершенно больной, и она будет мыть его, как малого ребенка, одевать в чистое, отпаивать чаем, укладывать спать. Ты называешь ее тетей Весталкой, хотя по духу она тебе ближе родных матери и отца, при том что она никакая не тетя – просто соседка по квартире, женщина из бывших, учившаяся еще до революции в пансионе благородных девиц, некогда богатая и красивая, но еще более – не постоянная в своих увлечениях, рано выскочившая замуж, рано сломавшая свою жизнь, а теперь – фанатически верная, преданная подруга своего неверного Дога. Она работает художницей в каком-то отраслевом журнале, берет по договорам работу на дом, и те деньги, что она получает благодаря навыкам, приобретенным в учебном заведении для аристократок, позволяют им с дядей Догом существовать вполне сносно, ибо его денег она не видит – возможно, он и не получает их.
– Ты нежное существо, моя девочка, только карта тебе выпадает плохая. Ты умрешь рано – через постель.
Твою мать возмущает терпеливость и покорность Весталки. Мать считает, что мужчин распускать нельзя, а отец твой, со свойственной ему инженерской прямолинейностью мысли и социально-духовной непримиримостью сына старых большевиков, не раз выскажется о Весталке ворчливо и презрительно, назовет барыней на вате – хотя какая она там барыня: живет своим трудом, работает ночами, да и зачем подкладывать вату этой, правда, худой, но и до сих пор очень стройной тете Весталке?
Пройдет не так много времени, и ты, Индира, станешь утверждать, что умершая от белокровия тетя Весталка – самый близкий тебе человек на земле. Немного колдунья, она видела порой пророческие сны, и это она благословила тебя на союз с мальчиком, немного похожим на девочку, а тогда, на школьном новогоднем вечере, одетым в костюм Кавказца и подпирающим выкрашенную невзрачной масляной краской стену вместе с Бубнилой Кособокой, Херувимом, Тунканом и Лапой.
Если бы кто-то сказал тогда, что твой выбор вскоре падет на него, ты просто рассмеялась бы, несмотря на то что у тебя отвратительное настроение, болит голова, колотится сердце и смеяться совсем не хочется. Рассмеявшись все же, ты бы при этом заметила, что глупее ничего нельзя было придумать, потому что ты выйдешь замуж за индийского раджу, немецкого путешественника, делового англичанина, за принца крови, короля или, в самом крайнем случае, – за генеральского сына, брата Дылды, который домогается тебя вот уже второй месяц. Мальчику же, что сидит теперь на четвертой парте позади тебя, а сейчас, на школьном карнавале, то и дело исподлобья поглядывает в твою сторону, пусть достанется что-нибудь попроще.
Да, Индира, да, моя девочка, тебя ждет необыкновенное будущее. Ты избранница, но до сих пор тебе, к сожалению, не везло. В семь лет ты хотела стать балериной и уже значилась в списке принятых в балетную школу, но тебя вдруг в последний день вычеркнули и вписали другую, твою подружку, малоспособную дочь знаменитой солистки Большого театра. Они сказали, что у тебя ноги «иксом», что это особенно станет заметно потом. Какая злая выдумка! Какая страшная несправедливость! И все равно ты обязательно будешь знаменитой, если не балериной – кем-нибудь еще…
Ну как, приятель?
Похоже, похоже, а в некоторых местах так просто очень. Но что же все-таки имела в виду Весталка, когда сказала, что Тихоня погибнет через постель?
Об этом теперь можно только догадываться. Однако Весталка действительно была проницательной женщиной, я немного знал ее. Мы с Индирой ходили к ней в гости, после чего Весталка посоветовала ей, а Индира пересказала мне:
– Будь с ним, он хороший мальчик. Как раз то, что тебе нужно. Только боюсь, это все равно плохо кончится…
Опять мы забежали вперед, вместо того чтобы слушать Шопена.
А ведь не умеешь ты танцевать вальс. Слабо тебе, парень! Вот все вы ругаете бешников – и зря. Не вам чета. Вон как они твой кадр к рукам прибрали. Им что вальс, что падеграс, что буги-вуги. Ты танго-то хоть умеешь?
Ну!
Не смеши.
Посмотрим…
Все равно ведь не пригласишь ее танцевать.
Я?!
Ты. И Бубнила тоже. И Херувим. И Тункан. Тункан стесняется своего «паяльника». Бубнилу мучает другой комплекс неполноценности – маленький рост и все такое, а вам с Херувимом просто не хватает решимости.
В общем-то, Херувим ближе всех окажется к цели. В середине вечера он вдруг решительно отлепится от стены и направится к Индире гусиным шагом: прямой, негнущийся, с окаменевшей спиной. Обычная в принципе для него походка, выдающая все его обостренно-уязвимое самолюбие, презрение к миру и тайное желание владеть им. Почти так же вот ходит он отвечать к доске, и только по слабому подрагиванию пальцев можно догадаться, каких усилий воли стоит ему нынешнее самообладание. Небось ладони до того взмокли, что впору вытирать полотенцем.
Но ведь он так и не успеет дойти до Индианки! Ее перехватит кто-то из бешников. Кто-то из окружения Дылды.
Согласись, тут много важнее намерение и готовность, нежели конкретный результат. Поняв, что опоздал, Херувим, не сбавляя скорости хода и не сбиваясь с шага, все с тем же величественным видом проследует мимо, подойдет к окну и обопрется задом о подоконник, будто для того только и совершил переход от одной стены коридора до другой.
Ну и выдержка у него! Скажи! Уже тогда было ясно, что он готовил себя к государственной службе.
Так вот к чему я это все веду. Именно в тот вечер, в канун нового 1956 года, подпирая холодную стену школьного коридора возле Бубнилы Кособоки, ты отметил жутковатое несоответствие между красотой и уродством одного и того же уже не безразличного тебе существа, облаченного в индийское сари. Какая-то не выраженная еще до конца фальшь крылась в этой куколке, столь не похожей на Девочку С Больными Ушами, над которой ты мог бы даже и посмеяться, но которую никогда не посмел бы обидеть.
Притягательная тайна безобразного.
Но в чем, собственно, она состоит?
В несоответствии, приятель. В искусственности. Неправдоподобии. Сейчас попробую объяснить, но только учти, что это касается не только карнавальной одежды твоей Индиры. Вообще не только внешнего. Чаще всего безобразное, думается мне, выявляется в несоответствии запросов и возможностей, претензий и способностей – вообще в любых несоответствиях. Так вот, этой весной я побывал на кладбище, где похоронена бабушка. На ее могиле алели яркие огромные тюльпаны, видные издалека. Другие цветы – в том числе и те, что были у меня в руке, – меркли в сравнении с этими. По совпадению я тоже принес тюльпаны. Просто время подоспело такое: начало мая, ранняя, теплая весна. Подойдя к надгробному камню, я увидел пластмассовые полураскрывшиеся бутоны с потеками отошедшего снега, стрельчатые изумрудные листья, чей яростный цвет не смогли заглушить даже густые разводы осевшей пыли. Все это буйство синтетической, без труда пережившей зиму экзотики, имитирующей пышность природы, забивало робкие, нежные ростки зелени, проклевывающейся из ссохшейся, заскорузлой земли. И тогда я подумал, что разрушить эту имитацию вечного цветения, это жалкое подобие жизни, наверно, гораздо труднее, чем саму жизнь…
Что осталось еще от того новогоднего вечера, согласись, во многих отношениях решающего? Ведь, несмотря на приоткрывшуюся бездну, на чувство неловкости, даже стыда, ты ринулся как одержимый навстречу своей судьбе.
Все, хватит! Нет никакого смысла задерживаться дольше на школьном карнавале. Айда на улицу, в снег и метель, на залитую огнями улицу Горького, на наш родной многолюдный московский Бродвей, где чуть позже мы обязательно повстречаем Индиру, раз уж ты, разнесчастный телелюй, втюрился в нее и тебе теперь это так необходимо. Мы увидим твою барышню, церемонно прогуливающуюся в черно-белой шубке со свисающими отовсюду хвостиками и такой же точно муфтой на груди. Боюсь, однако, что это не горностаи, хотя издали очень на них похоже.
Зимние школьные каникулы, понял? Тормози лаптей! Выключай к чертям собачьим свою тикалку! Остановись, мгновенье, ты прекрасно… Правильно говорю, Телелюев? Выражаюсь понятно? Мне бы те годы вернуть. И еще бы заполучить одну штуку – современный самокат, роликовую лыжу, доску на четырех колесиках. Вихрем бы спустился от Пушкинской площади до самого Охотного ряда, и – можешь быть уверен – ни одному милиционеру меня тогда не догнать. Такой бы слалом показал, что закачаешься. Давно уже, кстати, мечтаю стать фанатом доски, самокатящимся человеком. И плевать тогда я хотел на любые почетные дипломы и свидетельства, на все педагогические, социально-психологические и ангидридно-перекисные науки, на математику и статистику, на хорошую успеваемость и примерное поведение, на обманувшие нас мечты и на девушку в сиреневом сари. Поверь, приятель, нет ничего лучше такого Ноева ковчега, этой лыжи-ладьи на маленьких широких колесиках. На ней ведь можно и по прямой, и по синусоиде. Как вверх, так и вниз. Движение все, приятель, цель – ничто, и в том, что я так бездарно провел каникулы, слоняясь взад-вперед по улице Горького с единственной надеждой встретить Ее, виноват, конечно, прежде всего я сам, но и время, наверно, и незрелость общества, еще не додумавшегося до самокатящейся монолыжи – священного атрибута новой веры. Разве стал бы я заниматься этой полуспортивной ходьбой, если бы избыток энергии уходил на виляние бедрами, на сообщение чудо-самокату необходимого момента движения? Мне бы, дураку, тогда пусть даже на обыкновенные лыжи приналечь или скоростной бег на коньках освоить, но слабое здоровье, дружище… Но бронхоэктазия, приятель. Учти, вопрос об очередном запуске в левое легкое красной резиновой трубочки еще не был снят с повестки дня. Подобная ситуация не вдохновляла на спортивные подвиги, хотя, если разобраться, только они и могли бы спасти от волосатых рук Ординатора и от роковой, разбушевавшейся вдруг страсти.
Улица Горького, Телелюев! 1956 год.
Улица Горького катится на всех своих четырех колесиках, на восьми, шестнадцати, двадцати четырех колесах от Моссовета до Телеграфа и обратно. Доисторические «эмки», «победы» и «москвичи» в вихре снежной пыльцы. Солдатики-милиционеры застыли на осевой линии, застряли в плоскости трения встречных потоков, в точках пересечения диагоналей равносторонних и вытянутых прямоугольников площадей. Серое небо простегано спрессованными хлопьями снега. Ты плетешься по левой, телеграфно-моссоветовской стороне улицы, на которой стоит ее двухэтажный дом, бредешь в почти нереальной надежде встретить – просто увидеть, ибо от одной только мысли, что она может с тобой поздороваться, бросает в жар, кровь ударяет в голову, наступает полная слепота, глухота, потеря чувства ориентации. Смеркается быстро, надвигается ночь и хмарь. Ты – вечный двигатель, неостановимый маятник, лишь на миг замирающий в нижней точке, где находится ее зеленовато-серый двухэтажный дом, далеко вытянувшийся вдоль широкого тротуара, и подъезд – прямоугольная темная дыра в неизвестность и тайну. Скорее всего, ты даже не хочешь увидеть ее: нервы и так натянуты до предела. Достаточно уже одного неприкаянного болтания из стороны в сторону в поле притяжения этого одноподъездного, однополюсного магнита с уютными, старозаветными, то там, то тут вспыхивающими окнами, за одним из которых Ее жилище – сцена маленького домашнего театра в крошечной волшебной табакерке. Ток включают и отключают, магнитное поле возникает и исчезает, сердечник втягивается и выталкивается. Тик-так, тик-так… Но даже и этого традиционного звука нет у бесшумного электрического хода бесконечных отроческих часов только что наступившего 1956 года. Ноги гудят. Подводит живот. Ты чувствуешь уже голодную горечь во рту. Пора домой, тебя ждут, волнуются, ты пропадаешь целый день. Но воля парализована, ноги как ватные. Вот только еще раз, думаешь: туда и обратно. Еще и еще – и снова возвращаешься к мутно светящейся застекленной двери подъезда.
Да, это гипноз, приятель. Только почему загипнотизирован ты один? Почему к дому номер три по улице Горького, расположенному рядом с драматическим театром имени Ермоловой, не стекаются толпы несчастных? Куда они все подевались, те извечные вахлаки, неистовые паломники, фанатики веры, неисправимые идеалисты, покорные мерины, которых когда-то привязывали к этому чудом сохранившемуся, торчащему у самого края асфальтированного тротуара каменному шпеньку?
Возможно, старорежимные кирпичные стены дома № 3 как-то ослабляли гипнотическое действие девушки-медиума на проходящих мимо подъезда мужчин и юношей, мальчиков и подростков. Лишь твои бесстыдно-чувственные рецепторы улавливали то, что лучше бы совсем не улавливать такому телелюю, как ты.
Но-о-о, мертвая!.. Пошел! Пошел!
Что?
Поехали, говорю, дальше.
Разве школьные каникулы кончились?
А тебе, кажется, еще не надоело болтаться между Пушкинской площадью и Манежем…
Просто всегда бывает немного грустно, когда подходят к концу школьные каникулы. Давай-ка подсыпем немного снега на асфальт – незабываемого романтического снежка крутой зимы 1956-го. Потом ведь начнется такое бесснежье. На долгие годы. Даже десятилетия. Грязь, слякоть, дожди в феврале.
Раз речь зашла о романтике… О чем ты грезил в четырнадцать лет?
О женщине, это ясно. О женщине-богине.
Полагаю, речь идет о духовном влечении. Иначе зачем попусту тратить время, ошиваясь под окнами Индиры, вместо того чтобы навестить Сильвану или позвонить Красотке Второгоднице? Ведь в случае с Индирой была, что называется, полная безнадега: вы еще и словом не перекинулись, а там тебе явно светило – с Сильваной уж во всяком случае. Не станешь же ты отрицать, что район стадиона «Динамо», куда во время футбольных матчей стекалась, как это следует из популярной песни, вся Москва, светился с некоторых пор в твоем воображении голубым светом надежды? И свет этот, как ты хорошо знаешь, исходил из окон небезызвестного дома на Коленчатой улице, находящегося буквально в десяти минутах ходьбы от стадиона «Динамо», и стоял в небесах, будто северное сияние. Когда четверть века спустя над спортивной ареной понавешивали лупоглазые гроздья миллионоваттных прожекторов, с балкона квартиры, в которой ты жил тогда, можно было наблюдать по вечерам волшебное рассеивание сгустившейся тьмы. Но вспоминал ли ты, догадался ли хоть однажды об истинной природе этого уникального явления?.. Так что не устраивало тебя в Сильване?
Случайный, нечистый, вроде как воровской характер наших отношений.
Кажется, я начинаю кое-что понимать в природе твоей в о з в ы ш е н н о й любви. Скажи, у тебя в роду были крестьяне?
Да, по отцовской линии.
Я так и подумал.
Почему?
Стоило твоей неокрепшей шее почувствовать касание хомута, как разом взыграла кровь крепостных. Все запело и затряслось внутри от восторга. Вот ты и бросился курсировать взад-вперед, будто голубь возле голубицы, по левой, моссоветовской стороне улицы Горького. Как же я сразу не догадался? Ты ведь жаждал не столько любви, сколько р а б с т в а, добровольного закабаления, безвозмездной передачи своей мятущейся, необузданной, необъезженной, необжитой души в надежные, справедливые руки божества, и то, что ни Сильвана, ни Красотка Второгодница не годились на эту господскую душеприимную роль, было слишком уж очевидно.
Почему ты решил, что я нуждался в рабстве?
А как же! Ты вспомни, как дрожала рука, когда, будучи еще только учеником второго класса, ты, по примеру миллионов других, писал письмо Вождю и Учителю, чтобы поздравить его с днем семидесятилетия. В течение двух или трех дней ты не мог от волнения вывести до конца даже его отчество. Этот страх, соединенный с восторгом, был впитан вместе с молоком матери…
Ну что, пора?
Пора, Телелюев.
Тогда последуем дальше. Повернем бирюзовое волшебное колечко на безымянном пальчике Индиры, дабы переместиться еще на месяц вперед, в третью учебную четверть.
Постарайся вспомнить, когда и при каких обстоятельствах ты впервые попал в ту комнату на улице Горького – вернее, в девятиметровую часть большой комнаты, отгороженную тонкой фанерной перегородкой. Ведь именно в том закутке жила Индира с родителями. Входная дверь из коридора, если не ошибаюсь, представляла собой нечто вроде двух полудверей, выходящих в крошечный тамбур. Левая полудверь вела к ним, а за правой обитало враждебное племя родственников отца, так и не пожелавших признать невестку. Ненавистью, которую они испытывали друг к другу, была, кажется, насквозь пропитана хлипкая звукопроницаемая перегородка.
Я постучал…
Итак, ты робко постучал в левую полудверь – зашел под предлогом списать домашнее задание, скажем, по математике. Или по английскому?
Слишком спешишь, приятель.
Ну, разумеется, до того ты несколько раз звонил по телефону, вызывал Индиру из т р и д ц а т ь с е д ь м о й комнаты и долго ждал, пока ее позовут, пока она дойдет длинным коридором до телефонной будки наподобие телефона-автомата. Замирая от волнения, с выпрыгивающим из груди сердцем ты ждал, когда услышишь наконец ее звонкий, рассудительный голос рано повзрослевшего человека, которому твои маленькие детские любовные проблемы просто смешны.
Я не раз находил повод, чтобы зайти к ней.
Какое-то время, однако, она противилась твоему приходу.
Все-таки я своего добился.
Только потому, между прочим, что ей скучно и неинтересно было противиться твоей настойчивости. Ну да ладно. Так или иначе, получив ее разрешение, ты летишь стрелой вниз по улице Горького, побивая общесоюзные и мировые рекорды бега на средние дистанции, добегаешь до знакомого застекленного подъезда, непослушной рукой хватаешься за ручку входной двери, на негнущихся ногах поднимаешься по широкой полутемной лестнице, ведущей на второй этаж, в бывшие гостиничные номера, и тут, на повороте, на некотором возвышении обнаруживаешь освещенную изнутри телефонную будку – крошечную часовенку, откуда по временам до твоего дома доносится сладостный благовест, когда ты просишь позвать Индиру Индирову из 37-й комнаты, а чей-то, всякий раз другой, голос тебе отвечает: «Сейчас посмотрю». Ты ждешь и слышишь, как что-то токает и шуршит в трубке. Это голубь воркует с голубкой. Это в последний раз шевелится листва перед появлением заветной звезды в вифлеемском небе. Это шуршат одежды волхвов, склонившихся в безмолвном поклоне перед девой Марией, взирающей на беззащитное дитятко. Этот шум, шорох и шепот – ныне, и присно, и во веки веков: аминь!
Ты идешь по коридору направо, мимо вереницы очень похожих дверей – как бы мимо одной, все время повторяющейся, отраженной несчетное число раз в двойном зеркале. Мимо подвешенных в простенках тазов, электрических плиток, счетчиков и шипящих на полу примусов, керосинок и оцинкованных шаек, корыт, баков с грязным бельем – мимо бывших гостиничных номеров, где когда-то проводили свои холодные дни и жаркие ночи купцы, ревизоры, чиновники, проститутки, сутенеры, карточные шулера, просители, жалобщики, надзиратели, проходимцы – весь этот пестрый российский люд, стекавшийся в Москву по неотложным делам и заботам. Ты скользишь взглядом по верхним косякам темно-вишневых дверей из мореного дуба, где от старых времен сохранились овально-выпуклые жетоны с отбитой, отколупнутой кое-где белой эмалью – как бы эмалированные пасхальные яички с номерами комнат – и вот наконец оказываешься возле т р и д ц а т ь с е д ь м о й, тебе как раз нужной. Стучишь, робко приоткрываешь дверь: «Можно?» – ив этот миг твое сердце, точно лягушка, отчаянно дергается в горле всеми четырьмя лапами.
Никто не отвечает. Развернувшись левым плечом вперед, ты протискиваешься в этот узкий, тесный пенал с небольшим окном в далеком противоположном конце. Свет из окна ярко очерчивает темный профиль Индиры. Она сидит за столом и занимается. Она одна. Вся без малого двухметровая ширина комнаты занята драной тахтой, старым диваном, детской кроваткой, самодельным столиком, двумя венскими стульями и взгроможденной на какие-то другие вещи чертежной доской с кульманом. Посредине оставлен узкий проход, по которому один нетолстый человек, искусно маневрируя между вещами, может с трудом пройти из конца в конец комнаты.
Ты поражен, даже немного напуган этой теснотой и убожеством, но стараешься не показать виду. Здравствуй, – говорит Индира, – вот тебе тетрадь, только завтра перед алгеброй обязательно верни – ну что ты стоишь? – садись – не хочешь, как хочешь – до свидания…







