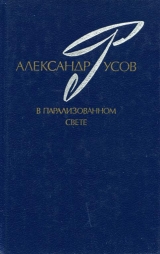
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 45 страниц)
– Алло!.. Что у вас нового?.. Tant mieux, tant mieux…[36]
– Следите внимательно за температурой. Очень внимательно. Строго говоря, отклонение не должно превышать… Ни в коем случае… Ergo…[37] Буду через полчаса…
Его ждут. Без него не начинают. Без него дело движется не столь успешно. Без него дело вообще не движется.
Да, в нем испытывают постоянную нужду. В его неповторимом умении обобщать. В его виртуозном искусстве анализировать. Сотрудникам как свежий воздух необходимы свежие его идеи. От них зависит судьба лаборатории. Целого института. Будущее человечества.
Доктор Кустов утапливает тросик дроссельной заслонки. Доктор Кустов накидывает на грудь широкую муаровую ленту – аварийный ремень повышенной прочности. Щелчком укрепляет. Включает первую скорость. Выруливает из двора.
В левом зеркале заднего вида проносится улица Строителей-Новаторов, вытягивается в непрерывную нить, закручивается хороводом черных корявых лип. В центре левого зеркала заднего вида возникает едва различимая точка. Подобная иголочному уколу точка постепенно разрастается, будто под медленно отодвигаемым увеличительным стеклом. Она распирает пространство, надувается пузырем, будто напившаяся крови пиявка – и вдруг лопается. Красные «жигули» доктора Кустова под номером МИФ-2392 обгоняет на недозволенной скорости черная «волга» под номером МЕН-1725. Образовавшаяся от черного лопнувшего пузыря черная дыра в зеркале заднего вида тотчас затягивается. Разорванное пространство восстанавливается.
Асфальт круто огибает массив голых деревьев. Колеса визжат на крутом вираже. Доктор Кустов спешит. Доктору Кустову не терпится поскорее оказаться там, где решается судьба его открытия, доказывается справедливость его гипотезы. Там, в стеклянных пробирках и колбах, в сложных лабораторных и опытных установках, пасутся породистые стада, клонированные сообщества избранных, наследственно однородных потомков, полученных в результате бесполого, непорочного размножения. Доктор Кустов весь в мыслях, расчетах, оценках. Он прикидывает в уме эффект, прибавляет скорость, прибавляет к одной рекордной астрономической сумме другую: к масштабам будущих поголовий – масштабы будущих урожаев высококачественных сортов зерновых, выжимает педаль акселератора, и в выпуклой лужице ртути – в боковом зеркале заднего вида – видит, как стремительно продолжает закручиваться в тугую спираль асфальт и деревья, дома и машины, прохожие и киоски, как все это кружится и закручивается под низким, набрякшим, застывшим небом. И вот уже МИФ-2392 тоже мчится на предельно дозволенной – и уже недозволенной скорости.
А в Москве гололед. Весь дорожный московский транспорт совершает свой путь по неверной орбите последней декады ноября – первой декады декабря, и с утра в этот день зарегистрировано в три раза больше несчастных случаев, чем обычно. У въезда под эстакаду, сразу за трамвайными путями, в поле зрения доктора Кустова попадают покореженные красные «жигули», чуть поодаль – милицейская машина и черная «волга» с разбитым носом. В поле зрения попадают милиционер и водитель «волги». И недвижная кожаная кукла в человеческий рост на обледенелом асфальте – как печальное следствие дорожно-транспортного происшествия. Над распростертой куклой склонились двое – один в спортивной куртке и лыжной шапочке, другой в сером широкополом пальто. Двое пытаются поднять пострадавшего.
Доктор Кустов сбрасывает газ. Доктор Кустов пробует притормозить. Машину «ведет». Машину несет на бетонную стену. Водитель пытается вывернуть руль, дергает рычаг передач, но не успевает. Поздно. Слишком большая скорость. Черная «волга» МНУ-9191 и милицейская МНЕ-5336 приближаются неумолимо. Их не объехать, заняли всю проезжую часть.
Водитель Кустов А. Н. мертвой хваткой вцепляется в руль. Водитель Кустов А. Н. приемлет свою судьбу. Раздается удар и скрежет металла – будто лопаются тросы подвесного моста…
…И вдруг водителя Кустова Антона Николаевича, тысяча девятьсот такого-то года рождения, русского, беспартийного, образование высшее, выносит в тишину, в медлительный полет над землей. А в левом зеркале заднего вида, постепенно удаляясь, опять начинают носиться по кругу – но уже в другую сторону, против часовой стрелки, – покореженные красные «жигули», черная «волга», милицейская МНЕ-5336, горб эстакады, сахарные бруски домов в вышине, милиционер отдельно, водитель отдельно, а к тем двоим, что возились с куклой, за это время присоединился третий: в кожаном пальто.
Пролетев насквозь и мимо всей этой свалки, пережив и перечувствовав при этом, как полагается, всю свою жизнь, Антон Николаевич ведет теперь машину крайне осторожно, жмется к тротуару. Уж очень скользко. Опасная дорога. Антон Николаевич проваливает одну из клавиш, включает радиоприемник. Мерцает зеленый огонек индикатора. Передают прогноз погоды. Не обещают ничего хорошего. К вечеру снова дождь, снег, гололед.
Доктор Кустов выжимает сцепление. Доктор Кустов сбрасывает скорость и тормозит. Машина останавливается. Щелкает замок ремня.
Филиал Института биологических исследований, куда он приехал, размещается в старом особняке, капитально отремонтированном. Греко-римский фасад этого пантеона современной науки сохранен в первозданном виде: фронтон, колонны, лепные трагикомические маски, а внутри все переделано, перепланировано – лепнина отбита, жилые комнаты перегорожены, потолки занижены, кабинеты расширены, однако течет, трескается, обваливается, рассыпается, ветшает, и кажется, снова пора уже затевать ремонт: белить потолки, красить стены, менять драный линолеум в лабораториях, обшивать деревом приемные, циклевать полы в кабинетах, обновлять интерьер.
Доктор Кустов поднимается по ступенькам, расстегивает на ходу пальто. Гардероб не работает. Все гардеробщики исчезли куда-то несколь[38]ко лет назад, и с тех пор их не могут найти. Поэтому гласное правило: strengst verboten хранить верхнюю одежду в рабочих помещениях – негласно отменено. Как явочным порядком, так и с молчаливого согласия администрации.
Доктор Кустов поднимается на свой этаж. Доктор Кустов направляется в свой кабинет, он же лабораторная комната. Доктор Кустов вешает пальто на гвоздик, вбитый в косяк небольшой узкой двери, за которой – заросли коммуникаций.
В комнате пахнет серным эфиром, как в операционной. В комнате пахнет чем-то еще, достаточно ядовитым. Недаром рабочий день сотрудников лаборатории сокращен на два часа. Недаром считается, что они работают во вредных условиях.
Рабочий же день доктора Кустова не сокращен и не нормирован. Считается, что он работает в полезных условиях. Атмосфера та же – условия разные. Таково своеобразие существующей на сей счет инструкции. Такова циркулярная точка зрения на этот вопрос. Атмосфера, которой дышит профессор, считается заведомо лучше той, которой дышит его немногочисленный персонал.
– Нет того-то, Антон Николаевич, – жалуется сотрудница.
– Нет сего, – жалуется другая.
– А вы заказывали?
– Конечно, заказывали.
– Вовремя заявляли?
– Конечно, заявляли.
– Вам обещали?
– Еще в прошлом году…
Но вот всегдашняя радость для глаз. Вот гордость доктора Кустова – уникальная установка, волшебная елка, где все аккуратно нанизано, приварено, припаяно, приклеено друг к другу: ячейки – к переходам, переходы – к сердечникам, сердечники – к наконечникам. Маленький стеклянный дворец. Гигантская хрустальная люстра. Поток стекла и света. Стерильный гарем. Вожделенный итог двадцатилетних усилий.
– Почему не работает установка? – спрашивает доктор Кустов. – Где ученик? – спрашивает он, имея в виду любимого ученика и наследника, опору и надежду – того единственного, кому суждено воплотить и осуществить.
– Ученика нет, – говорят ему. – Ученик отсутствует по уважительной причине. Ученика отправили. Ученику доверили строить подшефный свинарник…
– Qui pro quo[39], – говорит ученый Кустов своим ученым коллегам на издревле понятном всем ученым языке.
– Нет никакой ошибки, – отвечают доктору Кустову его ученые коллеги. – Туда направили всех самых способных. Absque omni exceptione. Bona mente[40].
И тогда доктора Кустова осеняет: вранье! Клонирование и гиперклонирование, планирование и стимулирование – все вранье. Правда заключается в том, что на самом деле это никому не нужно. Правда в том, что он окончательно свихнулся. Что сил хватило лишь на то, чтобы подойти к заветному рубежу. Подойти и сгореть в плотных слоях атмосферы.
Беспомощность и бессмысленность. Несоизмеримость желаемого и выполнимого. Полный разлад между задуманным в рамках разумного и выполнимым в рамках возможного. Нет больше желания рваться вперед, грызть удила, толкать, пробивать, прошибать головой глухую стену. Сердце ослабло. Свет померк. Он сделал что мог, теперь пусть другие, кто помоложе. Он ничего отныне не хочет, а изображать бурную деятельность на пустом месте не может – в этом главная уязвимость его положения.
Вдруг какие-то строчки, слова, созвучия, будто сухие осенние листья, взвихряются в памяти Антона Николаевича. Какие-то стихотворные отзвуки далеких студенческих лет. «Я раздвоен, растроен, расчетверен, распят…» Бежать! «Да, теперь решено, без возврата…» Бежать во что бы то ни стало, под любым предлогом. Бежать – и только… А следом, под другими предлогами, сбегут другие. Сотрудники. Сотрудницы. Им здесь тоже плохо. Им тоже не хочется…
Доктор Кустов на своем рабочем месте. Доктор Кустов за письменным столом. Весь погружен в мыслительную деятельность – листает свежий специальный, строго научный, сугубо научно-технический журнал. Взгляд задерживается на рекламе. На очередном соблазне, мираже – на новейших лабораторных установках, которых никогда не получит его лаборатория, сколько ни бейся.
Бежать! Он еще не придумал повода, не нашел способа, не отыскал пути, хотя место, где он укроется, известно. Тайное логово, которым испокон веков пользуются беглецы.
Доктор Кустов переворачивает глянцевые страницы. Доктор Кустов всматривается в молочную белизну бумаги, в яркие краски и туманные тени, в тона и полутона, в буквы и цифры, в символы и изображения, в рисунки закамуфлированных под специальное биохимическое, биотехническое оборудование гениталий, в эротику дизайна последних научно-технических достижений. Следом за оборудованием рекламируется библиотека – книги для докторов и магистров в серийных суперобложках: Фридрих Ницше. Брентано. Бюхнер. Гёте. Зигмунд Фрейд. Иммерман. Новалис. Овидий. Унамуно. Рабле. Данте. Уайльд. Бирс. Кафка. Гоголь. Достоевский. Салтыков-Щедрин. Платонов. Булгаков… Сюрреалистические ангелочки на голубом фоне. Пышные клубы дыма из кремневых ружей. Плывущие формы. Трупы и шпаги. Знаменитый барон-враль со сворой собак. Олень с растущим на лбу деревом.
Пока не найден решающий повод, убедительный довод, надежный способ и основной путь, доктор Кустов временно эвакуируется в этот мир – в так называемую библиотеку Хойгера. Он вынужденно бежит туда и остается там до тех пор, пока не отказался от должности, от своего лабораторного стула, служебного кресла. Пока не сложил с себя полномочий. Не снял погон.
Временно эвакуировавшись, доктор Кустов размышляет, не заказать ли пока в свое убежище издания Hoiger Bibliothek. Ханс Хойгер, издатель, предлагает записать на отрывном корешке свой адрес и в маленьких желтых квадратиках, наподобие будапештских трамвайных билетов, указать нужное число экземпляров. Книги будут доставлены незамедлительно прямо по этому адресу. Дефо стоит 46, а Клейст дешевле – 29,80 марки. Доктор Кустов записывает в соответствующей графе адрес: «Улица Строителей-Новаторов…» – но тут же зачеркивает. Пишет: «Институт биологических исследований /ИБИ/»… – и тоже зачеркивает. В указании адреса возникает трудность – некое затруднение на пути приобретения некоторых книг этой библиотеки. Пытаясь преодолеть ее, Антон Николаевич достает из кармана фармакопейную упаковку в серебряной фольге, на ощупь выдавливает две таблетки, кладет на язык.
В это время звонит телефон. Антон Николаевич снимает трубку.
– Кустов слушает.
– Антон Николаевич? Здравствуйте.
– Здравствуйте, Грант Мовсесович.
– Хочу видеть вас у себя.
– Хорошо. Я как раз собирался.
– Вот и отлично.
Итак, повод не заставил себя долго ждать.
– Меня срочно вызывают в поликлинику, – говорит Антон Николаевич сотрудникам, снимая с гвоздя пальто. – Возможно, вернусь во второй половине дня.
Хотя прекрасно знает, что на работе его больше не будет.
15
Сестра заглядывает в палату № 3. Больной делает ей призывные знаки, подзывает, двусмысленно подмигивает.
– К вам пришли, – укоряющим тоном, нарочно громко говорит сестра, глядя на больного скорее с жалостью, чем с презрением.
Господи, в чем только жизнь держится? Еще вчера едва языком ворочал, а туда же…
– Заходите, – приглашает она кого-то за дверью.
Больной то ли смущенно, то ли разочарованно покашливает.
Появляется высокий, средних лет, свежевыбритый блондин с редеющими волосами, мелко вьющимися на большой, вытянутой огурцом голове. На нем совсем новый, будто сейчас из магазина, серый костюм в полоску, белая рубашка, галстук.
– Здрас-се, – обращается он вдруг совсем по-простецки, опускается на стул, кладет на колени черный кейс и принимается щелкать запорами.
«Кровь будет брать, что ли?» – размышляет больной.
– Нам нужно поговорить…
– На предмет?
А сам думает про себя: «Еще один Баклажан. Только этот зеленый».
– О, предмет очень обширный, сразу даже и не охватишь, – сладко улыбается посетитель, извлекая из кейса блокнот, фирменную ручку и маленький импортный диктофон.
Снова щелкает запорами, ставит чемоданчик на пол.
– Ну как? – словно бы прощупывает он собеседника.
– Восемь, – не задумываясь отвечает больной.
– Что восемь?
– А что как?
– Ну вообще-то?.. – пытается найти общий язык пришедший.
– Вообще-то нормально, – отвечает больной, а сам думает про себя: «Чего нужно этому стронцо, этому каццо, этой теста ди каццо?»
– Хорошо тут у вас, – мечтательно произносит посетитель. – Все удобства. Обстановка. Клево…
От этого последнего слова больной вздрагивает. «Ке каццо?» – думает. А вслух говорит:
– У вас разве хуже?
Посетитель на мгновение задумывается.
– Меня вот что интересует. Вернее, не что, а кто: Кустов.
– Кустов?
– Да, вы его знаете.
– Какой еще Кустов?
Тут посетитель, чуть сощурив левый глаз, посмотрел на больного так пристально, что у того даже ладони вспотели.
– Антон Николаевич. Не прикидывайтесь.
– Не знаю я никакого Капустова!
– Прекрасно знаете.
– Говорю, не знаю… Я больной, поня́л? Припадочный. Нервный. Иди отседова! Ва фан куло!
При этих словах вздрогнул уже посетитель.
– Иди, иди, – заметив это, повторил больной. – А то сестру позову. Могу поуродовать насмерть, поня́л? И мне ни хрена за это не будет. У меня справка есть. Я психованный. Поня́л?
– Зря горячитесь, зря…
Исполненная доброжелательства и оптимизма улыбка вновь озарила лицо посетителя. Больной же, обессилев, опал на высокой подушке.
– Вы, наверно, не поняли. Я не представился. Извините. Скаковцев Александр Григорьевич, следователь по особым делам.
– Ке каццо?
– Ну по-итальянски я тоже могу, хотя по-русски и сильнее, но… Возможно, я недостаточно ясно выразился. Речь идет о Кустове Антоне Николаевиче. Сорока двух лет. Докторе наук. Заведующем лабораторией. Он бесследно пропал. Его ищут и не могут найти.
– Так и хрен с ним! Может, запил.
– Он не пьет.
– Вы-то почем знаете?
– Знаем, – сдержанно, но с достоинством заметил Александр Григорьевич.
– Ну так загулял с бабой.
– Не могли бы вы в таком случае…
– Не, меня не касается. Кто с кем гуляет – личное дело каждого. Ва фан куло! Поня́л?
– Да, – сказал посетитель, стыдливо опустив глаза. – Я понимаю. Согласен, что личное. Но бывают же обстоятельства…
– Захочет – найдется. Не захочет – не найдется. Как ни ищи. Поня́л?
– А если его похитили? Или даже убили?
– На «жигули», что ли, позарились? У него же самая дешевая модель.
– Вам известно, чем он занимался?
– В своей конторе? Ну химичил там что-то, – глумливо ухмыльнулся больной. – За пять кусков в месяц. Не пыльная, скажу, работенка. Но вообще-то не особливо… Может, конечно, он и шибко волочил, только машину за ним на дом не слали…
– Это не имеет значения.
– Вот еще! Скажет тоже… Не имеет… А санаторий бесплатный раз в году? Тоже не имеет? А загранкомандировки?.. Его ведь только к демократам…
– Антон Николаевич считался крупнейшим специалистом.
– Ага. Крупнейшим. То-то я ему всегда дефицит доставал. Мне он что-то не очень… Да плюньте. Не нужен он никому. Делать нечего, что ли? Вы ведь небось оттуда?..
– Не совсем… Ну в общем-то да. Оттуда… – отвечал Александр Григорьевич, проследив за поднятым вверх костлявым указательным пальцем больного.
Как видно, ему не хотелось затрагивать эту тему. Он съежился, заерзал на стуле, зашевелил, тоже на удивление новыми и блестящими, несмотря на уличную грязь, туфлями на тонкой, чистой подошве из превосходной светлой кожи. Должно быть, имел чин немалый – подкатил на персональной машине к самому подъезду.
– Не пойму, стронцо, кому какое дело? Он что, сам не разберется? На хрен общественность привлекать? Если вас его жена накрутила, то лучше не ввязывайтесь. Не советую. Баба – стерва.
Но нет, как будто не то.
Александр Григорьевич категорически отрицает свое вмешательство в семейные дела доктора Кустова. Александр Григорьевич снова и снова объясняет, что пропавший интересует его с другой точки зрения. Есть основания полагать, что доктором Кустовым могла заинтересоваться вражеская разведка.
Больной сразу соглашается: мол, очень даже может быть. И припоминает такую подробность: Кустов опять собирался вскорости за границу. Насколько помнится, в город Будапешт. Так что его запросто могли охмурить через какую-нибудь бабу, похитить, а потом к нам же и забросить шпионом. Они, мол, специально отыскивают таких, как Кустов, – морально неустойчивых. Недавно по телевизору говорили. И ведь находятся гады, согласные сотрудничать. Пяти кусков в месяц им мало. Тут за какие-то сто пятьдесят рэ с утра и до вечера не разгибаешься, а они там химичат себе потихоньку за пятьсот – и все им, гадам, надо чего-то еще…
Александр Григорьевич возражает. Александр Григорьевич придерживается совсем другой версии. Нельзя упускать из виду, говорит Александр Григорьевич, что некоторые работы научно-производственного объединения «Клон», связанные с изучением и изменением основ, первооснов, так сказать, бытия… Тут посетитель начинает нести такую ахинею про какие-то нарушения, засорения и закупорки, про какую-то всемирную угрозу и опасность – такую, короче, хреновину с морковиной, что у кого хошь уши завянут. И говорится, вся эта скучнейшая морковина только затем, чтобы узнать, где, когда и при каких обстоятельствах видел в последний раз больной Антона, стало быть, Николаича Кустова.
– Усек, – говорит больной. – Все понял. Хотите его ущучить.
– Напротив.
– Тогда ужучить.
– Да нет же!
– Значит, унасекомить.
– Пока только разыскать. Разыскать – и ничего больше…
Тут дверь в палату распахивается. На пороге – сам Баклажан. Поперек себя шире.
– Вспомнил, – говорит больной. – В клубе я его в последний раз видел. Или нет… постойте… может, на даче? Во, точно… Вот где: в гостях…
– Уважаемый, – врывается в их задушевный разговор Баклажан. – Извините. Я и так пошел на известное нарушение, учитывая важность… Не надо злоупотреблять. Он еще очень слаб. Только что перенес серьезную простуду.
И как бы в подтверждение этих его слов, больной закатывает глаза. Больной бессильно поникает на ложе, чуть слышно постанывает.
– Еще только один вопрос. Последний…
Больной опасливо косит вдруг снова оживший глаз в сторону Баклажана. Едва заметно пожимает плечами, давая гостю понять, что от него тут ничего не зависит. Будет так, как скажет профессор.
– Никаких вопросов! – решительно пресекает профессор.
Посетитель несколько обижен. Посетитель несколько обескуражен и уязвлен.
– Ну тогда я зайду в другой раз.
– Вы бы там это… – голосом умирающего просит больной. – Какой-нибудь детектив. Почитать…
16
Как долго длился этот вечер, день, утро? Когда успело все так безнадежно запутаться? Который теперь час – кто знает?
Не только время, но и пространство, чудесным образом раздвинув свои границы, заставило на сей раз Платона Николаевича Усова существовать в каком-то совсем уж непонятном ему измерении. Ну и ладно, подумал писатель. Нечего всякий раз подставлять шею под ненавистное ярмо логики, времени и пространства, этого триумвирата тиранов, постоянно терзающих наш дух. Разве свобода не есть осознанная необходимость? Не случайно ведь эту мысль заимствовали некоторые мудрые испанцы, рассудительные французы и проницательные немцы у своих великих земляков и предшественников, а те, в свою очередь, – у древних латинцев и греков. Они только упустили из виду, что свобода есть необходимость отказаться от набившей оскомину логики. Кхе! Поэтому долой логику! Долой любые спасательные, спасительные для развития будущего сюжета реанимационные средства, кроме… Кроме одного – комедийного. Ведь чувство смешного как раз и кроется в отказе от логики. Кхе! «Жалок тот, кто не в состоянии хотя бы однажды восстать против ее тирании». Прекрасно сказано! Кто же это сказал? Комедиограф Аристофан? Трагик Эсхил? Кхе! Кхе! Кхе!..
Писатель Усов полагает, что подобные рассуждения неплохо было бы изложить в прологе будущего повествования. А скучную логику, считает он, можно оставить для эпилога. Или еще лучше – отдать ее в безвозмездное пользование доктору Кустову. Пускай себе…
Писатель Усов хлопает дверцей такси. Писатель Усов направляется к массивной входной двери клуба. Писатель Усов говорит сиплым, простуженным, но полным энтузиазма голосом своей спутнице, облаченной в дымчатую шубку из натуральных кошек:
– Вот и приехали, Ирочка. Кхе! Раньше здесь не приходилось бывать?
Кое-кто из прохожих обращает внимание на странную пару: молодую женщину с коротковатыми ногами, тяжеловатой фигурой, некрасивым лицом и пожилого мужчину с полубезумным взглядом, самозабвенно ведущего под руку по слякотному тротуару эту свою Дульсинею. Топорщатся седые усики, круглые очки посверкивают. Расстегнутое широкополое пальто с болтающимся шарфом и шикарная широкополая шляпа придают ему сходство с террористом времен второй или даже, может, первой мировой войны.
Шубка почтальонши слетает на услужливые руки швейцара-гардеробщика. Платон Усов – уже без пальто, в бархатистом велюровом артистическом пиджаке – фертом крутится перед зеркалом, в котором отражаются ступеньки лестницы, кусок мраморного пола, две-три мелкие фигуры в глубине. Он тщательно причесывается, выдувает из расчески лишнее, прячет ее в карман.
Был ли то час обеда? Ужина? Трудно понять. Огни горят, ажиотаж у кассы. Сутки раздвинуты. День странен. Время остановилось. Словно, сорвавшись перед тем с шестерни зацепления, оно проскочило ненароком лунный, солнечный, календарный, световой год, а теперь махину заклинило, и стрелки не сдвинутся до тех пор, пока часы не починят.
Писатель Усов ожидает, когда дама приведет себя в порядок. Писатель Усов оглядывает ее сзади, заходит сбоку, рассматривает профиль, мысленно изменяет фигуру, удлиняет ноги, поднимает талию, выправляет осанку, сутулит, выпрямляет, меняет прическу, цвет волос, раздевает донага, одевает снова, но уже по-другому: меняет платья – одно, другое, третье – и наконец оставляет все как есть или было когда-то у той девушки с почты, из парфюмерной секции ГУМа, у той медицинской сестры из больницы, у той женщины, некогда случайно встреченной, промелькнувшей в толпе или на киноэкране.
А навстречу знакомые, полузнакомые лица.
«Пожалуй, ноги все-таки пусть будут длинные, – размышляет писатель. – А во внешности – что-то от гадкого утенка. Кхе! Подружка Тоника. Пассия Антона. Лебединая песня Платона Усова».
Когда они выходили из такси, на улице было относительно светло. Значит, время обеденное, не иначе. Девушке нужно еще вернуться на работу. Стоит ли? Или сильно сократить эпизод, приблизив его к вечеру? Да, кстати: не забыть взять билеты в кино.
– Подожди меня, детка. Я сейчас. Кхе!..
Писатель Усов пружинящей походкой направляется к кассе. Писатель Усов протискивается без очереди – как член и участник. Залезает в окошечко с головой.
– Серафима Михайловна, два билета… Середину. Поближе. Кхе!.. Что за фильм? Хороший? Кхе!.. С Челентано?..
– С Челентано, – отвечают ему, или сам он себе отвечает. И продолжает думать, придумывать, устремляясь навстречу ожидающей девушке, уже приведшей себя в порядок. «Пусть у нее на щеке еще будет родинка – как у той больничной сестры. От нее, как от Евы, произойдут остальные. И именно к ней те трое приволокут безжизненное тело по слякотной вечерней Москве».
Очень жаль, что писателю Усову ничего не известно о внешности настоящей Евы, праматери Евы, той самой Евы, с которой, собственно, все и началось. Ему известно, к сожалению, не больше, чем остальным. Ничего достоверного, во всяком случае. Puttana Eva![41]
Они садятся за свободный столик в углу – писатель Платон Усов и почтальонша-продавщица-музыкантша-медсестра-манекенщица. Платон рассеянно оглядывает зал. Скорее по привычке, нежели по надобности. Подходит официантка, приносит меню.
– Как бы, Машенька, пообедать? Кхе!
Горят лампы. Светятся витражи. Фальшивые витражи подвала, своей яркостью, однако, напоминающие настоящие – колкую мозаику цветного стекла, чудом сохранившегося в одном из узких сводчатых окон сильно пострадавшего от взрыва католического собора почти на самом берегу Дуная. Он, тогда солдат, стоял посреди разрушенной церкви – на ее обломках, стоял в картинной позе с автоматом на груди, позировал для любительской фотографии и не мог оторвать взгляда от этих красочных пятнышек, вовлеченных в колдовской хоровод, соединенных в какое-то непонятное, неразличимое снизу изображение, точно жаркие угли пульсирующие в раскаленной печи, что пылала снаружи, хотя день был пасмурный, пожалуй, даже моросил дождь – нет, просто пасмурный день, на сапогах белел толстый налет пыли. Теперь ему кажется, он даже уверен, что это было изображение мадонны.
Будапешт пропах дымом, порохом, отсыревшей известкой, маленьким миром и большой враждой. Десантников снабжали лучше, чем другие рода войск, и, может, больше не было уже у него таких радостных, безмятежно огромных дней, как те, что он провел рядом с юной мадьяркой. Точно в сладостном сне бродили вдоль узких закопченных улиц, взбирались по лестницам на какие-то галереи, открывали какую-то застекленную дверь и вдруг оказывались в сумеречной прихожей, где стояли зонты, трости, висели шляпы и сусальное изображение богоматери на стене. Да, богоматери. Только подумать. Порка мадонна!.. Стараясь не привлечь внимания соседей, они тихо пробирались по коридору в ее комнату. Он извлекал из вещмешка хлеб, сахар, шоколад, консервы и, опустив жалюзи, чтобы их не видели из окон дома напротив, они закатывали пир. Ее дом, ее комната, ее тело пахли той загадочной страной, куда забросила его судьба и война, и непостижимое счастье, которое ему вдруг выпало, было залогом того, что он уцелел в этой человеческой мясорубке и теперь останется жить навсегда. Большая полутемная комната, где она жила, – комната с широкой и почему-то очень короткой кроватью, покрытой атласным голубым покрывалом, тюлевыми занавесками на окнах, маленькой полкой с книгами, высоким потолком, двойными белыми дверями с медными извилистыми ручками, обеденным столом и двумя венскими стульями с потемневшим от времени деревом гнутых спинок, – стала их надежным приютом. Сколько же все это длилось? День? Месяц? Всю жизнь? Он вполголоса читал ей стихи, которых она не понимала или, может, понимала как музыку, потом они предавались любви, и она шептала ему нежные слова, которых не понимал он. Потом они вновь садились за стол, и снова любили друг друга – голодные, ненасытные, молодые, полные жажды жизни и томительного предчувствия неизбежной разлуки.
Стоя посреди разрушенного собора на его обломках, он тщетно пытался разглядеть тот случайно сохранившийся витраж. Ослепительно пылали краски, хотя небо сплошь обложили низкие облака и моросил дождь. Нет, просто серый пасмурный день: сапоги были покрыты белым налетом пыли…
Писатель Усов переводит взгляд с фальшивых витражей на меню. Писатель Усов читает, в который раз перечитывает меню, пытается сосредоточиться. Щеточка усов подрагивает. В горестно опущенных уголках губ скопился белый налет. Он что-то говорит, произносит какие-то слова, но сам не слышит, не воспринимает их смысла.
– Ирэн, что вы будете есть? Что будете пить, Ирэн?..
Черный велюровый пиджак, ужимки ловеласа – откуда это? Но раз это не он, то кто же забрался тогда в его оболочку? Кто он, этот другой?
– Машенька, как обычно. Сама там что-нибудь… – и крутит пальцами в воздухе, будто ввинчивает новую лампочку на место перегоревшей.
Ирэн вежливо улыбается. Ирэн, переводчица, стряхивает пепел с сигареты.
– Я обязательно хочу перевести вашу последнюю книгу, Платон. Этот ваш маленький эссей о Будапеште – о, это великолепно!.. Вы так мало были – и так верно увидели… Я думаю… Хочу думать… Так правильно?.. Ага! Хочу думать, что… Ах, с выбором издательства не будет проблем… Хотя, вы знаете… Издательства предпочитают романы… и…
Круглый, выпуклый лоб Ирэн напряжен. Она облизывает губы кончиком языка, с трудом подбирает слова.
– … и рассказы… да… но гораздо реже…
Между указательным и средним пальцами дымит сигарета.
– Рассказы не так интересно… Их меньше читают… Будет лучше издать ваш роман… Можно предложить издательству «Европа»… Оно издает много книг ваших писателей…
– Кхе!
– О чем ваш новый роман?..
– Кхе!.. Тут трудно сказать коротко… Кхе!.. Это история тройника…
– Что такое… «тройника»?..
– Двойник, – говорит Платон, – два, – показывает он на пальцах, – это понятно? Кхе!..
– О, да… Достоевский?..
– Кхе!.. А тут их трое…
– Понимаю… Очень интересно… Что-то новое… Обязательно пришлите… Как только выйдет… Но почему ТРОЙ-НИК?..
Платон Усов задумывается. Платон Усов вертит за ножку пустой бокал, водит по застиранному желтому пятну на белой когда-то скатерти.
– Платон!
Усов не слышит.
– Платон!..
Писатель Усов реагирует не сразу, не сразу отрывает остановившийся взгляд от ножки бокала, поднимает глаза. Он щурится, будто от яркого света, ударившего вдруг в лицо. Пытается вспомнить, сообразить, где он находится, почему и зачем. Молодой человек в темных очках стоит возле столика, криво усмехаясь.








