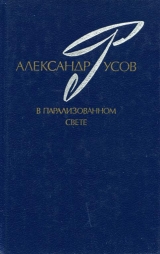
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 45 страниц)
– Мне кажется, Лидия Александровна, в последнее время он как-то ослабил… Занимается меньше… Совсем мало внимания уделяет…
И чем больше хвалебных эпитетов произносила учительница, тем чаще посасывал еще на прошлой неделе, возможно, погасшую трубку писатель Псевдоэренбург. Тут и ужу было ясно, что лишь ради удовольствия слышать подобные эпитеты и определения был затеян весь разговор.
Матери будущего крупного экономиста и политического деятеля Херувима, как и его таинственного отца, ты не видел ни разу. Он как бы тщательно скрывал их, никогда не приглашал приятелей к себе, в дом Арже. Была у него старшая сестра, кончавшая, кажется, еще во времена раздельного обучения женскую школу, а отец с ними вроде бы тоже не жил…
Вот кого ты забыл: Вечного Жида Сеню.
Ну что ты! Прекрасно помню. Постоянные стычки с Беллой Лазаревной.
…Узкое, решительное, заостренное, в разлете выщипанных бровей лицо преподавательницы английского языка, вашей классной руководительницы Беллы Лазаревны блестит от крема. Белла Лазаревна – красивая, почти такая же высокая и такая же и н т е л л и г е н т н а я, как мать Тункана, женщина – неумолимо следит за кожей своего лица. Уперев холеную руку с тщательно наманикюренными ногтями в правый бок, она строго оглядывает класс, расслабив ноги и чуть расставив их.
– Белла Лазаревна, можно спросить?
– Никаких вопросов!
– Белла Лазаревна…
– А будешь себя так вести, я тебя с урока вон погоню!
Вечный Жид Сеня шмыгает носом. Вечный Жид Сеня покачивается из стороны в сторону. В ваш класс его перевели недавно, а до того он побывал во многих школах, классах, учительских, дирекциях – во многих школьно-педагогических коллективах, я имею в виду, – но нигде не ужился, отовсюду был изгнан, выжит, переведен. Этот Вечный Скиталец, этот всеми обижаемый и всех обидевший Сеня с постоянным недоуменно-удивленным выражением на лице никому спокойно жить не давал.
И что тебя потянуло тогда к коротышке Сене, к этому грязнуле и троечнику, придурочному идиотику, воришке и лгуну?
– Белла Лазаревна, честное слово… Я учил, Белла Лазаревна… Честное слово…
И все в таком вот прошлом несовершенном времени. Учил – это ведь еще не выучил. Тут обязательно нужен Past Perfect или Present Perfect, а Сеня – со своим примитивным Past Indefinite, со своим Прошедшим, во всех отношениях Неопределенным, но ведь даже и при том врет беспардонно. Переминается в стоптанных своих, ободранных башмаках с ноги на ногу, красные слюнявые губы жалостливо вытянулись, лоб – в мелкую гармошку, голова-одуванчик мотается из стороны в сторону – вроде тебя, когда, почти год просидев в больничной кровати с обожженной ногой в постоянном ожидании близких, ты вот так же раскачивался из стороны в сторону – не исключено, что как раз это вас и сблизило.
– Честное слово, Белла Лазаревна… Я учил…
– Садись. Два.
– Белла Лазаревна, честное слово…
Так он ныл, качался, канючил до победного, то есть до полного своего поражения, и только когда учительница брала ручку, чтобы влепить Вечному Жиду заслуженную пару, он начинал хамить. Мог, например, вырвать у нее классный журнал. Вернуться на место, хлопнуть крышкой парты, с шумом достать свой затертый, истерзанный портфель и со злым ворчанием уйти с урока. В течение считанных секунд этот жалкий, заискивающий, скулящий шкет, этот всегдашний Карандаш на школьном манеже превращался в агрессивного, пылающего лютой ненавистью зверька. Но подобные инциденты, сдается мне, имели место уже перед самым переводом Сени в другой класс, то есть после того случая, когда Мама дала тебе два билета в Большой театр, а ты пригласил Сеню. Название спектакля ты, конечно, уже не помнишь, не припомнишь даже, была ли то опера или балет, – но что запечатлелось в памяти совершенно отчетливо, так это то, как в перерыве вы отправились в буфет, чтобы пошиковать на данные тебе Бабушкой два или три рубля – двадцать или тридцать копеек по-нынешнему – и там Сеня прямо на твоих глазах и как бы даже с твоего молчаливого согласия спер стакан. На кой черт он ему понадобился и что за необъяснимый азарт овладел тогда тобою? Это было сильное, пьянящее чувство опасности, риска, соединенное с отвратительным ощущением страха и стыда. Охватившее тебя волнение можно сравнить разве лишь с тем, какое ты испытал, когда рассматривал картинки в «Истории нравов» Фукса или когда впервые приблизился к Голубой Ведьме. Словом, воровать тебе, видимо, понравилось, раз ты не сказал Сене, пока он еще не успел засунуть хранящую следы томатного сока емкость в свой объемистый, может, специально для того приспособленный карман:
– Не трожь общественную собственность, Сеня.
Ты как бы даже прикрывал спиной это незаконное и притом, заметь, без всякой для себя пользы – что особенно порочно – действие…
После окончания школы Сеня Вечный Скиталец поступил в кино-какой-то там институт. Чем уж он теперь занимается, что ворует, трудно сказать, но вполне возможно, что за истекший, как говорится, тридцатилетний период он превратился во французского киноактера Пьера Ришара – того, что играл Невезучего Блондина В Черном Ботинке. Ты, между прочим, сразу его узнал, когда впервые увидел на экране, и удивился, как он вырос – не столько, может, профессионально – тут ты судить не берешься, – сколько физически, хотя, насколько известно, мужчина способен расти в этом смысле чуть ли не до двадцати пяти лет…
Петр Николаевич останавливается возле твоей парты, склоняется над твоим черновиком контрольной работы, кашляет, качает головой и следует по проходу дальше. Сейчас тебе хочется верить, что это тактичное покашливание не было связано ни с каким легочным заболеванием, и просто так совпало, что после ухода на пенсию Петр Николаевич, по примеру Антона Павловича Чехова, купил себе домик в Крыму, бросил Москву и, по слухам, навсегда поселился на берегу Черного моря. Ты же так и остался с нерешенной задачкой, подобно тому как Тункан Загнивающий – со своим красным паяльником, хотя, насколько помнится, даже текущих троек в девятом классе ты уже не получал.
Не оказав тебе, следовательно, никакой педагогической помощи, ваш учитель математики Петр Николаевич только как-то неопределенно кашлянул, выпрямился, сделал два мелких шажка по проходу и снова остановился – на этот раз подле Индиры. Глаза его при том чуть замаслились, и лукавые искорки запрыгали в них. Он о чем-то спросил ее своим блеющим старческим голосом, и ты мог побиться об заклад, что ему очень хотелось в эту минуту погладить ее по головке, по этим густым, шелковистым, чуть вьющимся волосам. Именно поэтому, наверно, он быстро заложил руки за спину и накрепко сцепил их.
Индира прекрасно успевала по математике, быстро соображала, и когда, доказывая какую-нибудь теорему, писала на доске своим узким, ровным, с умеренным наклоном почерком, коричневый линолеум постепенно превращался в тщательно выполненное ажурное кружево, композиционно уравновешенное во всех частях. Она не позволяла себе ни единой небрежности, а если нужно было что-то поправить, аккуратно вытирала то место сначала тряпкой, потом своим тонким пальчиком, так что от ошибки не оставалось следа, и столь же аккуратно вписывала недостающую правильную цифру или букву – в результате чего тщательно заштопанная формула выглядела как новая.
– Ну что, голова все болит? – по-прежнему дребезжащим голосом, в продолжение неких отдельных с Индирой отношений, спросил учитель, залезая в нагрудный карман за таблеткой. – Примите-ка вот…
Индира подняла на него свои водянистые глаза, чуть поправила наклон двойного листа в клеточку с уже завершенной контрольной работой.
Петр Николаевич улыбался. Его порозовевшие щеки превратились в сморщенные печеные яблочки.
Чему улыбался Петр Николаевич? Тому, что Индира легко, просто и необыкновенно изящно решила вторую задачу второго варианта, над которой ты по-прежнему безуспешно бился, не умея извлечь корень квадратный из тысячи восьмисот? Во всяком случае, ее оригинальное решение настолько покорило Петра Николаевича, что он, не говоря более ни слова, достал из того же нагрудного кармана, где хранились таблетки от головной боли, короткий красный карандаш и собственноручно удостоверил жирной пятеркой свое неподдельное восхищение.
Индира, отпущенная с контрольной задолго до звонка Петром Николаевичем, задумчиво глядящим ей вслед и поглаживающим большим и указательным пальцами колючие ворошиловские усики, отправилась в комнату для девочек запить таблетку от головной боли, а ты, сидя за партой, как на раскаленных углях, все не мог отыскать ошибку в решении задачи, и только благорасположение старого учителя, сочувствующего твоим похвальным намерениям неустанно повышать успеваемость, спасло тебя впоследствии от позорной тройки. Ты был облагодетельствован четверкой с минусом, что свидетельствовало скорее о признании тебя неспособным к математике и потому достойным снисхождения.
И по химии, и по физике, и по литературе, не говоря уже о географии, из-за которой остался на второй год Мальчик С Тройной Фамилией, Индира успевала лучше тебя.
Что касается химии…
Погоди, это потом. Сейчас у нас урок Алексан Алексаныча.
Прямо сейчас?
Ну да, конечно. Вот…
Дверь в класс распахивается. Он влетает. Лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен.
– Достаньте листочки!
Все затаились. Тишина мертвая.
– Я сказал: ДОСТАНЬТЕ ЛИСТОЧКИ!
Слышатся шорохи, шепот, роптанье. Ученики 9-го «А» класса обреченно вырывают из своих тетрадей по физике двойные листки.
Алексан Алексаныч Стальная Глотка ждет, уперся нервными пальцами выброшенной вперед левой руки в маленький, тщедушный учительский стол. Прямые темные волосы на голове рассыпались посредине. Он резким движением смахивает их со лба. Глаза блестят. Под обтягивающим угловатый череп кожаным чулком гуляют желваки по кругу.
– Пишите… Контрольная. Работа. По физике.
Каждое слово чеканно, рокочет, катится по гулкому полу рассыпанными стальными шариками разломанного подшипника. Класс начинает придушенно стенать:
– Алексан Алексаныч, вы не предупреждали…
– Мы не готовы.
– Алексан Алексаныч…
Стальная Глотка буравит взглядом класс. Голоса замолкают.
– Я сказал! Контр-р-рольная работа по физике!
Всё. Класс побежден, подавлен, поголовно капитулировал. Сплошные белые флаги. На всех партах. Изо всех окон.
– Написали?
Лишь робкое эхо в ответ:
– Написали…
Класс ждет. Выжидает и Стальная Глотка. Глаза в глаза – молчаливая дуэль.
И что-то вдруг начинает оттаивать в лице учителя, что-то смягчается во взгляде этого изверга рода человеческого. Расслабляются плотно сомкнутые губы. Отвисает картофелина тяжелого подбородка. Криво расползается улыбка по кожаному чулку.
Класс тоже потихоньку начинает отходить. Смешочки. Разговорчики. Поворачивание голов.
Но тотчас улыбку сдувает с учительского лица. И все замирает вновь. Как перед бурей.
– Уберите листочки. Контрольной работы не будет. Новая тема: ГРРРА-ФИ-КИ!
Алексан Алексаныч Стальная Глотка бросается к доске, хватает новую палочку мела, с силой проводит сверху вниз. И так же резко, стремительно – по горизонтали. Мел хрустит. Мел ломается. В руках учителя остается крошечный осколок, а под ногами – осыпавшаяся штукатурка, щебенка, известняк, раздавленные куски CaCO3, как после артобстрела.
Согласись, после такой встряски не больно пошкодишь, поболтаешь с соседом, популяешься мокрыми шариками из жеваной промокашки.
Это уж точно.
К тому же он объяснял урок так захватывающе, что многие только рты раскрывали и до самого конца урока сидели с открытыми ртами, будто трехнутые.
– А теперь, – говорил Стальная Глотка, потирая испачканной мелом ладонью шершавый подбородок, вскидывая бровь, ухмыляясь и испытующе оглядывая класс, – теперь я объясню вам то, что в течение года проходят на втором курсе института. Это займет у нас пять минут.
Те, кто уже носил часы – например, Аймальдинов, – обязательно при этих его словах отворачивали манжет школьной гимнастерки, отодвигали обшлаг кителя, засекали время, но Стальную Глотку подловить на такой дешевке было нельзя. Он управлялся, естественно, минуты за три.
– Кто знает, что такое электрический ток?
Кто из нас мог это знать тогда, Телелюев? Кто знает теперь? Все же раздавались голоса с мест:
– Электроны…
Или:
– Напряжение, деленное на сопротивление…
Стальная Глотка слушал. Стальная Глотка коварно кривил рот…
Когда же фантазия класса иссякла – фантазия лучших его представителей, хочу я, конечно, сказать, – Алексан Алексаныч бросился к электрической розетке, соединенной с реостатом, вставил туда два растопыренных пальца, а другой рукой принялся передвигать движок, увеличивая напряжение в клеммах. Тут не было никакого надувательства, ибо эрекцию стрелки вольтметра класс наблюдал, затаив дыхание и морщась от боли, будто это через него пропускали электрический ток. Не в силах больше терпеть, Стальная Глотка отдернул пальцы, потряс ими в воздухе и недовольно мотнул головой:
– Бывало, больше выдерживал!
Стрелка вольтметра опала. Класс облегченно вздохнул. Но не тут-то было.
– Телелюев, к доске!
И ты шел к доске решать какую-то задачу. Ты решал или не решал ее, в зависимости от того, какая она была. Это я в том смысле, приятель, что уж если ты усваивал какой материал на уроках Алексан Алексаныча, то усваивал его на всю жизнь, а ежели нет… то тоже на всю.
– Шляпка с ручкой, Телелюев. Садитесь. Два.
Ты затравленно и виновато пожимал плечами. Или это Мальчик С Тройной Фамилией пожимал плечами? Или кто-то еще? Уже и не вспомнишь. Вряд ли Стальная Глотка ставил тебе пары в девятом, а вот Мальчик С Тройной Фамилией хватал тогда пары не только по географии, и теперь остается лишь голову ломать, как умудрился он стать ученым.
Но дело, в общем-то, совсем не в этом, друг, а в том, что Алексан Алексаныч был таким учителем, каких еще поискать. Первым из учителей с самого седьмого класса он стал называть каждого из вас на «вы» – даже двоечника Аймальдинова – и только к концу десятого с некоторыми, наиболее любимыми учениками, перешел на «ты», и то лишь при внеклассном, приватном, так сказать, общении. Уважая каждого из вас, или, вернее, в каждом из вас уважая личность, Стальная Глотка мог в то же время пообещать кое-кому из раздухарившихся на уроке, что духарик вылетит сейчас из класса «быстрее собственного визга» – стало быть, со скоростью, превышающей 300 м/сек. Но ведь и это можно истолковать лишь как большее уважение к достойному уважения классу, нежели к отдельно взятой недостойной личности.
Да, многие из вас не знали, что такое электричество, но лишь некоторые честно в том признавались. Скажем, Мальчик С Тройной Фамилией получал за свое откровенное незнание или сомнение в очевидной для всех истине заслуженные двойки, а отличница Индира, которую при всей своей любви к ней ты, конечно, не можешь не осудить за то, что она никому не помогала в классе, не давала даже списывать своей соседке – что такие, как Индира, потихоньку, как курица яйца, отмалчиваясь, где надо, высиживали желанные свои пятерки.
Так вот, несмотря на всю вашу необразованность в области электрофизики, а также электротехники, Алексан Алексаныч в вас, дураков, засранцев и телелюев, верил. Он вас, в общем-то, уважал и любил. Не случайно поэтому, заканчивая один из своих уроков и уже взяв со стола классный журнал, чтобы нести его в учительскую, он напоследок спросил между прочим, обращаясь, как обычно в таких случаях, сразу ко всем:
– Знаете, как устроена атомная бомба?
Ну тут уж все, конечно, разинули пасти. Время ведь было совсем не то, что теперь, когда любой сопляк сечет такие вопросы элементарно, и, в общем-то, давно уже никого такие глупости не интересуют. А тогда это было все равно что на людях, к примеру, спросить главнокомандующего всеми вооруженными силами страны:
– А знаете ли вы, собственно, где расположены наши основные ядерные стратегические силы? Будьте добры, покажите, пожалуйста, эти районы на карте.
И то бы, наверно, это произвело на нынешнюю публику не столь оглушительное впечатление. То есть шок от вопроса, заданного Алексан Алексанычем, был страшный. Только самые крепкие, а таких оказались единицы, проблеяли со своих мест робкое:
– Не-е-ет…
В это время раздался звонок на перемену. Никто не шелохнулся. Алексан Алексаныч стоял, мерно похлопывая журналом классной успеваемости по ладони. Кривая улыбка ползла по его лицу, а звонок все звенел, картофелина учительского подбородка все более отвисала и уже готова была совсем отвалиться, но тут Алексан Алексаныч вернул ее на место, щелкнув зубами и рявкнув на весь класс:
– Я тоже не знаю!
При этом швырнул журнал на стол и вылетел пулей вон.
Кстати, почему его звали Стальной Глоткой?
Разве не помнишь? Он ведь рассказывал. У него был отец – Герой Советского Союза. И жил он, сам понимаешь, – вот так! Потом отец умер, наверно, погиб на фронте… А глотка…
Да, глотка.
Ему ведь операцию делали: заменили обычное горло стальным.
Самое замечательное в этой истории то, что, учась в девятом классе, ты принимал эти рассказы за чистую монету. Стальное горло, я имею в виду. Как только тебе удовлетворительные оценки по анатомии ставили? Это же элементарно, приятель. Сталь – и живая ткань…
А потом, когда Стальная Глотка умер, говорили, что у него был рак. Кажется, рак гортани.
Кто был еще вашим любимцем?
Учитель истории Гиббон.
Однофамилец знаменитого автора «Истории упадка и разрушения Римской империи»?
Мы такого не проходили. Кто это?
Ну как же, известный английский историк…
Нет, его портретов в нашей 135-й школе вывешено не было. Гиббона, следовательно, так звали не потому. И не то чтобы он ростом не вышел наподобие малых человекообразных обезьян отряда приматов…
Но все же что-то обезьянье, согласись, в нем было.
Лицо этого высокого, плотного, несколько рыхловатого, хотя и подвижного, мужчины средних лет с объемистыми ляжками, обтянутыми лоснящимися, никогда не глаженными брюками, действительно походило на обезьянье. Но только скорее уж гориллы, нежели гиббона. Сходство усиливалось, когда он смеялся – раздвигал толстые губы своего огромного, от уха до уха, рта, оскаливал желтые, редко посаженные зубы и застывал с такой вот гримасой. Ни дать ни взять смеющаяся обезьяна на фотографии. И если он, к примеру, смеялся над кем-нибудь в классе, то класс, сам понимаешь, дружно смеялся над тем, как он смеялся.
Нельзя сказать, что ты блистал на уроках истории. Блистал, не блистал, а свои четвертные и годовые пятерки имел.
Ну цена им известная… Однако когда в вашу и без того раздутую, перенасыщенную всякой ерундой школьную программу ввели такой странный предмет, как психология, то поручили именно Гиббону…
Он взялся за это сам.
Кажется, тогда еще и учебников не было.
Что ты! Какие учебники?
Словом, что-то в ваших с ним отношениях явно переменилось, когда на уроках психологии Гиббон как мог развлекал вас, а вы как умели – его.
Ты имеешь в виду наши личные отношения?
Я имею в виду отношение умного, дальновидного учителя к проявившему себя с необычной стороны ученику.
У нас были нормальные отношения.
Все-таки только на уроке психологии он смог по-настоящему оценить тебя.
Как-то он дал нам самостоятельное задание. Дважды прочитав вслух одно и то же стихотворение о любви с разными интонациями, как бы сыграв роли двух не похожих друг на друга людей, он велел написать их психологические портреты. Одного изобразил пошляком, а другого – сладкоголосым, сентиментальным телелюем, вроде какого-нибудь блаженного кретина, выступающего в самодеятельности.
Положим, в ту пору ты еще не знал генезиса своей фамилии, но дело не в этом. Хорошо, что вспомнил ту историю. В ней вот что интересно. И характерно, возможно. Ты докумекал до того, что первый тип, которого изобразил ваш учитель истории, он же – психологии, и второй, как бы ему противостоящий, – совсем не разные люди, а разные лики одного и того же человека – Гиббона Анатолия Николаевича: вот, вспомнил наконец его имя-отчество…
Кстати, что за стихотворение читал вам Гиббон?
«В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать…»
И как же вы оценили первого чтеца?
Большинство ребят написало, с небольшими по общему смыслу вариациями, что первый, мол, чтец – человек отрицательный.
Почему?
Играющий пошляка учитель сопроводил чтение таким двусмысленно-волнообразным движением рук, что класс буквально захлебнулся от хохота.
А ты, должно быть, покраснел до ушей, представив, что это не Анатолий Николаевич, а сам ты мысленно оглаживаешь крутые бедра Голубой Ведьмы?
Второй, по мнению абсолютного большинства, был человеком положительным.
Наверно, в том смысле, что вполне отвечал ханжески-лицемерному стандарту тех лет? Ведь с образом «положительного героя» связывалось обычно нечто абстрактное, расплывчатое, а порой и просто фальшивое. Некоторые построили свои сочинения на оценке их профессионального мастерства: один «умеет» читать стихи – другой не умеет.
Ну а тут, очевидно, дало себя знать полное отсутствие эстетического воспитания. У меня-то его тоже не было.
И все-таки, не мудрствуя лукаво, ты написал, что оба чтеца – дерьмо, потому что первый превращает поэзию в сортир, а второй строит из себя святошу: мол, и в уборную-то он не ходит, а только – под сень струй. Главным твоим тезисом, насколько помнится, было то, что в отдельное существование двух этих людей ты не поверил ни на минуту. Тот и другой были не чем иным, как самим Анатолием Николаевичем Гиббоном, продемонстрировавшим классу два своих потайных «я», которым в повседневной жизни он, возможно, и не давал ходу, но о существовании которых, как это следует из сегодняшнего урока, наверняка знал.
Разумеется, слова «дерьмо» и «сортир» ты заменил более для школьного сочинения подходящими, однако суть от этого не менялась, и поначалу, сдается мне, Анатолий Николаевич просто обалдел или, другими словами, растерялся. Твой довольно рискованный для девятиклассника вывод застал его, конечно, врасплох. Пожалуй, он даже уже жалел, что обратился к ученикам 9-го «А» класса с призывом быть предельно искренними в своих психоаналитических выводах. Легко можно себе представить его оскаленный желтозубый рот, который он так и не закрыл, пока не прочитал до конца твою самостоятельную работу. Но столь же мужественно, как и честно, он не только поставил тебе заслуженную пятерку как стихийному продолжателю научных исканий знаменитого австрийского психолога, не ведомого, естественно, никому из вас, хотя его исследования и потрясли мир еще во времена ваших прародителей, но и не побоялся прочитать твое сочинение вслух всему классу как образцовое.
Пожалуй, именно после этого урока – если только ты чего-то не путаешь и не перескакиваешь опять до срока в десятый класс – Анатолий Николаевич как бы перестал скрывать одно из своих потайных «я». И ежели теперь, к примеру, какая-нибудь полногрудая ученица кокетливо канючила: «Анатолий Николаевич, ну спросите меня, вы же обещали», – он растягивал свои губы в знаменитое подобие обезьяньей улыбки и невозмутимо замечал на это: «Я никогда ничего не обещаю девушкам», – после чего моментально стирал улыбку с лица, будто там ее отродясь не бывало. И чем меньше Гиббон что-либо «обещал девушкам», тем больше они его любили, тем сильнее охватывал их жар соблазна в полном соответствии с известной формулой «чем меньше женщину мы любим»… Но эта формула, сентенция или, если угодно, цитата относилась уже к ведомству учительницы литературы Лидии Александровны, уроки которой, к сожалению, не оставили в твоей душе никакого следа. Эту азбучную истину поэтому ты никак не отразил в самостоятельной работе на тему «Два чтеца» и, что гораздо хуже, не руководствовался ею в практической жизни – в своих отношениях с Индирой Великолепной уж во всяком случае.
Абстрактный, как тогда его называли, гуманизм Анатолия Николаевича Гиббона, лично ему, скорее всего, идущий даже во вред, имел для тебя своим приятным следствием пятерку в четверти по психологии. И хотя этот замечательный предмет почему-то вскоре тихо прикрыли или сам он сошел на нет, для Мальчика С Тройной Фамилией те несколько импровизированных уроков наверняка оказались решающими, раз он пожелал в конце концов стать доктором психологических, психиатрических или не знаю каких еще там наук…
Ладно, поехали дальше. Декабрь на исходе. Вроде бы сюрпризов с полугодовыми оценками у тебя, Телелюев, не ожидается. Молодец, подтянул математику, физику, физкультуру. Дружба с Индировой явно тебе на пользу. Почти отличником стал, а ведь еще недавно считался троечником. Никаких репетиторов, никаких дополнительных занятий.
Все-таки дополнительные занятия были. По русскому и литературе.
Ах, вот ты о чем. Да, все минувшее лето ты с Бабушкой писал диктанты, благо она была уже на пенсии. Имеется в виду лето, когда ты так и не выбрался больше в гости к Индире, то есть не преодолел расстояние, отделяющее пункт В от пункта Е, поскольку не смог без остатка извлечь корень квадратный из числа, которое, признаться, уже невозможно вспомнить. Правда, героических усилий в этом направлении, насколько известно, ты не прилагал и ни от чего такого, более интересного, чем бабушкины диктанты, не отказывался во имя грядущих школьных достижений. Просто ничего более интересного в то лето для тебя и не существовало. И какие же замечательные тексты она выбирала! Пушкин, Гоголь, Толстой. Такие тексты, что просто с ума сойти. Даже отдаленно они не напоминали ту нуднятину, которую преподавала вам Лидия Александровна, хотя, скорее всего, это были те же тексты, что вы проходили в школе.
Помнишь, сколько ошибок ты делал поначалу?
Потом все меньше.
Но только год спустя, как до жирафа, до тебя окончательно дошли эти диктанты, и ты стал наконец писать более или менее грамотно.
Знаешь, я сам просил каждый день после обеда Бабушку заниматься этим. Это была наша ежедневная игра в ошибки. В домашний обиход ее ввел бабушкин отец еще в прошлом веке, когда заставлял своих провинившихся в чем-либо детей переписывать целые страницы литературных классических текстов. Бабушка превратила способ наказания в источник радости – вот, собственно, и вся ее заслуга.
Ты писал около страницы в день?
Да, что-то около того. За лето – восемь школьных тетрадей. Бабушка хранила их до самой смерти, непонятно зачем. Они и до сих пор, кажется, целы.
Когда Бабушка ушла на пенсию?
Я, кажется, уже говорил: в пятьдесят пятом. Ей исполнилось тогда семьдесят лет.
И по вечерам, особенно зимой, когда она затемно возвращалась с работы, ты каждый день встречал ее, потому что было скользко. Ты встречал ее у остановки троллейбуса № 3 – вот опять эта цифра 3, везет же нам на нее – встречал на той стороне Пушкинской улицы, почти напротив парикмахерской, где тебя стригли впервые и где ты стригся потом всегда, даже не догадываясь как будто, что в Москве существуют другие парикмахерские. А раньше тебя всегда стригла дома Мама. Ты бежал встречать Бабушку к определенному часу, хотя тебя об этом никто не просил, летел к ней на крыльях любви, как позже разве лишь на свидания с Индирой. И сердце стучало в груди. И ледок хрустел под ногами. Так продолжалось в течение нескольких лет, изо дня в день. Ты переходил улицу Горького у магазина «Рыба» и оказывался на той стороне, шагах в двадцати от Филипповской булочной, где вы обычно покупали хлеб. Во времена карточной системы там возле кассы в закутке на фоне желтовато-матовых стекол с вытравленным на них крупным растительным орнаментом постоянно маячили фигуры нищих в лохмотьях, погорельцев с малыми детьми на руках, изможденных стариков, обросших редкой щетиной. Ты приходил сюда с Матерью или с Отцом, и вы всегда отдавали им довесок мягкого, душистого хлеба, которым с утра до ночи благоухала булочная. И вот ты шел теперь на встречу с Бабушкой по той стороне улицы Горького в противоположном направлении от Филипповской булочной, доходил до Елисеевского, сворачивал направо, в Козицкий переулок, всякий раз сквозь высокие сводчатые окна любуясь сказочным царством сияющих люстр, гроздьями поднебесного света, праздником Елки, Москвы, Карнавала, волшебным за́мком, где был накрыт стол для всех. Потом ты разом погружался в сумрак и тишину Козицкого, в похрустывание снега, в такт шагам мерное покачивание узкой улочки с узкими тротуарами. Доходил до ярко освещенной и приторно пахнувшей парикмахерской, где за полупрозрачными стеклами сидели закрученные в бигуди женщины, проворно двигались вокруг черных кресел люди в белых халатах, сгибались, выпрямлялись, беззвучно щелкали ножницами над головами клиентов, поглядывали в зеркала, встряхивали в воздухе не очень свежими, со следами чужих волос, но аккуратно сложенными салфетками, приглаживали сильно выгнутыми ладонями чьи-то набриолиненные волосы, прыскали одеколоном, сжимая похожие на детские клизмы резиновые груши, отчего безвольно болтающийся внизу мешочек вдруг восставал, наполнялся воздухом, раздувался, едва удерживаемый веревочной сеткой, вокруг же головы клиента взвивался туман быстро оседающих брызг. В этой парикмахерской тебя впервые постригли машинкой на нет, причесав на косой пробор, когда тебе исполнилось шесть, а потом, перед самой школой наголо, и Мама заплакала, увидев такого уродца-головастика, а сам ты, взглянув в большое зеркало, впервые обнаружил у себя на землистого цвета гладкой голове белые полоски-шрамы: какой-то мальчишка, ты уже плохо помнил подробности, стукнул тебя когда-то несколько раз кочергой, – и вот ты глядел в зеркало, вертел головой, похожей на неправильный шар, и не узнавал себя, а Мама плакала… Миновав парикмахерскую, ты обычно подходил к самому краю тротуара и смотрел налево – нет ли машин, потом, дойдя до середины, поворачивал голову направо. В то время по Пушкинской – может, тогда она даже называлась иначе – машины ездили в обе стороны.
Часто ты приходил раньше времени и ждал у остановки третьего троллейбуса, прогуливаясь вдоль дома, переходящего в отштукатуренную желтую глухую стену. И вот вдали показывался троллейбус, похожий на трансатлантический лайнер, светящийся изнутри. Его обгоняли верткие автомобили, а он шел величественно и неумолимо, и было в этом движении что-то такое, от чего перехватывало дыхание. Когда троллейбус останавливался, ты с нетерпением заглядывал в переднюю распахнувшуюся дверь, откуда тотчас начинали вываливаться, будто фарш из мясорубки, люди. На первом троллейбусе Бабушка никогда не приезжала, и ты терпеливо ждал следующего. После третьего или четвертого пропущенного троллейбуса подспудное волнение начинало овладевать тобой, и в животе всякий раз возникало такое ощущение, будто объелся мороженым.








