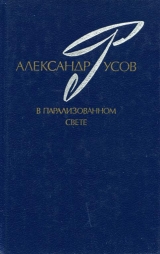
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 45 страниц)
– Никодим Агрикалчевич, взгляните.
На матовом экране как бы небольшого телевизора зеленовато высветилось:
Institutional structures
Контрольный редактор поморщился, медленно провел ладонью по крепкой веснушчатой лысине.
– Слушай, Коля, разве нельзя как-нибудь по-другому? Чтобы по-нашему. Разрабатываем, понимаешь, структуру управления, дело внутреннее, большой государственной важности…
– Так ведь шрифт латинский.
– Ну и что? Ты подумай, Коля.
Оператор как-то криво улыбнулся, пожал плечами, а тем временем стрекотавшая на столе пишущая машинка – последнее звено, связывающее ШМОТ-2 с внешним миром, – вдруг захлебнулась и смолкла.
– Николай! – позвал Борис Сидорович.
– Минуту.
– Ничего не понимаю! Что это?
Орленко мельком взглянул на выползающий из-под валика текст.
– Работает нормально.
– А здесь? – зло ткнул скрюченным подагрой пальцем Княгинин. – Что это такое?
– «Все вещество есть прах предков. Похороните тело после полуночи», – вслух прочитал Николай.
– Теперь тут.
В нетерпении Борис Сидорович стучал большим прокуренным ногтем по светокопии, хранящей свежие неряшливые следы холостяцкой трапезы.
– Какое, скажите на милость, отношение имеют чьи-то похороны к химическим реакциям, связанным… связанным…
От возмущения Борис Сидорович утратил дар речи. Орленко нажал клавишу сброса. Световой пунктир пробежал по каскаду лампочек, и машина снова вошла в рабочий режим.
– Сейчас же, немедленно уберите эту гадость.
– Вы просили выключить интерапторные вводы. Я выключил. Что еще?
– Ваша техника меня совершенно не интересует. Перевод должен быть идентичным, и я требую… слышите?.. требую… чтобы все эти ваши штучки…
– Они не мои, – с достоинством возразил Орленко. – Мое дело – следить за техническим состоянием машины, а ее идеологией занимаетесь вы.
– Я? Идеологией?! – задохнулся Борис Сидорович.
– Ну, может, не вы лично…
– Что такое? – вмешался контрольный редактор.
– Вот, полюбуйтесь. Полюбуйтесь! – уже отчаянно кашлял Борис Сидорович, потрясая седой гривой. – Похороните… тело… после… полуночи… – выдавил он наконец из себя между приступами удушья.
– А почему после? – не на шутку встревожился контрольный редактор. – Кто работал над идеологией программы?
– В последний раз… категорически… настоятельно прошу избавить… убрать от меня эту дребедень… Кха! Кха! Кха!..
– Я же отключил интерапторные вводы, – оправдывался Орленко. – Видно, случайно проскочило, Борис Сидорович.
– Случайность? Возмутительно!
– Чья это просьба?
– Что?
– Чья просьба? – повторил свой вопрос Никодим Агрикалчевич с металлической ноткой в голосе. – И чтобы обязательно после полуночи?
Не принимавший до сих пор участия в разговоре Иван Федорович оторвался от своего отчета, легко оттолкнулся носком сандалии от пола и медленно закружил вместе с креслом.
– Кого, собственно, собираются хоронить?
– Похороните тело после полуночи, – очень твердо, с расстановкой повторил Никодим Агрикалчевич.
– Из «Леноры»?
Глаза контрольного редактора, устремленные теперь на Тютчина, подозрительно сузились. Глубокая морщина сверху вниз перерезала высокий лоб.
– Из «Леноры». Да-да. Ну конечно!..
Кресло пошло на второй круг.
– Так это вы! – бросился на него Княгинин.
– Честное слово, нет. Ну что вы, Борис Сидорович… – беззлобно рассмеялся Иван Федорович. – Просто мне показалось, что Никодим Агрикалчевич только что процитировал Бюргерову «Ленору».
– Значит, Сумм, – мрачно и как-то совсем уж безнадежно заключил Борис Сидорович.
– Вы не допускаете, что это она сама?
– Кто? Машина?
– Не зря же столько лет ее обучали.
– Сейчас проверим, – с готовностью отозвался Орленко. – Денис! Прозвони вводы, я обесточу.
– Хорошо… Фу-ты, опять чем-то пахнет.
– От химиков тянет.
– Что-то у них снова стряслось.
– Да этот рыжий парень из степановской лаборатории. Включи контроль.
– Готово… Это который?
– Его, кажется, собирались перевести в наш отдел.
– Так что случилось?
– Подержи-ка…
– Давай, держу.
– Включил десятый?
– Включил.
– Третий…
– Есть.
– Который час?
– Без пяти двенадцать…
– После полуночи, после полуночи, – как одержимый повторял Никодим Агрикалчевич, словно пытаясь вспомнить нечто очень для него теперь важное. – Как, вы сказали, его фамилия?
– Бюргер.
– Бюргер. Бюргер… – точно припомнил наконец он. – То-то и оно что Бюргер…
Тем временем Иван Федорович, настроенный самым благодушным образом, продолжал уговаривать Бориса Сидоровича успокоиться, не обращать внимания на всякие досадные мелочи, а тот на это только отвечал:
– Стар я уже, мой милый, в такие игры играть.
Из-под валика выползало:
АСКОЛЬДОВА МОГИЛА
ПЕСОК СКОРО УТЕЧЕТ
ПОХОРОНИТЕ ТЕЛО ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
– Сейчас закончим, – донесся голос Орленко.
Машину словно заело. С каким-то неистовым ожесточением она печатала одно и то же:
ПЕСОК СКОРО УТЕЧЕТ
ПОХОРОНИТЕ ТЕЛО ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ
АСКОЛЬДОВА МОГИЛА
Вдруг все лампы, освещавшие зал, разом мигнули, свет померк и смутные болотные огоньки заметались вдоль приборных щитов и досок, точно охваченные лихорадкой.
– Вот и двенадцать. Минута в минуту.
– Хоть часы проверяй.
Денис выпрямился, потер затекшую поясницу.
– Включай.
– Пусть сначала перейдут на ночной режим.
– Что-то закопались мы…
Из двери напротив сильно задуло.
– Прикройте! – капризно потребовал Борис Сидорович, но никто не двинулся с места.
Иван Федорович вновь углубился в свой отчет.
– Наверно, я самый молодой, – с нескрываемым упреком произнес Никодим Агрикалчевич и отправился закрывать распахнутую сквозняком дверь.
Едва он вышел из освещенного круга, непонятное волнение охватило его. Никодим Агрикалчевич оглянулся. Отсюда, из полутьмы, были хорошо, предельно отчетливо видны и львиная, всклокоченная грива Бориса Сидоровича, и умный, насмешливый профиль Ивана Федоровича. Денис с Николаем о чем-то спорили. Алексей Коллегов склонился над рабочим столом. Никодим Агрикалчевич прекрасно видел их всех, его же не видел никто.
И такая вдруг навалилась тоска, такая тревога закралась в душу. Товарищ Праведников сделал несколько ватных шагов в направлении все более сгущающейся тьмы и остановился как вкопанный. В слабом лунном свете, просачивающемся сквозь полуоткрытую наружную дверь, возникли ясные очертания мужской фигуры, для которой, скорее всего, Никодим Агрикалчевич тоже оставался невидим, хотя за его спиной сияло море электрических огней.
Он никак не мог признать мужчину, застывшего в дверном проеме, и от этого неузнавания ему сделалось совсем жутко. Луна была огромная, полная, но только какого-то редкостно рыжего цвета, и потому волосы незнакомца казались огненными. Он продолжал недвижно стоять в дверях, уставившись невидящими, безжизненными глазами прямо в расширенные от ужаса зрачки Никодима Агрикалчевича.
«С какой стати?..» – подумал контрольный редактор, ощутив болезненный укол в сердце. Он протянул руку, чтобы схватить ночного нарушителя, однако пальцы поймали пустоту. Тогда Никодим Агрикалчевич попытался позвать на помощь, но получился лишь жалкий, сдавленный хрип.
Лунный свет по-прежнему освещал край стены, деревья, траву, пробившуюся в щели между каменных плит, белеющую в темноте дорожку, однако никакого нарушителя не было. Стояла теплая, безветренная июльская ночь. Никодим Агрикалчевич с трудом закрыл дверь. Его трясло, ноги совсем не держали. Он оперся спиной о косяк. Постоял немного, потом, несколько придя в себя, вернулся в освещенный круг.
– Что с вами? – испугался, первым увидев его, Алексей Коллегов. – На вас лица нет, Никодим Агрикалчевич.
Контрольный редактор только слабо махнул рукой.
– Это сердце, – убежденно заключил Княгинин. – Или мозговой спазм. В любом случае рекомендую валидол.
– Лучше бы десять капель Вотчала, – возразил Иван Федорович. – Мне, признаться, тоже не по себе. Давление, что ли, меняется? Таким холодом вдруг пахнуло. Точно зимой.
2. БЛИЗКО К ТЕКСТУ
До утра горели огни над ареной, кружилась рулетка, вращалось колесо Фортуны, работала мельница. Трудовой люд подтаскивал связки разноязычных текстов к жерлу машины, которая то отшелушивала словесный сор, то пускала в отвал полезный продукт, а то и перемалывала заодно зерна и плевелы. Инженеры регулировали зазор между жерновами, лингвисты и переводчики следили за тониной помола, тогда как контрольный редактор проверял чистоту муки, следя за тем, чтобы она была такой же белой, как души смертных, прошедших полную санитарную обработку в чистилище.
Поглощенный совершенствованием институтских систем управления, Никодим Агрикалчевич не забывал и о первейшем своем производственно-общественном долге. Время от времени он брал щепотку муки, растирал между пальцами, нюхал, пробовал на вкус и ставил свою заковыристую подпись на бирке, сопровождавшей товар, готовый для отправки потребителю. Забракованная же продукция снова становилась сырьем и засыпалась в бункер, после чего повторно оказывалась на редакторском столе.
Вновь входящая в моду рок-музыка с трудом, едва слышно пробивалась из портативного магнитофона на столе Алексея Коллегова. Он притопывал ей в такт, аккомпанировал, постукивая ручкой по столешнице, а то вдруг входил в раж и исполнял соло ударника. Работа кипела. Пульсирующие сгустки звуков отлетали в вязкую черноту окружающего пространства. Тексты шли сплошным потоком, так что заглядывать в оригиналы было просто некогда. Не вдаваясь в суть, Алексей заменял первое попавшееся слово, ставил недостающую запятую, отчеркивал синим карандашом заглавие, оттискивал в правом верхнем углу штамп: «Перевод». Потом дата, подпись – и готово. Тум-тум-тум! Пам-пам-пам!..
Кайф исходил не только от музыки, но и от всей обстановки этой празднично украшенной мельницы-дискотеки, от самого ощущения летней ночи. Случайные мысли, видения, переживания причудливо переплетались между собой, перетекали друг в друга, точно густые клубы сладковатого, дурманящего дыма. Сверкали, перемигивались, подергивались в такт музыке огни «Латино сине флектионе», этой новой Машины Времени, способной разом перенести человека в другую жизнь, к неведомым берегам, населенным свободными людьми, беспечными, пленительными женщинами.
«Неплохой парень, – рассуждал про себя Никодим Агрикалчевич, приглядываясь к Алексею. – Только, пожалуй, немного невыдержан. Идеологически».
Это был тем не менее очень серьезный недостаток, извинением которому могла служить разве что молодость Алексея. Сам контрольный редактор следил не столько за содержанием переведенных текстов, сколько за той частью дискретного перевода, которая, собственно, и была узловым моментом Лунинской системы. Особое внимание приходилось обращать на всякие сомнительные словосочетания, грозящие отвлечь исследователей от генерации новых научных идей в должном направлении. Все, вызывавшее принципиальные возражения, выписывалось в особую тетрадь, а затем товарищам переводчикам и операторам предлагалось рассмотреть вопрос об изъятии тех или иных структур из машинной памяти. Если предложения контрольного редактора не встречали понимания со стороны сотрудников, он готовил распоряжение, в котором содержимое особой тетради доводилось до сведения руководителя отдела, делались соответствующие выводы и давались конкретные рекомендации. Виген Германович, как правило, со всем соглашался, ибо справедливо считал, что от редакционных сокращений богатый русский язык не обеднеет и система как целое не пострадает, авторитет же контрольного редактора следовало всемерно поддерживать и укреплять. Иначе говоря, слово Никодима Агрикалчевича было решающим и фактически обжалованию не подлежало.
Впрочем, до конфликтов дело доходило чрезвычайно редко. Обычно переводчики шли навстречу пожеланиям Никодима Агрикалчевича и заменяли неподходящие слова. Однако некоторые вставки-интерапторы, на изъятии которых настаивал контрольный редактор, не объясняя, впрочем, мотивов, по которым считал их обременительными для машинной памяти, изловить почему-то не удавалось, и временами они вдруг некстати выплывали на свет божий.
Несколько оправившись от ночного потрясения, связанного, скорее всего, действительно с неполадками в сердечно-сосудистой системе, Никодим Агрикалчевич занялся довольно спокойной и наиболее, пожалуй, интересной для него работой – просмотром текущих выписок.
1. «Для природы, переходящей из бессознательного состояния в сознательное, – воскрешение есть такое же необходимое и естественное дело, как для природы слепой естественны рождение и смерть».
2. «Всеобщее свидание всех поколений есть великая будущность, которая ожидает прошедшее, если настоящее поймет свое назначение, дело, цель».
3. «Для всех откроется ширь, высь и глубь необъятная, но не подавляющая, не ужасающая, а способная удовлетворить безграничное желание, жизнь беспредельную, которая так пугает нынешнее истощенное, болезненное, буддийствующее поколение. Это жизнь вечно новая, несмотря на свою древность, это – весна без осени, утро без вечера, юность без старости, воскрешение без смерти…»
В первой цитате Никодим Агрикалчевич подчеркнул волнистой линией слово «воскрешение», в третьей – обвел красным карандашом «буддийствующее поколение» и поставил на полях жирный вопросительный знак, хотя было совершенно ясно, что вопрос останется нерешенным и отмеченные слова постигнет та же участь, что и остальные…
– Все, Никодим Агрикалчевич. Сделал, – услышал он, с трудом и неохотой отрываясь от дела.
На светящемся экране дисплея было теперь составлено из зеленых, будто свежая хвоя, иголочек:
Institutionalnye structuri
Iskhodnye dannye
– Ин-сти-ту-ти… цио-наль-ные струк-ту-ры, – довольно бегло вслух перевел с латинского Никодим Агрикалчевич. – Исход-ные дан-ные… Ну вот, совсем другое дело. Молодец, Коля!
– Так что будем вводить, Никодим Агрикалчевич? Какие данные?
– Давай, значит, так… – Никодим Агрикалчевич закрыл тетрадь с выписками. – Структура, во-первых, должна быть…
Для облегчения работы мысли Никодим Агрикалчевич смежил веки.
– Извините, я сейчас…
Орленко отошел к машине.
– Нормально работает? – поинтересовался он у Бориса Сидоровича.
– Пока – да, – осторожно ответил лингвист, – только слова пропускает.
– Это мы восстановим мигом…
Вернувшись к Никодиму Агрикалчевичу, Орленко застал его в той же сосредоточенно-напряженной позе.
– Никодим Агрикалчевич!
– Да, Коля, – вздрогнул контрольный редактор. – Значит, так. Структура должна быть ступенчатой и обеспечивать четкое взаимодействие отделов…
– В каком смысле «четкое»? Нужен количественный критерий.
– Я разве не ясно выразился?
– Машина не поймет.
– Сделай так, чтобы поняла. Далее, – продолжал Никодим Агрикалчевич, не имея времени задерживаться на мелочах. – Четкое взаимодействие с внешними организациями, контрагентами…
– Не поймет, – вздохнул Орленко.
– Далее…
Никодим Агрикалчевич загибал пальцы, и вскоре пальцев на одной руке совсем не осталось.
– Есть книга, – заметил молодой оператор, уже не надеясь, что Никодим Агрикалчевич сумеет как следует сформулировать задачу, – называется «Моделирование институциональных структур. Опыт управления».
– Кто написал?
– Переводная.
Никодим Агрикалчевич поморщился.
– Передовой зарубежный опыт?
– Можно и так сказать.
– Ну что ж… Ладно… Ладно, – делая уступку молодому человеку, согласился контрольный редактор. – Возьми за основу мои идеи, добавь оттуда что нужно… Сколько тебе потребуется?
– Дней пять, я думаю.
– Две недели, – для ровного счета округлил Никодим Агрикалчевич. – На работу можешь не приходить. Чтобы не отрывали. От дежурств тебя освобождаю. С Вигеном Германовичем договорюсь… В отпуск когда?
– Вы ведь не отпускаете.
– Заодно и отдохнешь маленько…
Никодим Агрикалчевич вернулся к своей специальной тетради с выписками, тогда как на противоположной стороне освещенного круга шел другой разговор.
– Наверное, все-таки не «греческое спокойствие», а «эллинский покой», – растекался там густой, переливчатый бас Бориса Сидоровича. – Слово «греческий» может относиться к любой эпохе, здесь же, насколько я понимаю, речь идет о гармонии, покое, мудрости…
Иван Федорович ответил ему стихами:
Da ist ja meine Heimatluft!
Die glühende Wange empfand es.
Und dieser Landstraßenkot, er ist
Der Dreck meines Vaterlandes
[1]
.
– Божественный Гейне! – добавил он. – Согласитесь, такое вряд ли когда устареет…
Колесо Фортуны медленно кружилось, мигали разноцветные лампочки, пиликали счетно-решающие устройства, стучали устройства записывающие.
Ближе к утру решили перевести ШМОТ-2 и «Латино сине флектионе» на более высокий идеологический уровень. Для этого Никодим Агрикалчевич предложил использовать тексты из свежих газетных статей. Денис и Николай метались между машинами. Горячая выдалась работенка.
– Что там у тебя?
– Выходные параметры барахлят.
– Два тридцать пять. Четыре двенадцать. Пять восемьдесят семь…
– Борис Сидорович, взгляните.
– Я занят, юноша. Потом, потом…
«Латино сине флектионе»:
В НАШИ ДНИ МИР УЗНАЛ О НОВОЙ НАУЧНОЙ СЕНСАЦИИ. ОСОБЫЕ МОЛЕКУЛЫ БЫЛИ НАЙДЕНЫ НЕДАВНО В МОЗГУ ЧЕЛОВЕКА, В КЛЕТКАХ РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ПЕСТРЯТ ЗАГОЛОВКАМИ: «ГОРМОНЫ СЧАСТЬЯ», «ОПИУМ ДЛЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». ЧТО ЭТО? ПОЧЕМУ ОНИ ВЫЗЫВАЮТ ТАКОЙ ИНТЕРЕС? КАКОВ ИХ ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ?
ШМОТ-2:
В НАШЕЙ СТРАНЕ НЕТ НИ ОДНОЙ ГОРЫ, ТАК ХОРОШО ИЗВЕСТНОЙ СВОИМИ ОЧЕРТАНИЯМИ, КАК ВЫСОЧАЙШАЯ ВЕРШИНА КАВКАЗА ЭЛЬБРУС, ИЛИ «ОШХАМАХО», КАК НАЗЫВАЮТ ЕЕ КАБАРДИНЦЫ. «ОШХАМАХО» – ГОРА СЧАСТЬЯ, КАВКАЗСКИЙ ОЛИМП, ОБИТАЛИЩЕ ДРЕВНИХ БОГОВ.
Н. А. Праведников:
– Два семьдесят. Четыре двенадцать. Богов убрать.
Н. Орленко:
– Выключай!
ШМОТ-2:
ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ВЫПУСТИЛ СВЕРХПЛАНОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПОЧТИ НА ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. ТРУДОВАЯ ПОБЕДА ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ…
Д. Голубенко:
– Опять что-то заело.
«Латино сине флектионе»:
ТРАКТОРА ЗАВОД ПОКУПАЕТ ПО ЦЕНЕ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ, ТЕЛЕВИЗОРЫ ПОСТАВЛЯЕТ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД, А ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТ ЧЕТЫРЕ БОЛТА ОБЩЕЙ СТОИМОСТЬЮ ДВЕ КОПЕЙКИ. ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ КОМПЛЕКСНЫХ ПЛАНОВ И ЭКОНОМИИ ДОБИЛСЯ… ПРИБЫЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ СОСТАВЛЯЕТ, ТАКИМ ОБРАЗОМ, БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ПРОЦЕНТОВ, А ВЫПУСК ПРОДУКЦИИ – БОЛЕЕ ДВУХСОТ ТЕЛЕТРАКТОРОВ В ГОД. ТРУДОВАЯ ПОБЕДА ПРОИЗВОДСТВЕННИКОВ…
В это время напряжение в сети снова упало, пишущие устройства застучали медленнее, и на какое-то мгновение все смолкло.
– Кто?.. Что?.. – испуганно встрепенулся нечаянно задремавший Алексей.
– Доброе утро, Леша! Подстанция переходит на дневной режим.
Пленка в кассете кончилась. Магнитофон молчал. Перед Алексеем лежал экземпляр ранее уже просмотренного им перевода. Оставалось приложить к чернильной подушечке и поставить штамп, число и подпись. Проделав все это, редактор исправил второе число на третье, положил ручку на стол, зевнул и сладко потянулся.
ГЛАВА VI
ОШХАМАХО. ПЕРЕВОД С КАБАРДИНСКОГО
3 июля, в день открытия конференции, Триэс проснулся рано. Последствия вчерашнего кутежа никак не давали о себе знать, как если бы это был только сон. Открыв глаза, Сергей Сергеевич тотчас снова закрыл их и теперь продолжал бежать по зеленому лугу за девушкой с развевающимися на ветру волосами. Мелькали загорелые ноги, по-мальчишески узкие бедра, смеющееся разгоряченное лицо…
Окно в Охотничьей комнате распахнуто настежь. Воздух пахнет цветущими розами и свежескошенной травой. Поток солнечного света дробится на лаковой поверхности паркетного пола. Триэс рывком поднимается, замечает в углу свой туго набитый портфель, кем-то заботливо сюда принесенный. Достает умывальные принадлежности.
Просторная светлая ванная облицована розовым. Из отдушины под потолком свисает зеленый стебель, незаконно забравшийся внутрь по внешней стене дома. Кажется, точно такое же растение с круглыми листьями, но только куда более тщедушное, растет и у них в лаборатории – жалкий, безымянный стебелек в горшке на подоконнике.
В зеркале во всю стену Триэс видит собственное отражение. Вода шипит и пенится, покалывает плечи. Зеркало затуманилось. Изображение неясно, фокус сбит. Триэс набирает полный рот пузырчатой воды, пускает сильную струю. Веселящийся Тритон, резвящийся подросток, он вновь испытывает пьянящее чувство легкости и свободы. Вибрирует пленка стекающей по зеркалу воды. Изображение вновь становится ярким.
Он наскоро вытирается, закутавшись в одно из свежих махровых полотенец, висящих на вешалке. Босиком возвращаемся в комнату.
«Когда они собирались прислать машину?»
«Кетены. Кротоны. Тритон…» – повторяет он вслух, расхаживая по жесткой, приятно щекочущей подошвы медвежьей шкуре.
«О чем мы тогда не договорили с Аскольдом?» – пытается вспомнить. «О чем таком важном?» – бормочет под нос и вдруг замирает, прислушивается. Будто вдруг вспомнил. Услышал. Будто что-то там хрустнуло. Что? Где? Какая ветка?
«Лань. Пума. Лама…»
Подходит к трюмо, нетерпеливо вытряхивает на мраморную столешницу из красной папки блокнот. Движется как во сне. Что-то быстро записывает.
Какие-то формулы, значки, закорючки.
Снова прислушивается. И опять пишет.
Улыбается. Слезы навертываются. Губы дрожат Шутка ли: три года небытия…
Суеверный страх. Боязнь верить.
Но пульс появился. Факт.
Значит, все-таки обошлось, миновало?
Каскад идей. Кровотечение мыслей. Пантагрюэлевский понос.
Живой! После стольких безрадостных, безнадежных лет сиротства, глухого молчания, дряхлой старости, голодной диеты, медленного умирания. Неужели живой?!
«Кротоны, кетены, тритоны, лактоны…»
Шершавая, колючая, шелковистая медвежья шерсть.
«Батоны, кануны, каноны, кальсоны…» – мурлычет под нос Сергей Сергеевич, точно все эти бессмысленные, дурацкие созвучия помогают отыскать другие, полные глубочайшего смысла.
Снова хрустнуло. Шорох. Шепот.
«Какой же ты молодец, Аскольд! Умный мальчик. В твоих кетеновых идеях, в кротоновых бреднях что-то действительно есть. Некая жемчужина в навозе. Теперь погляди, что придумал я».
Что ты придумал?
«Кротоны – в кетоны. Кетоны – в кетены. Кетены – в батоны. Батоны – в дерьмо. Дерьмо – в кимоно…»
Ну и загнул!
В дверь Охотничьей комнаты робко стучат. В дверь Охотничьей комнаты стучат чуть громче. Триэс не слышит. Сидит в одних трусах на краешке кровати и как сумасшедший неистово строчит в блокнот какую-то абракадабру, какие-то каракули – клешневидные, хвостатые, закрученные в змеиные клубки.
Стучат еще и еще.
Триэс опять не слышит?
Черта-с-два! И видит, между прочим, не хуже, стоглазый Аргус: и шкуру на полу, и ружье на стене, и просунувшего голову в дверь вчерашнего молодого человека. А еще – холл гостиницы «Приэльбрусье», и бегущую по цветущему лугу Инну, и беспомощно разводящего руками Аскольда, а также Машинный зал Института химии, Ласточку, Каледина, Сироту, тщедушное растение на подоконнике, выходящую из пены морской Афродиту, кетены, кротоны, бутоны, розы в саду, подъехавшую к дому «волгу», и даже доцента Казбулатова, побрившегося и благоухающего поутру дорогим одеколоном совместного французско-русского производства, он видит в эту минуту насквозь.
«Напоили вчера, черти, до потери сознания, – вспоминает со смехом, не отрывая шарикового карандаша от бумаги. – Вещи в номер доставили, сафьяновую папку выдали…»
– Сергей Сергеевич!
– Заходи.
– Я подожду…
«Ага, смутился, – отмечает про себя озорно. – Голого профессора испугался». – И резко перекидывает страничку, едва в порыве не оторвав.
И продолжает строчить, не поднимая головы. И думает одновременно о тысяче вещей, теряя ощущение времени и ориентацию в пространстве.
– Сергей Сергеевич!
– Сейчас.
– Опаздываем.
Приходится прерваться.
Тело гудит как струна контрабаса. Легкий немнущийся костюм, кремовая рубашка, широко завязанный галстук. Глаза блестят.
Звонкий перестук профессорских каблуков по винтовой лестнице. И приглушенный – сопровождающего.
Распахивается дверца черной «волги». И вот уже свистит ветер. Стекло приспущено. Расслабленная рука маэстро на спинке переднего сиденья.
И вот – прибыли. Острый носок полуботинка выныривает из жаркого бархатного нутра машины. Заждавшийся доцент Казбулатов спешит навстречу. Кто-то еще подбегает. Профессора окружают, сопровождают, ведут.
– Сергей Сергеевич, здравствуйте.
– Сергей Сергеевич, вам придется открывать конференцию. Академик Скипетров не приехал.
– Академик Скипетров давно умер, – рассеянно замечает Триэс, устремляясь к застекленному входу.
– Извините. Ну конечно… Я хотел сказать: Добросердов. Академик Добросердов – хотел я сказать…
После бессонной ночи у доцента Казбулатова почти исчезает акцент. После бессонной ночи доцент Казбулатов выглядит превосходно.
– А ведь Пал Палыч к нам сюда приезжал. Да. Как же… Вы разве не знали, Сергей Сергеевич?
«Приезжа-а-ал», – умильно растягивает слово доцент, и Триэс ощущает во рту знакомый приторный вкус сахарина.
Он отворачивается, не поддерживает разговор. Все, что касается академика Скипетрова, его совершенно не интересует.
– Пусть Павел Игнатьевич открывает. Пусть лучше он…
Сергей Сергеевич здоровается со Стружчуком, жмет его вялую руку и по кислому выражению лица сразу догадывается, что после вчерашнего Павел Игнатьевич уже ни на что не годен. Даже на краткое вступительное слово.
И тут совсем близко он видит Инну. С какой-то полной женщиной она прогуливается по вестибюлю. Триэс успевает только кивнуть. Доцент Казбулатов и остальные тащат его за собой. Утаскивают.
– Сергей Сергеевич! Прошу вас. Пожалуйста. Сюда. В комнату президиума…
– Кто это, Инночка? – интересуется соседка по номеру.
Инну бросает в жар. Инну бросает в холод. Ей хочется провалиться сквозь землю.
– Инночка!
– Это мой руководитель, Калерия Николаевна.
– Как же с ним носятся! Видно, важная птица, а?
И тут, как-то совсем уж некстати, горячо и поспешно Инна принимается рассказывать, какой у нее замечательный муж, достает зачем-то из сумочки и показывает Калерии Николаевне фотографию дочери.
– Прелестна! Никогда бы не подумала, что у вас такая большая дочь…
В тесной комнате, соединенной со сценой крошечным коридорчиком, Триэс неожиданно встречает еще одного посланца Института химии – Андрея Аркадьевича Сумма.
– Сергей Сергеевич! – бросается тот к нему.
– Андрей Аркадьевич, какими судьбами?
Члены президиума спешат распределить роли, определить порядок выступлений. Пора начинать.
Большой конференц-зал на втором этаже гостиницы «Приэльбрусье» почти пуст. То есть скорее пуст, чем полон. Меньшего помещения не нашлось, тогда как местные студенты, которые могли бы обеспечить аншлаг в день открытия зонально-краевой конференции, раньше намеченного срока укатили на строительные и полевые работы.
Первым из-за кулис показывается доцент Казбулатов. Немногочисленные зрители видят, как он тянет кого-то за собой. Он тянет, а кто-то, невидимый, упирается. Мимическая сцена перетягивания каната или укрощения дикой лошади оканчивается победой доцента, который выводит наконец за руку Павла Игнатьевича Стружчука. Следом, уже самостоятельно, на сцену выходят Сергей Сергеевич, чуть сутулящийся при ходьбе из-за своего высокого роста Андрей Аркадьевич, а также доктор из Москвы и еще несколько человек.
Когда усилия мышки (ее роль прекрасно исполнил доцент Казбулатов) увенчались успехом и показался хвост декоративной репы, в зале раздались редкие хлопки, стремительно переросшие в бурные, продолжительные аплодисменты. Сидевшие рядом Инна и Калерия Николаевна заметили, что очень похожие друг на друга черноволосые молодые люди в следующем ряду дополнительно хлопали еще и подошвами ботинок, заметно усиливая эффект овации. Они же один за другим начали вскакивать со своих мест, их примеру последовали остальные, и в одно мгновение разожженный костер всеобщего энтузиазма заполыхал.
Смущенный, растроганный и счастливый, доцент Казбулатов поднял руку в нерешительной попытке сдержать всеобщее ликование. Казалось, этим жестом он одновременно благодарил за сердечный прием, который собравшиеся оказали президиуму конференции, ему лично, и выражал озабоченность: терялось драгоценное рабочее время. Поскольку конца бурных проявлений радости не предвиделось, доцент своим орлиным взглядом как бы нащупал одному ему ведомую кнопку, мысленно нажал ее и перекрыл ликующий поток. Лишившись источника энергии, огромная турбина сделала еще пол-оборота и остановилась. Делегаты рассаживались по местам, гремели красными бархатными креслами.
Взгляд Казбулатова помягчел. Разгладились жесткие складки щек. Он несколько раз постучал ногтем по безжизненному микрофону, как бы окончательно успокаивая этим магическим жестом зал, растерянно пожал плечами, ослепительно улыбнулся и мельком глянул в первые ряды партера. Тотчас несколько молодых людей одновременно сорвались со своих мест. Один выскочил на сцену, другой потащил неизвестно откуда взявшийся запасной шнур, третий уже возился с розеткой, а четвертый безмолвной тенью застыл за спиной доцента, готовый, в случае надобности, самоотверженно выполнить любое его поручение.
На новый щелчок по микрофону в мгновение ока налаженная техника отозвалась сухим треском, и молодые люди разом исчезли из поля зрения делегатов. Поблагодарив присутствующих, доцент Казбулатов обещал приложить все силы, чтобы оправдать оказанное ему высокое доверие. От волнения или недосыпания его голос дрожал и срывался. Затем он охарактеризовал представительность конференции, назвав число прибывших докторов и кандидатов наук, а также отметив участие в ней ряда лауреатов Государственной премии. Под лауреатами, количество которых не уточнялось, подразумевался один Андрей Аркадьевич Сумм, некогда удостоенный этого почетного звания за поэтические переводы с древнегреческого.
Среди однообразных рядов кресел и почти неразличимых из-за слепящего света прожекторов лиц Триэс пытался отыскать Инну. Казалось, они находились теперь в разных мирах, по ту и эту сторону световой завесы, как бы растворяющей, разъедающей вещное пространство зрительного зала.
По окончании краткой, но впечатляющей речи товарища Казбулатова, мелко семеня туго затянутыми длинной узкой юбкой ногами, на сцену вышла скрипачка в белой воздушной блузке. Она встала боком к столу президиума, опустила глаза и взмахнула смычком.
Томительные звуки скрипки как-то сразу усыпили Павла Игнатьевича Стружчука. Доктор из Москвы замер в неловкой позе и сохранял ее до конца выступления. Доцент же Казбулатов искоса поглядывал на Сергея Сергеевича, пытаясь понять, какое впечатление произвел музыкальный подарок на него. Не осталось ли у гостя неприятного осадка? Не обиделся ли он, что его не встретили на аэродроме и поселили отдельно от его аспирантки? Ведь делалось все возможное, чтобы Сергей Сергеевич постарался забыть это маленькое недоразумение. Его не желали обидеть. Нужно знать хоть немного местные трудности, чтобы понять причину отдельных недостатков и упущений при решении не только мелких, но и больших вопросов, порой даже весьма принципиального характера.








