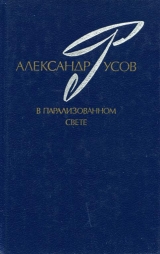
Текст книги "В парализованном свете. 1979—1984"
Автор книги: Александр Русов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 45 страниц)
После выступления скрипачки доцент предоставил слово пробудившемуся Павлу Игнатьевичу, а тот, недолго думая, передал его профессору Степанову. Опасаясь и с самого начала ожидая этого момента, Инна пыталась теперь заставить себя поверить, что поднявшийся из-за стола президиума надменный господин и вчерашний Триэс, Солнечный юноша – это одно лицо. Чем более строгим, отчужденным казался он ей отсюда, из четвертого ряда партера, тем больше чувствовала она себя обманутой и оскорбленной. Дошло до того, что даже покровительственное упоминание о ее работах, связанных с кетенами, она восприняла как скрытую насмешку, мелкую подачку, как указание на разделявшую их дистанцию. Он ведь однажды уже поставил ее на место, едва поздоровавшись при посторонних.
То, что теперь разделяло их, было гораздо больше, чем разница положений. Из зрительного зала Инна смотрела на своего руководителя, точно на ледяную вершину крутой горы, от одной мысли сорваться с которой холодело все внутри. Душили слезы. Рвалась душа. Что-то до предела натягивалось в ней, и вот она уже чуть не вскрикнула от острой, пронзительной боли.
В перерыве Калерия Николаевна, как умела, пыталась отвлечь свою новую приятельницу от грустных мыслей, поднять ее ни с того ни с сего испортившееся настроение. Завела речь о Дамском комитете, к работе в котором собиралась привлечь и ее. Заметив направляющегося прямо к ним научного руководителя Инночки, ее милой соседки, Калерия Николаевна обрадованно встрепенулась, спешно поправила прическу, огладила платье на бедрах. Однако Триэс не только, казалось, не узнал ее, не только не поздоровался, но взглянул столь уничижительно, что бедная Калерия Николаевна вся разом поникла и сжалась. Безликая говорливая толпа сорвала ее с места, закрутила, смыла, унесла вниз по лестнице. Ее относило все дальше, а тех двоих точно магнитом притянуло друг к другу, и сквозь мелькающие просветы между чьими-то головами Калерия Николаевна видела то смущенное, вдруг заметно похорошевшее личико ее подопечной, то упрямый, коротко стриженный затылок невоспитанного профессора. Ее толкали, задевали, невежливо оглядывали. До нее никому не было дела. «Ох и штучка этот Солнечный!» – подумала Калерия Николаевна. О, она еще тогда обо всем догадалась, по дороге из аэропорта. Хотя они были едва знакомы, она-то его раскусила сразу. Все строил из себя невесть что, делал вид, что не такой, как все, а сам небось сбежал от жены в командировку и теперь спешит урвать у жизни удовольствие. Только и ждет, как бы сожрать бедняжку на скорую руку…
– Наконец-то! – воскликнул Триэс, едва они остались вдвоем.
Вдвоем? На них смотрели десятки глаз. Одни не скрывая жгучего любопытства, другие исподволь, третьи равнодушно.
– Где ты? Как устроилась?
Инна напряженно улыбалась.
– Завтра у тебя доклад. Подготовимся вместе. Сразу после вечернего заседания жди меня внизу. А сейчас – обедать.
Они спустились в просторный зал, напоминавший плоскую большую табакерку. Над одним из столиков призывно взметнулась рука. Это был Андрей Аркадьевич.
– Вы знакомы?
– Ваш муж ведь работает в нашем отделе?
– А? Да, работает…
– Андрей Аркадьевич… Инна…
– Очень приятно.
– Давайте же сядем.
– Можно и постоять… Как на рауте у королевы… Кстати, ваш муж…
Конец этого светского разговора ускользнул от Сергея Сергеевича. Официант принес меню. В ресторане было жарко и душно, перспектива – искажена и многократно сдвинута, точно Триэс смотрел в бесконечный зал сквозь стеклянную призму.
Речь зашла о дискретном переводе. Андрей Аркадьевич складывал пополам бумажную салфетку, разглаживал перегиб и снова складывал.
– А я считаю, что всякий человек творческой профессии, – заметил среди прочего Триэс, поддерживая общий разговор, – немного шарлатан, обязательно шаман, чуть-чуть авантюрист и фокусник.
Андрей Аркадьевич горячо согласился с этим, утверждал, что перевод – это, конечно, не только точное отражение оригинала, но и непременно свежий, девственный взгляд на него. Он даже сравнил перевод с экзотическим цветком, который быстро расцветает и столь же быстро вянет.
– Если научный результат не зависит от того, кто его получил, то перевод…
– Ошибаетесь, – возразил Триэс. – Еще как зависит! От того, кто. От того, как. Это, скорее, у вас нет свободы выбора. Дайте разным квалифицированным переводчикам один и тот же текст – и получите одинаковые переводы.
– Ну уж нет… В истории известен всего один такой случай, – не согласился на сей раз Андрей Аркадьевич. – Я имею в виду историю семидесяти двух старцев. Они взялись по распоряжению египетского царя перевести Ветхий завет на греческий язык. Переводчики не общались друг с другом, но когда тексты сверили, они совпали. Слово в слово.
– Вот видите.
– Так ведь тут – божественное провидение!.. Поверьте, даже вечные истины невозможно перевести однозначно на язык своего времени, поскольку истины живут дольше произведений искусства. Я всегда считал, что не следует переводить слова. И даже не всегда – смысл. Важно передать восприятие, впечатление… Настоящий перевод, если угодно, являет собой нечто большее, чем оригинал. Во всяком случае, безусловно, более полное, живое и действенное. В этом суть и движущая сила прогресса. Судите сами. Разве не перевод приносит оригиналу широкую известность? Он способствует чужой славе – славе автора, а не переводчика, это важно подчеркнуть. С тех самых пор, когда язык стал объединять и разъединять людей, переводу выпало на долю нести в себе не только новое эстетическое, но и этическое начало.
– Помилуйте, этика тут при чем?
– Тут, Сергей Сергеевич, и этика, и эстетика, и научный метод, и художественный инстинкт. Усилия автора соединяются с усилиями переводчиков. Тут мы видим соединение многих усилий, на протяжении веков, и как следствие – создание невиданного мощного энергетического потенциала. Но главное, конечно, инстинкт. Инстинкт и суммирование многих разнонаправленных усилий. Понимаете, о чем я толкую? Слияние науки и искусства при переводе происходит на границе анализа и синтеза. Но существует и промежуточная зона – загадочная, ничейная земля, некое колеблющееся силовое поле, образующееся в момент перехода из одной языковой стихии в другую… И вот здесь-то можно полагаться только на безошибочный инстинкт…
– Вы обрисовали картину, поразительно схожую с так называемой «зонной плавкой», – по-своему истолковал сказанное Триэс.
Рассуждения Андрея Аркадьевича как нельзя более отвечали внутреннему состоянию, в чем-то родственному мучительному переходу вещества из аморфной формы в кристаллическую, когда, уже расплавленное, оно, исподволь очищаясь, стягиваясь и внутренне напрягаясь, точно от боли, выстраивает из самого себя сначала едва заметные, потом все более отчетливые геометрически правильные структуры.
– Пусть «зонная». Или любая другая, Хотя ваше определение – просто великолепно. Зонная плавка. Замечательно! Переплавка образов, слов, понятий. Подарите мне это название, а? Уверяю вас, такая очистительная плавка лежит в основе любого перевода.
– Может, не только перевода? – высказал сомнение Триэс.
Он окликнул официанта. Андрей Аркадьевич полез за бумажником, Инна расстегнула кошелек.
– Не надо, друзья, – остановил их Сергей Сергеевич. – Позвольте мне. Я думаю, такая увлекательная лекция Андрея Аркадьевича стоит обеда.
ГЛАВА VII
1. СЕДЬМОЕ ПИСЬМО СЫНУ
Во вторник днем в обеденный перерыв Валерий Николаевич Ласточка писал письмо своему старшему сыну от первого брака. С мальчиком от второй жены он был не так близок, тот более походил на мать и его воспитывал теперь другой человек, а этот с годами стал вылитой копией отца, и, обращаясь к нему, Валерий Николаевич обращался как бы к себе самому, к своей душе, совести, разуму.
Поначалу детям, с которыми он не жил, много внимания уделяла общественность Института химии. Каждый праздник они получали праздничные открытки с поздравлениями и стихотворными пожеланиями вроде:
Ты расти и поправляйся,
Физкультурой занимайся.
Однако давно уже местком не поздравлял старших сыновей – то ли потому, что они вовремя не вняли добрым советам общественности, то ли вышли из возраста, находящегося в сфере месткомовских забот.
Ласточке-отцу до тех пор не давали покоя укоры совести, пока он твердо не решил вступить со старшим сыном в обстоятельную систематическую переписку. А поскольку Валерий Николаевич ко всему, за что только ни брался, относился с той же серьезностью и ответственностью, с какой занимался научной работой, первые же эпистолярные опыты поставили перед ним ряд вопросов этического, педагогического и историко-философского характера. Приступив к изучению многочисленных литературных памятников по необходимости, так сказать, отцовского долга, Валерий Николаевич услышал в своей душе горячий отклик отзвучавшим давно голосам. Пожалуй, он всегда имел склонность к абстрактным размышлениям на моральные темы, но лишь теперь склонность эта получила толчок для всемерного развития.
Молодая жена Валерия Николаевича, вполне уважая и ценя его отцовские чувства, с настороженностью, однако, отнеслась к этой, еще одной, странности мужа. Как безумный он вдруг набросился на старые скучные книги, которые ни один современный нормальный человек не стал бы, конечно, читать. Глубоко убежденная в том, что вся книжная премудрость не стоит и одного идущего от души сердечного слова, она жалела не только его, такого нелепого, не приспособленного к жизни, но и себя, и, конечно, детей.
Случилось поэтому так, что Валерий Николаевич вынужден оказался писать свои родительские письма на работе. Отчасти это объяснялось соображениями маскировки и конспирации, отчасти – особым состоянием подъема, которого ему удавалось достичь лишь в стенах родной лаборатории. Начинал он обычно в обеденный перерыв, когда сослуживцы удалялись в столовую, а вечерами задерживался допоздна, раскладывая свои многочисленные выписки-пасьянсы на лабораторном столе. Это замечательное место Валерий Николаевич нашел не сразу, путем многочисленных проб и ошибок, ибо за письменным столом обуревавшие его педагогические идеи привычно вытеснялись химическими формулами, схемами и всякой текущей канцелярщиной. Поневоле приходилось мириться с некоторыми неудобствами. Прежде чем сесть за письмо, Валерий Николаевич освобождал себе место, переставлял весы, после чего принимался бродить по комнате, нагуливая некое особое приподнятое состояние души и устраняя малейший замеченный беспорядок. После этого Валерий Николаевич принимался за дело и лишь в последнюю минуту обеденного перерыва, голодный, измотанный, но счастливый, поспешно собирал разложенные по всему столу бумаги и ставил весы на место – так что и сотрудники ни о чем не догадывались.
Итак, 3 июля, во вторник, Валерий Николаевич, приступил к написанию Седьмого письма своему старшему сыну.
«Дорогой сын!
В ответ на твои возражения хочу напомнить тебе, что принципат Августа был едва ли не первым в истории примером режима, основанного на политическом лицемерии, возведенном в принцип. Эта государственная система последовательно, сознательно и цинично выдавалась официальной пропагандой не за то, чем была на самом деле.
Особо хочу обратить твое внимание на судьбу великого Овидия, сосланного и умершего на чужбине. На него обрушилась опала не потому, что он находился в оппозиции режиму Августа. Скорее наоборот. Овидий был прямым порождением этого режима, сознавал это, был ему благодарен, любил и воспевал его. А режим хотел, чтобы его воспевали не за то, чем он был, а за то, чем желал казаться.
Замечу также, что учение о добродетели как о высшем и единственном, по существу, благе требовало безразличия к богатству, почестям и, независимо от воли его приверженцев, таило в себе оппозиционность по отношению к властям, ибо утверждало внутреннюю свободу человека. Не случайно поэтому многие римские сенаторы были казнены. Существовало даже мнение, что единственной наградой за добродетель служит неминуемая гибель. Для своего времени утверждение это было столь же расхожим, как и более поздняя мысль: нравственность есть красота философии.
Ошибка твоя, пожалуй, заключается вот в чем. С одной стороны, ты отрываешь понятие нравственности от времени, к которому это понятие относится, с другой – пытаешься вывести современные нормы поведения из собственного крошечного опыта. Самоуверенность молодости заставляет поначалу всех нас заблуждаться на сей счет. Впрочем, меня радует твоя откровенность. Позволь же и мне высказаться совершенно чистосердечно по интересующей нас проблеме.
Попытайся приглядеться к студенческой среде, в которой тебе предстоит провести еще несколько лет, с тем же пристальным вниманием, с каким вглядываешься в себя, и ты обнаружишь среди товарищей будущих Платонов, Сократов, Сенек, которых, кстати, терзали некогда те же вопросы. Нет более увлекательного и полезного занятия, чем угадывать в крошечном ростке будущее дерево. Не мудрено признавать давно всеми признанное. Не требуется большого ума и таланта, чтобы сокрушаться по поводу недостатка интересных людей вокруг. Попробуй найти интересное в неинтересном, великое в малом, себя – в других. Определи круг своих устойчивых пристрастий, развей способность к самостоятельному мышлению, ибо нет ничего проще, нежели симулировать умственные способности, прибегая к фрондерству, нигилизму и пустому нытью.
Остерегайся считать кого-либо ниже себя. Куст орешника выше ростка дуба, бамбук растет быстрее, чем сосна. Умей заглянуть в будущее. Допустим, в чем-то ты опередил сверстников, твои часы убежали вперед. Как ни спеши, жизнь все равно догонит. Убежать от нее нельзя – можешь не сомневаться. Постарайся лучше приблизиться к ней, прошагать рядом как можно дольше. И будь готов к приходу того дня, когда обнаружишь, что уже не поспеваешь за временем.
Ты просишься в прошлое, обнаружив там много такого, что соответствует твоим нынешним склонностям, а я утверждаю: ты рвешься в будущее. Такое случается. Ожог кипятком воспринимается порой как соприкосновение с чем-то ледяным, радость прикидывается печалью, боль прячется за улыбку. Так и ты спешишь в будущее, уверяя себя и меня, что «тоскуешь» по прошлому, свидетелем которого тебе не довелось быть.
Насколько могу судить из последнего письма, у тебя постепенно складывается самостоятельный взгляд на вещи. Это, безусловно, сделает твою молодость более мучительной, зрелость – осмысленной, а старость – безмятежной. Знай же, что ограничивать себя в удовольствиях не более важно, чем предаваться им. Найди свою меру и помни: неумеренность в молодости оплачивается потом вынужденной воздержанностью, порой весьма унизительной. Но и того остерегайся, чтобы остаться у молодости в долгу. Рано или поздно все равно придется платить.
Сейчас ты занят созданием эскиза будущего. Замысел можно погубить, но и усовершенствовать. Все зависит от безошибочности чутья и самодисциплины. Зрение молодости – глаза, зрение старости – память.
Не ходи к людям с пустыми руками. Спеши давать, не спеши брать. С тяжелой ношей трудно идти вперед. Чем овладеешь, скоро приестся, чем пренебрежешь теперь, окажется единственной ценностью, о которой будешь вспоминать со слезами благодарности.
Еще одно замечание. Пусть оно лучше обидит тебя, чем оставит равнодушным. Я о твоей небрежной манере излагать свои мысли, не заботясь о том, чтобы довести каждую до конца. Язык мысли должен быть по возможности ясен и прост. Не годится засорять его недолговечными словами. Если же новые мысли потребуют новой почвы, выбирай ее обдуманно, берегись пустой игры слов, нередко пытающейся скрыться под личиной оригинальности.
И еще: опасайся собственного невежества. Судить о чем-либо с такой уверенностью, с какой судишь ты, можно лишь имея на то безусловное моральное право. Твои знания о предмете должны, по крайней мере, не уступать знаниям твоих оппонентов. Смешно, и только, когда кочка критикует гору.
Должен признаться, что к некоторым оборотам твоей речи я начал уже привыкать. До чего восприимчива наша душа и гибок разум! То чуждое, непонятное и потому зачастую неприятное, на что наталкиваешься впервые, очень скоро может сделаться понятным и вполне приемлемым.
Сейчас я думаю о том, что всякий возраст имеет свои горизонты. Ты наверняка знаешь нечто такое, о чем я давно забыл или никогда не знал. Но и ты допусти, что мое понимание отдельных вещей может достигать такого уровня, о существовании которого ты даже не помышляешь. В чем-то, прошу тебя, просто доверься мне. Ведь способность верить – одна из замечательнейших способностей человека.
Любое время во всеуслышанье или тайком пытается внести исправления в смету, составленную предшественниками. То, что еще вчера ценилось на вес золота, сегодня выбрасывается на рынок истории по стоимости металлолома. Поэтому, производя оценку, сверяйся не с пожелтевшими ведомостями, которые кому-то было лень или недосуг обновить, и не со свежими счетами, подписанными сильными мира сего, а с собственными естественными запросами и потребностями. Чего не хватает тебе, то и считай ценным. Свежего воздуха? Хороших книг? Времени? Ума? Веры? Ничего не жалей для того, чтобы заполучить их.
Крепко жму руку».
2. ДАР
Когда у Пал Палыча Скипетрова родился сын Сережа, Институт химии представлял собой довольно скромное учреждение, возникшее на месте небольшого населенного пункта Лунино, который, постепенно разрастаясь, стал крупным научно-исследовательским центром. Речка Белая Вода, охватывающая его обширной петлей с юга, из источника питья со временем превратилась в приемник производственных стоков и, не утратив своей живописности, оказалась совершенно непригодной даже для купания лошадей, каковые, кстати сказать, тоже постепенно исчезли. С севера к Лунину вплотную подступали леса. Одна-единственная проселочная дорога, связывавшая когда-то княжеский дворец, церковь и близлежащую деревеньку с большим миром, как бы расщепилась, распахнулась веером в разные стороны, и теперь асфальтовые шоссе соединяли Лунино с Лютамшорами и Королизой, Атлеткой и Близким – населенными пунктами, где располагались всевозможные родственные предприятия и учреждения. Дворец стал областным музеем, а в одном из его вспомогательных помещений разместился Шестой административный корпус Института химии. Вместе со строительством новых лабораторных зданий, жилых домов городского типа и коттеджей для квалифицированных специалистов строилась, достраивалась, перестраивалась, разветвлялась и научная тематика института. Люди, словно дома, росли на глазах, и ко времени, когда Скипетров-младший стал живым, сообразительным мальчиком, защитить диссертацию в Институте химии стало уже не таким простым делом, как в те незабываемые годы, когда его юная мать зачала будущего члена-корреспондента.
Жизнь на свежем привольном воздухе способствовала быстрому физическому формированию ребенка, чем-то напоминавшему стремительный научный рост его отца. Летом он пропадал с друзьями в близлежащих лесах, увлекался рыбной ловлей, а зимой, особенно в оттепель, после обильного снегопада, развлекался тем, что вместе со своим приятелем, тоже профессорским сынком, лепил большой снежный ком и вкатывал его на горку неподалеку от стеклодувной мастерской, обслуживавшей тогда весь институт. Затаившись, мальчики ждали. Но вот кто-нибудь в телогрейке, накинутой поверх белого халата, появлялся на дорожке со стеклянным прибором в руках. Ребята подталкивали ком к краю обрыва, он катился вниз и сбивал идущего с ног. Прибор, конечно, ломался, и это вызывало у подрастающих оболтусов бурный восторг, усиливаемый чувством страха перед возмездием.
С годами, по известной уже причине, рыба в Белой Воде окончательно перевелась, да и свободного времени для рыбной ловли оставалось все меньше: приближался день окончания средней школы. Тем же летом Сережу отправили в университет, где у Пал Палыча было много учеников, друзей и знакомых. Единственным доводом против химии как будущей специальности служило пристрастие молодого Скипетрова ко всякого рода рискованным экспериментам, мистификациям и розыгрышам. Он хотел стать иллюзионистом, мечтал об актерской карьере, но Пал Палыч не счел возможность признать доводы сына убедительными.
При поступлении в благословенный родителем университет Скипетров-младший вполне отдавал себе отчет в том, что его подготовка и знания оставляют желать много лучшего. Рассчитывать можно было только на чудо, и чудо произошло: его приняли. Уже тогда Сергей Павлович мог обратить внимание на одно удивительное обстоятельство, вряд ли обусловленное только счастливой случайностью. Так, преподаватель, принимавший экзамен по математике, прекратил вдруг задавать вопросы именно в тот момент, когда экзаменуемый оказался в затруднительном положении, а по химии его и вовсе не стали спрашивать. Листок, списанный со шпаргалки, послужил достаточным основанием для получения отличной оценки.
Было бы преувеличением сказать, что юноша почувствовал себя на седьмом небе, став студентом химического факультета, но успех, несомненно, окрылил его. Имя отца или собственный дар, им тогда еще не оцененный, точно божеское благословение и впредь служили незримой защитой от превратностей судьбы. По окончании университета Сергея оставили в аспирантуре, и в Институт химии он вернулся кандидатом наук.
Уже в период подготовки к защите Сергей Павлович мог заметить, что все вокруг, точно сговорившись, видят в его работе лишь то, что сам бы он желал в ней видеть, и не замечают тех сомнительных в научном отношении мест, недочетов и недостатков, каковые присущи едва ли не любой диссертации. Неведомая сила заставляла людей, гораздо более знающих, опытных и искушенных, почтительно внимать любым его речам, потакать капризам, разделять заблуждения.
«Будешь слушаться, и я сделаю из тебя человека», – часто повторял в письмах и при каждой встрече отец. И чем увереннее Скипетров-младший шел к намеченной цели, тем более послушными его воле и доброжелательными становились те, от кого зависел дальнейший успех младшего из династии Скипетровых. Послушание вознаграждалось послушанием. Уже не он шел за кем-то – другие следовали за ним, будто слепые за поводырем. Стоило возникнуть препятствию на пути, стоило пожаловаться отцу: «Иван Иванович несправедлив ко мне», – стоило даже мысленно представить злонамеренного Ивана Ивановича поверженным, как какая-нибудь нелепая случайность, непредвиденное стечение обстоятельств то ли камнем падали несчастному Ивану Ивановичу на голову, то ли скользкой арбузной коркой подсовывались прямо под ногу. Вот уже и на заслуженную премию не выдвигали бедного Ивана Ивановича. И куда-то там не выбирали. Словно одной магической силы взгляда Сергея Павловича было достаточно, чтобы управлять неведомым ходом событий, хотя сам Сергей Павлович все еще не имел тогда ясного представления о том, к чему приведут в конце концов эти его необыкновенные способности.
Горная тропа, по которой взбиралось новое поколение питомцев Института химии, становилась все уже, подъем – круче, а количество желающих достичь вершин продолжало расти. Шли гуськом, и уже одних лишь физических данных, а также прилежания, умения, долготерпения оказывалось мало, чтобы выйти победителем из этого соревнования, носящего уже массовый характер. В дело вступал интеллект, способность быстро ориентироваться на местности, решительно обходить зазевавшихся, попридерживать слишком ретивых.
Во время защиты сыном докторской диссертации академик Пал Палыч Скипетров свое место председателя большого ученого совета, которое он бессменно занимал энное количество лет, как и полагалось по процедуре, уступил заместителю, сам же смешался с публикой, примостился на неприметном боковом сиденье, ссутулился и затих. Он ни с кем не шептался, никому не бросал многозначительных взглядов, никого ни о чем не просил, но чем незаметнее казалась его фигура выступавшим с кафедры, тем громче звучало похвальное слово в адрес соискателя, тем натуральнее отдельные голоса сливались в сладчайший хор. Порой складывалось даже обратное впечатление: будто присутствие Пал Палыча сдерживает восторги ораторов, опасающихся прослыть льстецами. Вот ведь и отдельные замечания по работе возникли, и даже завязалась небольшая дискуссия, и естественно было предположить, что кто-нибудь, как это обычно бывает, возьмет да и проголосует против или опустит в урну как бы по рассеянности недействительный бюллетень. Но стоило только Сергею Павловичу вдруг подумать про себя: «Должно быть, единогласно», – как председатель счетной комиссии тотчас произнес это слово вслух, после чего переполненный зал разразился бурей аплодисментов.
И еще раз, на академических выборах, суждено было испытать Сергею Павловичу незримую свою силу, чтобы окончательно понять, каким радостным даром наделила его щедрая природа.
Самому академику все-таки посчастливилось увидеть сына членом-корреспондентом Академии наук. После его смерти, однако, Сергей Павлович сильно переменился. Он уединенно жил теперь в отдельном коттедже вдвоем с матерью, женат не был, женщин избегал. Многие находили его поведение странным. Запасшись набором химических реактивов и простейшей лабораторной посудой, он все вечера при запертых дверях, наподобие какого-нибудь алхимика, ставил нехитрые школьные опыты. Все прочее его мало интересовало. Он уже достаточно хорошо изучил себя. Регуляция собственного тепловыделения, повышенная способность с помощью зон Захарьина – Геда воспринимать любые внешние раздражения, манипуляции собственными полями, а также чтение мыслей, гипноз – все это было пройденным этапом. Ему ничего не стоило, например, узнать, даже не выходя из дома, что думал о нем любой из институтских сотрудников, однако такое знание, увы, не приносило радости. Он пробовал силой мысли передвигать неодушевленные предметы, подумывал об опытах по перевоплощению разных животных с одновременным перемещением их в пространстве на любое, доступное воображению, расстояние и предвидел трудности. И опасался огласки. И все больше замыкался в себе.
Случай открыл перед Сергеем Павловичем новые возможности, утолив на какое-то время неодолимую потребность в реализации его чудодейственных сил. Сопровождая как-то делегацию иностранцев по Машинному залу, Сергей Павлович обратил внимание на фразу, только что отпечатанную с красной строки записывающим устройством «Латино сине флектионе». Она в точности соответствовала некоему постороннему соображению, сию секунду промелькнувшему у него в мозгу. Что это было: телепатическое чтение машинной программы или, напротив, беспрецедентная способность произвольно менять ее? Скипетров-младший нарочно несколько отстал от гостей, сосредоточился и послал мощный направленный импульс. Потом, как бы невзначай, снова подошел к машине, взглянул на выползающий текст и с детским почти удовольствием прочитал: «Если будешь слушаться, я сделаю из тебя человека». Теперь сомнений не оставалось: машина подчинялась Сергею Павловичу на расстоянии.
Программа посещения зарубежными специалистами Машинного зала неизменно включала полуделовую шутку, придуманную в свое время Андреем Аркадьевичем Суммом и утвержденную в установленном порядке заместителем директора по научной работе товарищем Крупновым В. В. На глазах у посетителей компьютер демонстрировал свою способность одновременно переводить на английский, немецкий и французский языки отрывок из поэмы «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границей, дан л’этранже»:
Утро ясно, иль фе бо,
Дня светило, ле фламбо,
Солнце по небу гуляет
И роскошно освещает
Эн швейцарский пеизаж, —
То есть фермы, дэ виллаж.
Вместе с ксерокопиями текста мятлевского оригинала переводы этих стихов дарились иностранцам на отдельных листах с красочной эмблемой Института химии в правом верхнем углу. Добрая шутка позволяла не только развлечь гостей, но и не допустить утечки информации, касающейся теории и практики дискретного перевода, а также характера тематики, которой занимался институт.
Вряд ли Андрей Аркадьевич был совсем уж оригинален в своей выдумке. Побывавшие за рубежом специалисты привозили оттуда примерно такие же афишки, отличающиеся от лунинских, может, только лучшим качеством бумаги и оформления. Среди множества хранимых в отделе информации листков-сувениров, реклам и буклетов некоторые также содержали стихи. Например, такие:
Я вам скажу, как строгий ментор,
Снимая с лампы абажюр:
Вы – идеальный квинтэссентор,
И элегантен ваш ажюр.
Далее следовало нечто вроде свободного перевода этих строк на французский и, не менее свободного – обратного, на русский. Получалось довольно неожиданно:
С запасом фраков и жилетов,
Шляп, вееров, плащей, корсетов,
Цветных платков, чулков à jour,
С ужасной книжкою Гизота,
С тетрадью злых карикатур…
С bon-mots парижского двора,
С мотивами Россини, Пэра
Et cetera, et cetera.
В качестве резюме фирма или торговая организация предлагала потенциальному клиенту свои многочисленные услуги. Компьютерную технику и разнообразные услуги, с нею связанные, сбывали на мировом рынке под поэтическим соусом.
Посмеявшись приличия ради вместе со смешливыми иностранцами и вежливо распрощавшись с ними, Сергей Павлович отправился домой, накрепко замкнул дверь кабинета, опустился в любимое отцовское кресло, прикрыл глаза, расслабился, сосредоточился и трижды, с пятиминутными паузами, медленно продиктовал уже известную фразу. После этого он, преодолевая изнурительную усталость, поспешил в Машинный зал, надеясь попасть туда прежде, чем очередной рулон с текстом поступит на редакторскую обработку. Под первым же благовидным предлогом Сергей Павлович осмотрел все записывающие устройства и наконец обнаружил то, что искал. Продиктованная им фраза снова была отпечатана – на этот раз трижды с красной строки и через равные интервалы, заполненные каким-то химическим текстом.
Обретя неограниченную власть над машиной, Сергей Павлович получил возможность ставить свои опыты, не опасаясь более разоблачений. Чтобы вполне самоопределиться и понять, к какому все-таки виду магии они примыкают, Сергей Павлович извлек из отцовского книжного шкафа реликтовый фолиант в старинном кожаном переплете, где на немецком языке описывалась жизнь и деятельность рационалиста Абеляра, преподавателя Парижского университета. Книга эта, купленная за бесценок Пал Палычем в лихие годы, когда даже великие произведения искусства можно было приобрести на обычную профессорскую зарплату, повествовала о покаянии злосчастного мага в своих грехах после того, как его внуки, неосторожно завладев колдовскими книгами, были растерзаны дьяволом. И хотя у Сергея Павловича не было внуков и с дьяволом, в отличие от Абеляра, он трудового соглашения не заключал, да и не так уж хорошо разбирал старонемецкий текст, ему тем не менее сделалось страшно, и несколько дней после этого он не производил никаких парапсихологических опытов, ограничиваясь одними химическими.







