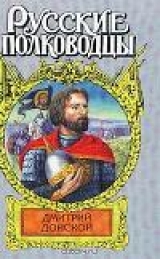
Текст книги "Зори над Русью"
Автор книги: Михаил Рапов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 58 страниц)
– Скажи мне, поп, почему вы, русы, до сих пор русы?
Сперва после такого вопроса митрополит подумал, что и этот ордынец от царского пира еще не очухался, но нет, Челибей тверд в ногах и, видимо, головой ясен.
– Кем же нам быть прикажешь?
—Кем быть? Почему были булгары, стали татары, были кыпчаки – тоже стали татары, а вы, русы, все русы?
– Брешешь! Лишь по имени стали кыпчаки татарами. Вот ты, батырь, монгол чистых кровей, а по–монгольски, чаю, говоришь худо. Половецкая речь у тебя. Ну, а нам половецкий обычай перенимать не пристало, ибо темный и дикий он, а ваш и того темней. Чему же нам у Золотой Орды учиться?
Челибей, потемнев от гнева, схватился за рукоять сабли.
– Успеешь меня зарубить. Вся и беда в том, что даже то доброе, что было у вас, вы в своих юртах попрятали. Воров у вас не было, меж собой жили полюбовно, без драк, без пьянства, лжи татарин не ведал, в любую сечу шел бесстрашно, лишь бы хан приказал, а разве мы видели это? Не было такого зла, коего против нас вы не оборотили. Друг с другом были добры, к нам люты, лютее волка, коварней рыси, ядовитей, смертельней змеи всегда был для нас ордынец. Чего же ты хочешь от нас? А ныне и подавно учиться у вас нечему. Может, где в дальних кочевьях доброе–то и живо, а у вас здесь – слышишь?
Из пиршественной залы доносился шум обычной в конце пира пьяной драки.
Челибей стоял, тяжело опустив голову. Тяжелые мысли о том, что Алексий говорит правду, и невольное уважение к этому бесстрашному старику против воли закрадывались ему в душу. Все еще не желая признать себя побежденным, он торопливо искал, что ответить, как возразить митрополиту, и нашел.
– Не хвастай, поп, самого главного нет и не было у вас – единства! Нет у вас на Руси своего Чингис–хана!
Накипело на сердце у митрополита, забыл об осторожности, резко, почти ударом, поднял он голову Челибея и, сблизив его глаза со своими, крикнул, уже не сдерживаясь:
– Единство! Ты скольких царей прикончил, двух али боле?
Челибей рванулся на Алексия: никто такого ему говорить не смел, но, увидев насмешку в глазах митрополита, сразу стал как вкопанный: пусть не думает поп, что он баатура Челибея взбесить сумел.
– Были у нас свои Чингис–ханы! – страстно говорил Алексий. – Был Олег Вещий, ладьями своими покрывал он Русское море. [100]100
Русское море – старинное название Черного моря.
[Закрыть]На вратах Царя–града [101]101
Царьград – так русские называли столицу Византии – Константинополь, ныне Стамбул.
[Закрыть]щит его! Был Святослав храбр, аки пардус, [102]102
Пардус – барс.
[Закрыть]князь–богатырь, князь–воин. В смертном бою его завет Русь вспоминает: «Мертвые сраму не имут». Были у нас Владимир Святой, Ярослав Мудрый – устроители, законодатели Русской земли. Не у Чингиса, у старых князей наших учимся мы поныне!
– Поныне? Я тебя понял, поп! Правду про тебя молва идет: неукротим ты и непокорство на Руси от тебя. Каких–то князей с великим Темучжином равняешь, а о том забыл, что волею его – Чингис–хана – вам, попам, мы честь воздаем и дани с вас не берем.
Алексий сразу стих, спросил, как будто даже спокойно, смирно:
– А знаешь ли ты, батырь, что написано в летописи нашей о чести, возданной в Орде победителю шведов и немцев князю Александру Невскому?
– Нет, этого не знаю, – просто ответил Челибей.
– Так узнай… – резко, непримиримо бросил ему митрополит: – «Злее зла честь татарская!» – И, отстранив баатура, твердым шагом вышел из дворца ханов Золотой Орды, оставив Челибея в глубоком раздумье. Уже на площади он оглянулся. Послушника сзади не было. Митрополит хотел вернуться, но тут резные ворота дворца распахнулись, и стражи вышвырнули послушника. Он покатился по земле, вскочил. Поперек лица у него шла глубокая царапина. Всхлипывая и утирая кровь, забормотал:
– Владыко, не гневайся. Последний сороковичок соболей отнял у меня тот вельможа, которому ты поперечил.
Митрополит вдруг засмеялся резким, дребезжащим смехом:
– Дивного в том нет, что тебя ордынский вельможа во дворце царском ограбил. Спасибо, живым отпустил. Иди, умойся.
Оборотясь к князю, он спросил:
– Долго ли царь Хидырь ярлык только сулить будет? Даст–то его когда, же?
– А он у меня, – ответил Митя, вытаскивая из–за пазухи скомканный свиток пергамента, – я его поглубже запрятал, чтоб царь не раздумал, назад не отнял, – добавил Дмитрий, стараясь поправить расколотую и смятую печать красного воска, подвешенную к ярлыку на шелковом шнуре.
Ордой, пирами, поклонами по горло сыт Дмитрий. Ярлык добыл и будет! С него довольно и вельмож ордынских, и царя их. На следующий день он поехал прочь, домой – в Москву. И лишь вечером, когда после переправы через Волгу отряд остановился на ночлег и княжьи люди начали шатры ставить, Дмитрий удосужился оглянуться назад.
С высоты правого, нагорного берега весь Сарай–Берке открылся, как на ладони.
Но не успел князь Дмитрий поглядеть на зелень садов, на купола мечетей, на тонкие столпы минаретов, как Семен Мелик тронул его за рукав:
– Не туда смотришь, княже. Эвон куда взгляни!
Внизу, по темным, лиловатым водам вечерней Волги, скользила вереница разукрашенных ладей. Пестрые паруса их цвели в закатных лучах небывалыми райскими цветами, а червленые щиты, прикрывавшие борта, алели густой яркой кровью.
– Семен, так это же суздальцы! – воскликнул князь. – Костянтиновичи! На первой ладье стяги их, Дмитрия и Андрея, а на другой – Ивана Белозерского. А дальше чей стяг, не признаю?
– Это Дмитрия Галицкого стяг полощется, – ответил Семка и хитро подмигнул Дмитрию: – За ярлыком князья едут!
Взглянув друг на друга, князь и воин весело засмеялись.
– Ярлык–то теперь у нас, опоздали!
– Не туда глядишь, Дмитрий Иванович, – сказал князю только что взобравшийся на верх обрыва молодой боярин.
Князь улыбнулся:
– Опять не туда? Куда же глядеть мне прикажешь, Федор Андреич?
– Смотри, что в степи творится, – ответил боярин.
Но сколько ни глядел Дмитрий и стоявшие вокруг бояре, в быстро темнеющей дали ничего не было видно, один боярин Федор божился, что к Волге подходят несметные конные рати, и лишь когда на дальнем мысу стали загораться бесчисленные искры костров, ему поверили.
– Кошачье око у тебя, боярин, – сказал ему Дмитрий, – во тьме и в дали видит. Отца твоего, боярина Андрея, Кобылой звали, а тебя, Федор Андреевич, я Кошкой отныне звать стану.
В ладьях тоже заметили костры и круто свернули к левому берегу, подальше от огней неведомого войска.
– Суздальцы берегутся, – заметил Семка.
– Береженого бог бережет, – ответил князь, – неведомо, кто там.
Вышедший из шатра митрополит Алексий посмотрел на дальние костры, на ладьи суздальцев и молвил:
– Полки эти крымского эмира Мамая: он давно грозил прийти в Сарай–Берке, кому иному там быть? – И, отвернувшись от огней, владыка Алексий обеими руками оперся на посох и стал смотреть в сторону града.
Быстро темнея, клубясь и спускаясь все ниже над столицей Золотой Орды, шли грозовые тучи. Поминутно вспыхивал лиловый огонь молний, сердитым рыком катились дальние раскаты грома.
Митрополит глядел как зачарованный. Налетавший порывами ветер играл его черной рясой, относил назад через плечо длинную бороду владыки, тот ничего не замечал, глядел и глядел на Сарай–Берке и невольно верил, хотел верить, что неспроста над ним разыгралась непогода, что неспроста клочья туч озаряются слепящими вспышками молний, неспроста зверем рычит над Золотой Ордой гром. Когда наконец первые тяжелые капли дождя упали и здесь, митрополит поднял посох и, указав им на тучи и город, сказал:
– Гнев божий над этим нечестивым градом! Вовремя выбрались мы из Вавилона сего.
Свет почти непрерывно сверкавших молний озаряя черную фигуру владыки, порождая жуткие отблески в его расширенных гневом глазах.
– Поберегись! – кричали ратники, бердышами [103]103
Бердыш – боевой топор с закругленным лезвием, на длинной рукоятке.
[Закрыть]расталкивая толпу: по улице шел обоз.
Народ теснился к заборам. Мальчишки лезли на крыши, спорили чуть не до драки, какой припас везут.
Не сторонясь, не замечая ничего, бродил Семка по толчее московских улиц, напрямик лез сквозь толпу, ненароком какую–то старушонку подшиб, та ойкнула, поднявшись с земли, заголосила вдогонку:
– Чтоб тебя! Чтоб самого так зашибли!
Семен не оглянулся, не слышал, шел, крепко задумавшись, лишь порой, когда мешали пройти, окольчуженным плечом прокладывал себе путь.
Думал об одном: «Не пора ли обет исполнять?» Еще в Троице отцу Сергию обещал поставить церковь–обыдёнку, [104]104
Обыдёнка, обыдённый – сделанный «об один день», т. е. однодневный.
[Закрыть]коли все хорошо будет. Сейчас, воротясь из Орды, Семен вдруг понял, что все у него хорошо, – испугался своего счастья.
Нечаянно занесло его на Неглинный верх; оттуда в эти дни звонкий гул шел по всей Москве. Над тихими водами речки Неглинной [105]105
Река Неглинная, или Неглинка, сейчас течет в трубе под ул. Неглинной, потом поворачивает направо, течет вдоль стены Кремля под современным Александровским садом, впадает в Москву–реку немного ниже Каменного моста. Мост от Кутафьей башни к Троицкой башне когда–то проходил над Неглинкой.
[Закрыть]лихие жили кузнецы; здесь тебе и шелом скуют, я кольчугу свяжут, и шестопер на дубовую рукоять насадят. Поднимаясь от реки, Семен забрел меж столбов, где коней куют, оперся на перекладину, задумался.
Стоявший под навесом кузнец оглянулся на него, хотел что–то сказать, но в это время подмастерье положил на наковальню раскаленную полосу металла.
Семен загляделся на работу кузнецов; следил, как под меткими, сильными ударами молота металл принимал знакомые очертания меча.
Кончив ковать, кузнец опять оглянулся на Семку, спросил деловито:
– Эй, дядя, тебя заместо коня подковать, что ли? Это можно! Козла подкуешь – коню легше…
Семка попятился, вылез из–за столбов, побежал прочь. Вслед хохотали молотобойцы, а у Семена не шел из головы только что виденный лиловатый от окалины меч. Понял: не раздумывать – спешить надо.
Дмитрий Иваныч в поход собирается – великокняжеский стол отвоевывать. В походе может быть всякое, в Семку вражьих стрел полетит немало: поставил его князь во главе сторожевой сотни.
Вернулся домой, вошел в новые, еще пахнущие смолой хоромы, снял кольчугу, торопливо, не вдруг попадая в рукава, надел кафтан, схватил шапку: загорелось парню скорее, завтра же срубить церковь, богу долг уплатить, а там и Настю можно из монастыря выручить, а там… Семка улыбнулся: после свадьбы и в поход идти веселее, и стрелы суздальцев не страшны.
Сперва Семен поладил с богомазами, потом пошел на лесной торг; здесь торговали строевым лесом и дранью, резали деревянное кружево для оконных наличников, коньков и причелин. Куда ни глянь, повсюду светлое, только что окоренное дерево бревенчатых стен. Срубы и клети, избы, целые хоромы с переходами, высокими резными крыльцами, со стрельчатыми кокошниками крыш стояли по всей площади как попало, громоздясь и налезая друг на друга.
Дробный стук нескольких десятков топоров спорил с мерной песней артели, тащившей на верх сруба тяжелое бревно, а несколько далее под веселые, предостерегающие крики рушили проданную избу, и бревна, скатываясь вниз, мягко ложились на землю, засыпанную на несколько вершков чешуей сосновой коры, красными скользкими волокнами оболони и остро пахнущей смолистой щепой.
Семен не сразу пошел плотников нанимать, сперва походил по площади, полазал по узким закоулкам между срубами, приглядывался к работе артелей, наконец решил подойти к одной: показалось, что эта артель бойчее других, да и староста артельный, здоровый рыжебородый мужик, с первого взгляда по нраву Семке пришелся: и весельчак и ругатель, значит, дело знает. Ишь, басит такое, что и не выдумаешь, – от его словес и топоры стучат звончее.
– Кто у вас тут старшой? – подходя к работавшим, спросил Семен.
– Дядя Петр, тебя кличут!
– Слезай, дядя Петр! – закричало сразу несколько голосов.
Рыжебородый воткнул топор в дерево, посмотрел на Семку прищурясь, оценивая, спросил сверху:
– Тебе чего, дядя, избу продать? То к купцу надо, а избы есть, сколько хошь, эвон они стоят готовенькие, под крышу подведенные. У нас без обмана, товар лицом показываем, выбирай только, а купишь – раскатить и обратно на месте собрать – наше дело.
– Нет, мастер, мне церковь по обету срубить надо, – ответил Семен.
Рыжебородый легко спрыгнул со сруба.
– Церкву, какую?
– Немудрящую такую, чтоб об один день поставить можно было.
– Обыденку, значит. – И, обратясь к артели, Петр спросил:
– Как думаете, робяты?
Плотники отвечали разноголосо:
– Валяй, дядя Петр, торгуйся!
– Дело святое.
– И выгодное.
Сговорились в нескольких словах, пошли покупать лес.
Купец схватился за шапку, косясь на Петра, потащил Семку к бревнам.
– Уж и лес у меня! Такого поискать! Сосна кондовая, сто лет простоит, почернеет только, а чтоб гнили – ни боже мой, вот на эстолько не будет!
Петр молча слушал купца, но, когда Семен взялся за кошель, он шагнул вперед, ухватив купца за ворот, потащил к бревнам:
– Ты што, толстосум, врешь? Где тута кондовая сосна? Эта?
Купец опять забожился, но артельщик залез на бревна, всадил топор в комель, легко повернул тяжелый кряж.
– А ну, купец, полезай сюды, это тоже, скажешь, доброе дерево? У кондовой сосны слой мелкий, оболонь малая, а это што? Нет у тебя хорошего дерева, пойдем, Семен Михайлович, дале.
Купец побежал за ними, как полагается, ухватил за полу, уговаривал, божился, но, пока хорошей сосны не показал, Петр был неумолим, а когда деньги были уже заплачены, он вдруг вернулся к купцу:
– Ты с кем связался? С плотником! Так помни: плотника на дереве не проведешь, помни! – приговаривал он, тряся оробевшего купца. Потом, довольный, точно и дело сделал, пошел с Семеном поглядеть место, где церковь ставить.
Тут досталось Семену. Петр загонял его, заставил шагами землю мерить, велел колышки вбивать, а сам, делая хитрые, ему одному понятные зарубки на палке, поглядывал на дорогу: не везут ли лес.
Когда бревна привезли, изругал возчиков – долго канителились, потом на прощанье строго наказал Семену:
– Завтра с рассветом будь, хозяин, на месте. Проспишь – плюну. Ищи другую артель. Топор захвати – подручным работать будешь.
Семка послушно кивал головой. Поспорь с таким, сразу видно – мастер!
Еще не просохла роса, когда столпы под церковь были готовы, рубили их клетцами, [106]106
Клетцы – небольшие срубы, служившие фундаментами сооружения.
[Закрыть]для пущей верности в две стены.
Семка, не жалея сил, лихо рубил топором, только щепа в стороны летела. Увидев, что Петр–артельщик поглядывает на его труды, Семка спросил с задором:
– Ну, мастер, как я с топором управляюсь?
Петр подошел, помолчал, переступил с ноги на ногу, в раздумье подмял под лапоть головку ромашки.
– Что ж, хозяин, работаешь ты, конешно, со старанием, а только, не в укор будь сказано, если бы мои молодцы так рубили, то церкву твою и завтра не кончить. Брось топор, иди берестой венцы прокладывать.
Семка стоял перед ним красный, опустив ненужный топор, а Петр, хлопнув его по плечу, забасил:
– А ты не робей! Береста тоже дюже нужна: она от гнили помогает,
Петра окликнули плотники, делавшие алтарные прирубы, он побежал на зов. Работы ему было много: везде угляди – чтоб бревна хорошо подобрали, чтоб связали их на совесть, чтоб уложили правильно. Поспевал он всюду, всюду его рыжая борода мелькала, был неутомим и весел. Лишь когда что–нибудь не ладилось, он хмурился и, бормоча, поспешно отходил в сторону.
Плотники ухмылялись, понимали – по привычке хотелось ему выругаться зычно с высоты сруба, так, чтобы далеко слышно было, а тут нельзя: церковь строили.
Береста шла на прокладку лишь нижних венцов, и, когда эта работа кончилась, Семка, стараясь не попадаться на глаза Петру, пристроился работать на выкалыванье досок.
Работа эта требовала и сноровки и силы.
Парень присматривался, как мастера по слоям выбирали бревно – чтобы кривощела не было, как намечали место, куда клип вбивать, прорубали желобок, потом, когда первая узкая щель шла по стволу, наставала очередь Семки. Обухом топора он бил наотмашь по клину, и щель, после каждого удара расширяясь, уходила все дальше, в нее загоняли новые клинья, пока бревно не раскалывалось до конца.
Едва отдышавшись, Семка начинал обкалывать доску с другой стороны. Отдыхать было не время: стены к полудню успели вырасти высоко, а досок на острую шатровую крышу еще не хватало.
Только в обед, усевшись между плотниками у котла с кашей, Семен понял, как он успел вымахаться.
После еды, когда артель отдыхала в холодке, начав на разные лады похрапывать, Петр остановился около Семкиной работы.
– Мало, хозяин, досок, что и делать, не знаю: и крышу крыть, и пол стелить, и на двери, и на крыльцо – всюду доска нужна.
Семка задумался.
– Вот что: давай бревна лишь с одной стороны обкалывать, так половинками бревен пол и застелем.
Петру этого только и надо было: работы вдвое меньше, а лесу пойдет больше, так ведь лес–то хозяйский, но сделал вид, что удивился Семкиной сметливости, разахался:
– А я–то, рыжий дурак, и того удумать не мог, ты, хозяин, хошь и плотник никудышный, а мужик хитрющий.
Эту похвалу принял Семен за чистую монету.
– Ты сам, дядя Петр, себе на уме, – ответил он артельщику, – как бревна–то подбирал: что потоньше, полегче, на верхние венцы положил.
Мастер забрал бороду в кулак и теперь уже бесхитростно, задумчиво поглядел на сруб, серые глаза его, отражая чистое небо, поголубели.
– Нет, Семен, тут другое! Высокий мы сруб сложили?
– Еще бы не высокий!
– А кажется он еще выше, чем на самом деле. Ты вот знаешь, что наверху бревна тоньше положены, а око наше того не ведает: для него все бревна равны, а если вверху бревна тоньше, так оку нашему храм твой выше казаться будет.
Семен с изумлением смотрел на только что срубленные стены. Просто и премудро!
А Петр говорил без конца, любовно про то, как он на простую четырехстенную избяную клеть восьмерик поставит, а потом шатер, как высоко–высоко в небо будет поднята чешуйчатая главка.
– Ты, Семен, о премудрости обмолвился. Какая же тут премудрость? Ставим по старине, попросту, как от дедов пошло, сверху донизу храм одним топором срубим.
Слова его были прерваны конским топотом. Княжой отрок осадил коня, подняв облако пыли, и крикнул:
– Семен Михайлович, к князю скорее: неладно там наверху. – Ускакал дальше.
Семка взглянул на стройку и перевел сокрушенный взгляд на Петра, тот, поняв его, добродушно подтолкнул и сказал:
– Беги в кремль, хозяин, о церкви не печалься, без тебя к вечерне закончим, без тебя и вечерню отстоим, беги.
Как был, в лаптях, в пропотевшей рубахе из небеленого полотна, прибежал Семка в кремль.
В думе боярской митрополит читал вслух письмо саранского епископа: «…и бысть в Орде замятия: убиен бысть царь Хидырь от сына своего Темир–ходжи, и сяде на царство он на четвертый день, а на седьмой день царства его тёмник [107]107
Тёмник – воевода над тьмой – десятью тысячами.
[Закрыть] его Мамай замяте всем царством его.
Побеже Темир–ходжа за Волгу и тамо убиен бысть, а князь Мамай прииде за Волгу на горнюю сторону и орда вся с ним, и царь бе с ним Авдула именем.
А иные князи сарайские затворишася в Сараи, царя у себя имеюще Мурата, брата Хидырева.
А князь Андрей Костянтинович побеже в то время из Орды, и ударись на него князь ордынский Рятюковь, но слух есть, поможе бог князю Андрею, прибеже на Русь здрав.
Тогда же князей ростовских во Орде пограбиша, пустиша на Русь нагими…»
Когда митрополит, переводя дыхание, на минуту смолк, Семен взглянул на князя; тот сидел на лавке, на коленях у него лежал пергамент, в котором Семен узнал ярлык, теперь уже бесполезный ярлык на великое княжение.
Нахмурясь, сосредоточенно князь мял и комкал красный воск той самой печати, которую он сломал еще в Орде, спасая на царском пиру от Хидыря Хидырев ярлык.
Из Кремля Семка ушел лишь на следующий день: до утра ближние люди проспорили, к кому из двух новоявленных царей посылать киличеев, да так и не решили. Кто из них сильнее? Который другого задавит? Только гадать оставалось, а пока надо ухо востро держать, чтобы не прозевать, которому из царей кланяться. Подходя к дому, заметил Семен на крыльце человека – кому б тут быть, хоромы у Семки пока пусты, а незваный гость – хуже татарина.
Человек стоял в тени под высоким шатром крыльца, прислонясь к резному столбику, парню лишь плечо его да сурового полотна рубаху видно было.
Заслышав шаги, гость оглянулся. Семка узнал смоляные хмурые брови и белесые глаза, глядевшие прямо и пронзительно: «Некомат! Купец Некомат! Хозяин!»
Семка рванулся было вперед, хотел резво взбежать на крыльцо, но сдержался: был ему Некомат хозяином, да время то минуло, а ныне сотнику князя Московского, пожалуй, и не пристало перед купчишкой шапку ломать.
Семен взошел по ступеням не торопясь, степенно поздоровался с купцом, радушно позвал в хоромы. Зачем гость пожаловал, Семен не спешил спрашивать.
Некомат тоже помалкивал, да и дела у него особого не было, просто, приехав в Москву, прослышал он о Семке и вздумал через него в доверие к князьям московским влезть. С какой стороны к Семену подойти удастся, купец еще не знал, потому и молчал, выжидая.
Осрамился Семка – гостя в хоромы позвал и тут только вспомнил, что угощать его нечем: жил Семка бобылем.
Некомат, зорко следивший за парнем, сразу смекнул: что–то не ладно! Но вида не подал, а Семка, ругая себя чуть не вслух, полез в подполье, где у него бочонок меду был поставлен.
Присев перед ним, Семка выбил затычку. В свете фонаря сверкнула чистая сильная струя, ароматом солнечного меда наполнилась низкая тьма подклети. Семка забил пробку, подумал и выпил мед сам, потом, нацедив второй ковш, он быстро поднялся и с маху ударился теменем о матицу: подклеть была ему не по росту. Не утерпел, помянул черта, да и как не помянуть, когда шишка на башке вздулась! Потирая ее, Семен полез наверх и, входя в горницу, опять стукнулся головой о косяк.
«Вишь, нечистая сила, хоромы свои, а привычки к ним нет».
Некомат и это подметил, а Семка поднес ему ковш, просил откушать и за скудость простить.
Принимая угощенье, гость взглянул – ковш богатый, в серебро оправлен, хорошего мастера работа, да и вся утварь в хоромах у Семена новая, добротная, только навалена кое–как в кучу. Выпил, вытер усы. Тут бы за угощение благодарить да Семкины богатства хвалить, а Некомат вместо «спасибо» назло, чтоб язык Семке развязать, подзадорил:
– Бедно живешь, Семен, не по чину бедно.
Семка от слов Некомата нахмурился, глаза потемнели, однако ничего – сдержался.
Некомат и это на ус намотал: поумнел парень, раньше Семка удержу не знал, особенно после меда, да ежели подзадорить, беда!
Пришлось масла в огонь подлить:
– Для тебя, Семен, на Москве у князей, видимо, и казны не нашлось. Иди ко мне в работники, авось так нищё жить не будешь.
Семен, чуть прищурясь на Некомата, думал: «Не зря купец язвит. Неспроста! Какого ему лешего от меня нужно?» Трудна служба у князя, рассерчать бы сейчас в свое удовольствие, ан нельзя – беды натворить недолго: человек во гневе слеп. А все же обидно. И не сдержался, ответил купцу:
– Видимо, ты заплутался, Некомат. Я не боярин, не воевода. Куда там! Я простой сотник. Богачеством куражиться мне не пристало. Однако и роптать грех. Взыскан и обласкан не по чину. Князю Дмитрию я верен, и князь мне верит, потому и не забывает своей милостью.
– Аль деревеньку какую князь тебе пожаловал? – спросил, будто подсказал, Некомат – пора, дескать, просить деревеньку, но Семен подсказку пустил мимо ушей.
– Деревеньками князья московские швыряться не любят, да и рылом я не вышел, чтоб о деревеньке челом бить. [108]108
Бить челом – бить лбом о землю, т. е. кланяться, в переносном смысле – просить о чем–нибудь.
[Закрыть]Пожаловал меня князь иным.
Семен поднялся из–за стола, пошел в угол к поставцу, порылся в нем. Купец опять про себя отметил: «Никак поставец–то у него тисовый?» Сощурился, приглядываясь, потом вздохнул облегченно: «Нет, помстилось, а так – ничего, богатый у него поставец…»
Семен тем временем, захлопнув дверки поставца, вернулся к столу и бросил прямо на скатерть пару железных шипов.
– Древолазные шипы? – удивился Некомат.
– Они самые. Княжой дар. А вместе с шипами мне князь в своем заповедном Васильцевом стане, промеж Марьиной и Сокольничьей рощами, бортные угодья отвел. [109]109
Бортничество – сбор меда и воска в лесах, где в живых деревьях выдалбливались дупла – борти, в которых селились пчелы. На дереве под бортью вырубалось «знамя» – знак собственности, право на которую охранялось еще Русской Правдой. Сбор меда диких пчел постепенно перерастал в искусственное пчеловодство; еще до XIII века рядом с бортями стали применять ульи – колоды. Бортничество было важным промыслом в Древней Руси. Бортными угодьями под Москвой славился громадный Васильцев стан. В него входили Марьина и Сокольничья рощи, которые так назывались уже в XIV веке.
[Закрыть]
– Что ж, и сей мед с твоих бортей? – спросил купец, легонько щелкнув ногтем по ковшу.
– Сказал! Недосуг было мед сбирать. Только и успел на бортных деревьях свое знамя высечь, вот эдакое: стрела наискось, жалом вверх. Ну, там, где колоды висят, слазал на сосны, поправил, укрепил их, чурбаны подвесил – медведям на угощенье.
Некомат опять щелкнул по ковшу.
– Смотри, парень, после эдакова ковшика на дерево полезешь да спьяна заместо медведя с чурбаном и подерешься, сверзишься, сломаешь шею. Тоже мне бортник выискался. Пчелка любит степенных людей, а не таких вертопрахов, как ты. Вишь, и в дому у тя все вверх дном…
– Это ты зря, – отвечал Семен, – до ковша я не больно охоч, а что во дворе и в дому порядка у меня нет, то правда. Хозяйки в дому нет… а посему прошу милости пожаловать на свадьбу, авось тогда корить не придется, на свадьбе князья будут, так что в грязь лицом не ударим.
Некомату только того и надо было, сразу подобрел, убранство палат Семеновых хвалить начал и долго еще просидел у парня, вспоминая былое.
Хотя Семка за это время спускался к бочонку не раз и не два и под конец они оба еле лыко вязали, а все же холодная настороженность так и не покидала парня. Знал: купец шагу не шагнет без корысти – и наконец начал понимать, чего купцу от него надо было. В полдень, провожая гостя, Семен думал, глядя с крыльца ему вслед: «Попутал черт, позвал купца на свадьбу. Раззадорил он меня, хвастнуть захотелось! Обошла меня, дурака, старая лисица!»








