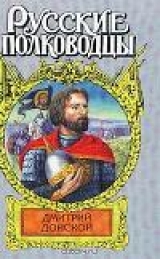
Текст книги "Зори над Русью"
Автор книги: Михаил Рапов
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 42 (всего у книги 58 страниц)
Два дня спустя, тоже вечером, к Владимиру подошла рать Тверского князя. Лиловато–синие тени сгущались в долине реки Лыбеди, лиловато–синие тени лежали на покрытых дерном крутых откосах валов. Далеко наверху суровыми громадами высились бревенчатые стены, темнела грузная, приземистая башня Медных ворот, и только острый шатер кровли над ней ярко пламенел, озаренный лучами заката.
Еще не доехав до пояса надолб, вкопанных в землю у подошвы вала, татарский посол бросил поводья. Закинув голову, он глядел на медно–красный шатер башни, потом засопел презрительно, крикнул:
– Эй, Софоний–толмач, сюда!
Переводчик подъехал, молча взглянул на мурзу. Лицо у толмача испитое, щеки, как два темных треугольных провала. Видно, никого не красит рабья доля, а когда–то был детина не из последних: высок и плечист. Был! А ныне, казалось, не человек – костлявый остов сидел на маленькой захудалой лошаденке.
– Это те самые Медные ворота, к которым мы должны были выехать?
– Те самые, мурза.
Сарыхожа затрясся от беззвучного смеха. Мотнул головой.
– Ай–ай! Ложь, бахвальство! Какие же они медные! Закатится солнце, и чешуя крыши потухнет. Деревянная она.
Переводчику давно опротивели разговоры мурзы, но не отвечать нельзя. Вздохнув, он сказал с зевком:
– То не чешуя, а лемех.
– Лемех? – Мурза беззвучно зашевелил сухими, шершавыми губами.– Лемех… Лемех… Что ты врешь? Лемех – это чем пашут, это у сохи. Это слово я по–вашему знаю.
– А не разумеешь. Гляди, шатер набран из узких дощечек, снизу каждая заострена, ни дать ми взять лемех.
Мурза принялся смеяться.
– Ну вы и земляной же народ. Шатер на башне лемехом покрывают. Диковина!
– Тебе, мурза, деревянный шатер, может, и в диковину, ну, а на Руси такие шатры обычны. С великим искусством их делают. Подумать, поглядеть – простая осина на лемех пошла и от непогод посерела, но днем, под солнцем, лемех стоит, словно серебряный, а в закатных лучах – как медный, но «Медными» ворота прозваны не за кровлю – за медную обивку ворот, вон в нее тверичи колотят, кулаки отбивают.
Действительно, тверичи старались, стучали, но только ворон разбудили. Птицы черной тучей поднялись над башней, с карканьем кружили в небе. Город молчал.
Отсвет заката потух на шатре башни, когда к мурзе подъехал князь Михайло. Даже в вечернем сумраке, даже издалека Софоний разглядел глубокую гневную морщину, прорезавшую сверху вниз лоб князя.
– Переводи! – приказал, будто ударил словом, Михайло Александрович. Видно, князь еле сдерживал гнев, но, обратясь к послу, заговорил иным голосом.
– Не прогневись на меня, мурза, не откликается нам стража Медных ворот. Перепились, наверное, дьяволы, и дрыхнут. – Князь погрозил башне кулаком. – Ужо разберусь… а сейчас придется нам к Орининым воротам ехать, в них постучать. Тут недалече.
Посол заворчал, но все же поехал за князем. К Орининым воротам подъехали в темноте, опять громыхали так, что, думалось, весь город должен всполошиться, и опять хоть бы кто в ответ голос подал, только псы брехали из–за стен.
Посол, сощурив и без того узкие глаза, глядел, как к нему опять подъезжал князь Михайло. Князь не доехал, соскочил с седла, поклонился поясным поклоном.
– Не клади гнев на меня, государь, не отворяют ворот, так заведено на Руси – после заката врата не открывать.
Мурза сопел, потом заговорил скрипучим голосом:
– Если бы с тобой были мужи, сокрушающие ряды врагов, и храбрецы, низвергающие их, врата были бы открыты. Мамай давал тебе орду, ты не взял.
– Проще простого взять орду, – горько усмехнулся князь, – а знаешь ли ты, посол, сколько казны за орду надо было отдать Мамаю?
– А тебя жадность одолела! Над златом, как пес над костью, сидишь.
– Было бы над чем сидеть. Где мне взять злато?
– Меха, мед, рабы – то же злато.
– С каких холопов или смердов я меха да мед возьму, кого в рабы поведу, если сам в Орду пришел изгнанником из Литвы.
– Нет казны, нет и орды!
– Знаю! Кабы со мной орда шла, я с владимирцами поговорил бы, а ныне… Ты уж не серчай, мурза, по моему приказу воины для тебя сыскали избу. Не в чистом же поле тебе ночевать.
Тревожно взглянул на Сарыхожу, тот как воды в рот набрал. Однако к избе поехал. Здесь князь Михайло подошел, бережно взял в руки стремя, чтоб помочь мурзе слезть с лошади. Навалясь всей тяжестью на плечо князя, посол сходил с седла не торопясь, а едва ступил на землю, сразу сварливо залопотал:
– Почему хозяин избы меня не встречает? Где хлеб–соль? Где полотенце расшитое?
«Вот и угоди послу. Ишь причуда – подавай ему хозяина с хлебом–солью, а откуда его возьмешь, если хозяин, не дожидаясь гостей, ушел». – Так подумал князь Михайло и принялся Сарыхожу уламывать.
– Ты, государь, не кручинься, ты в избу ступай. Избенка невеличка, но жилая, добрая. Переводи, переводи, Софоний. Да не тараторь ты! Вежливей говори с послом царским. – Забежал вперед, открыл дверь. – Пожалуй, государь Сарыхожа, пригнись только, притолка низка.
Сарыхожа вошел, громко потянул носом и повернул к двери. Князь спросил, не скрывая тревоги:
– Аль что не по нраву?
– Щами пахнет!
– Щи пища добрая…
Мурза ничего не ответил, только поморщился, велел своим слугам ставить юрту, а потом бросил князю три слова:
– Вели избу крушить.
– Зачем?
– Костер жечь. Дерево сухое.
Не хотелось Михайле Александровичу так начинать свое княжение на Владимирском столе, но с мурзой не поспоришь. Избу пришлось ломать. Поднялась пыль. Сарыхожа отошел в сторону, позвал Софония.
– Отсюда до Золотых ворот далеко ли?
Софоний удивленно взглянул на посла.
– О Медных воротах я тебе сказывал, а отколь ты про Золотые проведал?
Сарыхожа разгладил тонкие, как крысиные хвостики, усы, свисавшие на голый подбородок, хитро подмигнул.
– Я вас знаю. Вы, русы, нас втихомолку варварами зовете. Спорить не буду: Мамай – варвар, новый хан – варвар, однако… – Посол сложил тонкие холеные руки на животе, надменно выпятил раздутое чрево… – Однако не все такие. Мне довелось видеть не только степи да кочевья. Бывал я в Египте, видел каменного льва с человечьей головой, видел каменные горы, сложенные над могилами древних царей… Этими руками… – посол расцепил руки и перед носом Софония пошевелил сухими пальцами, – я разворачивал свитки, в которых записана мудрость арабов. И о вашей земле расспрашивал я знающих людей. Хоть ты и грамотей и толмач, а варваром меня ты не назовешь. Завтра во Владимире я поеду на высокую гору смотреть каменных зверей на стенах собора… какого собора?
– Дмитриевского, [257]257
Дмитриевский собор в г. Владимире – замечательный памятник древнего русского зодчества. Построен в 1193—1197 гг. Наружные стены покрыты богатейшей резьбой по камню, в которой преобладают народные мотивы, характерные для резьбы по дереву.
[Закрыть]– тихо откликнулся Софоний.
Посол важно кивнул.
– Завтра я прикажу выломать каменного льва из стены собора, я увезу его в Орду.
«Вот варвар!» – ахнул про себя Софоний, а мурза продолжал похвальбу:
– Я всегда вижу странные и глупые обычаи чужих народов. Вот и сейчас. Скажи, зачем зажжены вон те костры? Видишь, один близко, другой на вершине дальнего холма, третий еще дальше.
Софоний молчал. Посол испытующе взглянул на него, заговорил с какой–то кошачьей вкрадчивостью:
– Молчишь, Софоний–толмач! Значит, я понял! Эй, Михайл–князь!
Михайло Александрович, точно ждал крика мурзы, вынырнул как из–под земли.
– Ослеп! – затопал на него Сарыхожа. Ткнул пальцем в сторону огней. – Какой град лежит там?
– Переславль.
– Переславль! А в нем полки Митри–князя! Не видишь, не видишь, слепец, здешние людишки о нас москвичам весть подают!
Князя как и не бывало у костра, только топот конский утонул во мраке. Мурза не успел еще остыть, а князь уже вернулся, с ним конники. С седла сбросили перед мурзой связанного старика.
– Взят у костра, – кивнул князь, – допрашивай его сам! Софоний, переводи!
Софоний подошел, помог связанному подняться, сесть.
– Отвечай, дедушка, как звать тебя?
– Русские люди зовут дедом Микулой.
– Спроси его, кому он о нас весть подавал?
– Скажи, кому ты о них… – Софоний кивнул на мурзу и на князя, стоявших рядом, – весть подавал?
– Великому князю Митрию Ивановичу.
Князь Михайло пнул старика в грудь, Микула повалился, охнул.
– Кто тебе приказал? Кто приказал?
Старик поднял светлые, выцветшие глаза и в ответ на бешеные выкрики князя ответил с силой:
– Приказал мне стольный град Владимир! Мы, владимирцы, князю Московскому крест целовали на том, что тебя во Владимир не пустим, а ты… пришел не зван, уйди не гнан… а то… прогоним!
Княжья плеть взвилась над стариком и… повисла в воздухе.
– А то прогоним, – повторил князь Михайло и, швырнув плеть в огонь, ушел во тьму.
Сарыхожа никак не мог заснуть. Ворочаясь с боку на бок, он лениво почесывался, лениво думал:
«Душно в юрте, что ли? Или годы давят – старикам всегда не спится. Нет, не годы, блохи виноваты, великое множество развелось их в кошме».
Мурза сел, принялся скрести ногтями грудь, потом плюнул, надел халат и вышел из юрты. Тьма становилась прозрачней: близок рассвет, но и в этот глухой час костер горел ярко.
Два татарских воина сидели перед огнем, один шевелил палкой угли, струйки искр улетали вверх. Увидев Сарыхожу, воины вскочили. Он подошел, вглядываясь.
«Оба бодры, караулят по закону Чингиса».
Хмыкнул удовлетворенно, спросил, позевывая:
– А где старый рус, пленник?
Воины удивленно переглянулись.
– По твоему приказу толмач увел старика рубить ему голову. Вот пайцзе твоя, нам ее Софоний отдал…
Мурза взвыл, коршуном налетел на воинов, вырвал из рук татарина щит, вырвал копье, с силой отшвырнул ордынца. Пайцзе, мелькнув серебряной рыбкой, упала в огонь, а мурза неистово колотил копьем по щиту. Со всех сторон сбегались ордынцы. Посол сломал копье, бил обломком, бесновался, кричал:
– Толмач украл пайцзе! Сбежал! Руса увел! Догнать их! Содрать с живых шкуры!..
На берегу Клязьмы, на мокрых камнях, лежал Софоний. Услышав звон щита, он приподнялся на локтях, прошептал:
– Уходи, Микула. Почто двоим погибать.
Дед и головы не поднял, ощупывая ногу Софония, бормотал:
– Эк угораздило тя ногу свернуть. Да и то сказать – камни склизкие, в воде их не видно. Ночью, вброд… Долго ли до греха. Терпи, терпи, стонать не моги. Мы ее выправим.
Софоний скрипнул зубами, когда дед сильным рывком поставил кости на место. Из–за Клязьмы неслись крики, собачий лай.
– А ну вставай!
Дед силком поднял Софония, тот осторожно ступил на больную ногу и, не сдержав стона, ничком повалился на берег. Дед только головой покачал, взглянул на мелькающие вдали факелы и пробормотал:
– Так и пропасть недолго, – старческой, мелкой рысцой потрусил прочь. Софоний с тоской посмотрел ему вслед, закрыл глаза. «Уползти бы! Сил нет! Собаки на том берегу до воды дойдут, а там заплутаются. Все равно, рассветает – найдут… Будь что будет! Да вот уже и шаги близко… Быстро сыскали…»
Софоний так и не открыл глаз, пока над ним не прозвучал тихий оклик Микулы:
– Давай к воде! Я потащу, а ты здоровой ногой подпирайся, да нишкни ты. Не дай бог, услышат. Я челн добыл. Давай, давай, подпирайся, тащить мне тя не под силу…
Софоний тяжело перевалился через борт прямо в воду, плескавшуюся на дне челна. Дед проворно оттолкнул хлипкую посудину, взгромоздясь на корме, принялся быстро работать веслом.
Софоний шевельнулся. Челн сразу черпнул бортом.
– Лежи! – цыкнул Микула. – Ты эдак нас утопишь, челн верткий, долбленка.
– Куда мы плывем?
– Обратно, на тот берег. Под носом у ордынцев проскочим, а там и Волжские ворота недалече.
– Не пустят нас. Князь Михайло и в Медные и в Оринины ломился, не открыли ему врат.
– Молчи! Аль те невдомек, потому нас и пустят, что князя не пустили.
Софоний ухватился за борт, преодолевая боль, сел на дне. Глядел на близкие факелы ордынцев. Дед беззвучно греб. Время от времени и он поглядывал назад, но не на татарские огни, а на слабо мерцающую точку второго маячного костра.
«Ванька там! Молодец, внучек, костра не потушил», – думал дед и чуть кивал головой в лад взмахам весла, а может, в лад своим думам.
Но Ваньки у костра не было. Завидев, что костер деда Микулы потух, он пошел к нему и сейчас стоял у холодного пепла. В сером предрассветном сумраке можно было уже разобрать, что костер не сам потух, а затоптан. Пригнувшись, Ванька принялся разбираться в путанице следов.
«Вот здесь деда волокли, здесь след обрывался, а рядом следы от подков, значит, на коня подняли…»
Ваня не успел выпрямиться, на плечи упал аркан, стянул руки. Веревка змеиным движением скользнула в траве, рванула, опрокинула навзничь.
До слуха дошел окрик:
– Тот, второй, костер потушить!
Откуда было знать парню, что сам князь Михайло кричал о его костре.
С Ярилиной плеши [258]258
Ярилина плешь – вершина Ярилиной, или Александровой, горы, высокого холма на северо–восточном берегу Плещеева озера. В древности – место поклонения языческому богу солнца Яриле, позднее – загородная резиденция Александра Невского во время его княжения в Переславле–Залесском.
[Закрыть]была видна вся круглая чаша Плещеева озера. По темно–синей воде, покрытой пенными беляками, быстро летели тени облаков. Там, где в озерном просторе отражались лучи солнца, вспыхивали тысячи искр. Князь Владимир Андреевич, взглядывая на озеро, невольно жмурился от этого бегучего блеска. Ветер с озера теребил его светлые волосы. Шлем князь снял. Рядом, около потухающего костра, стояли Дмитрий Иванович и воевода Боброк.
– Значит, – расспрашивал Боброк мужика дозорного, – ты увидел, что соседний костер потух, и свой потушил. Как он потух – сразу или просто прогорел?
– Нет, Митрий Михайлович, не прогорел костер, светил ярко, глядь – нет как нет. Потушили. Ну и я на свой две бадьи вылил.
Боброк задумчиво потер лоб, поглядел на мокрую золу костра.
– И с той поры ни огня, ни дыма?
– Нет, не было.
– А не прозевал?
– Да што ты, боярин, – начал сердиться мужик, – чего меня пытаешь? Сколько годов дозорную службу несу. Нет от града Владимира знаков, не обессудь.
Боброк помолчал, похмурился на свои мысли, наконец сказал:
– Тверичи с ордынцами к Владимиру подошли, а что дальше? Почему маячные костры потухли? Ужель владимирцы испугались и ворота открыли?
– Нет, – возразил Дмитрий, – владимирцам верю. Может, дозорных побили?
– Может статься…
– Тогда маяков ждать нечего, – вмешался в разговор князь Владимир и тут же сам себя перебил: – Вон из Переславля два конника скачут, не иначе гонцы. Э, да никак это Игнашка Кремень да Карп Олексин.
– Они, – согласился Дмитрий, – а за ними следом еще кто–то поспешает.
Гонцы мчались, не жалея коней. Еще с полгоры Карп закричал:
– В Переславль татары от посла Сарыхожи приехали, с ними тверской боярин, он татар уговорил сюда к тебе, княже, ехать. Спешат супостаты, а нас Семка Мелик послал в обгон, чтоб тебя упредить.
– Ладно, пусть едут, авось, и узнаем, почему костры потухли.
Боброк подошел с плащом.
– Надень, Дмитрий Иванович, не гоже послов встречать по–походному в простой броне.
Дмитрий Иванович проворчал в ответ:
– Много чести, – отстранил протянутый плащ и опустил вниз стрелку шлема, предохраняющую лицо от поперечных ударов, – пусть видят, что мы не шутки шутить вышли.
Глядя на него, и Владимир надел свой шлем, опустил стрелку по–боевому.
Поднимаясь в гору, послы перевели лошадей на шаг. Одолев подъем, остановились: ждали – князья подойдут, придержат стремя, помогут ордынским вельможам слезть.
Ни Дмитрий, ни Владимир не шевельнулись. Тверской боярин взглянул на ордынцев, те кивнули, боярин выехал вперед, не поклонясь, о здоровье не спросив, начал сразу:
– Посланы мы к тебе, князь Московский, от Великого князя Володимирского и Тверского и всея Руси Михайлы Александровича и от посла царева мурзы Сарыхожи. Скажи, Дмитрий Иванович, доколе еще терпеть твои беззакония? Великий князь ярлык на великое княжение привез, а владимирцы, твоего наущения послушавшись, в бесовской гордыне врата закрыли. Теперь расхлебывай кашу, как знаешь. Мурза Сарыхожа осерчал, зовет тебя во Владимир к цареву ярлыку.
Дмитрий несколько мгновений молчал, на него смотрели и враги и свои, ждали, что он ответит. Слегка побледнев, Дмитрий промолвил:
– Передай послу – к ярлыку не поеду!
Боярин откинулся на седле, отпрянул от такого слова, а Дмитрий продолжал негромко, но твердо:
– Передай Михайле Тверскому – на великое княжение его не пущу. – Выдернув меч наполовину из ножен, Дмитрий спросил: – Видал? Скажи о мече князю. – Со звоном бросил меч обратно в ножны.
– Передай мурзе Сарыхоже, да смотри передай, не слукавь, – ему, послу, путь чист, прошу его милость ко мне на Москву. Передашь?
– Передам.
– То–то! А соврешь, рано или поздно до тебя доберусь, тогда пеняй на себя и милости не жди.
– Но ярлык… – начал было боярин.
– Довольно! – перебил его Дмитрий. – Поезжай прочь. Бога благодари, что, уважая посольский чин, я твое невежество стерпел, когда ты о моем здравии спросить позабыл. Нечего поминать ярлык! Сказано: к ярлыку не еду!
Трясущимися руками дед Микула ударял стальным кресалом [259]259
Кресало – стальная пластинка, которой ударяли по кремню при добывании огня.
[Закрыть]по кремню. Звезды искр, летевших от огнива, казались под солнцем бледными, немочными, падали на трут, тухли. Дед терпеливо продолжал высекать огонь, наконец тонкая струйка дыма поднялась над трутом.
Раздув трут, он склонился над костром, зажег, потом запалил второй и, отойдя к северу на двадцать шагов, развел третий. Присев на чурбашек, посматривал вдаль.
«Ага! Запалил, – улыбнулся дед, увидав над лесом три дымных столба. – Побежали дымы ко граду Переславлю. Добро!..»
Вечером того же дня Фома ворвался в собор Спаса, где шла вечерня.
– Княже! Митрий Иванович! На Ярилиной плеши дымы!.. – рявкнул он на весь собор. Люди шарахнулись в стороны, дьякон оборвал возглас, уронил кадило. Угли и ладан рассыпались по майоликовому [260]260
Майолика – изделия из обожженной глины, покрытые непрозрачной глазурью. Пол Спасо–Преображенского собора в Переславле до 1626 года имел покрытие из майоликовых плит.
[Закрыть]полу. Князь вздрогнул, повернулся всем телом к Фоме, несколько мгновений смотрел на его потное, напряженное лицо, потом шагнул без разбора прямо на дымящиеся угли и, оставляя на желтых и зеленых плитах черные следы, пошел к выходу. Народ повалил за ним.
С переславского вала ясно были видны три дыма, поднимающиеся в тихое вечернее небо над Ярилиной горой. Не проронив ни слова, Дмитрий стоял, смотрел в проем заборола. [261]261
Заборолы – щиты из бревен или досок, устанавливавшиеся по верху стены для защиты обороняющих стену людей.
[Закрыть]Так же молча стояли на стене ближние люди князя. Наконец Владимир Андреевич нарушил молчание:
– Похоже на то, брат, что меч, который ты тогда только наполовину вытянул, князю Михайле знаком.
– И страшен, – вставил свое слово Боброк.
Владимир засмеялся:
– Именно страшен! Ушел Михайло Александрович от Владимира и, нас убояся, на полуночь подался, вон третий дым куда отодвинут.
Дмитрий будто ничего не слышал, молчал. Владимир наконец не утерпел, толкнул брата:
– Да скажи хоть слово. Уставился!
Дмитрий медленно провел тыльной стороной ладони по глазам.
– Мне за самовольство еще держать ответ перед Мамаем. Потому рано веселиться. Посла Сарыхожу, пока он на Руси, во что бы то ни стало надо на Москву залучить и купить, иначе и голову потерять недолго. Но кого послать за ним? Надо, чтоб муж был умудренный опытом, ибо Сарыхожа, как слышно, волк травленый.
– Пошли Боброка, – быстро ответил Владимир Андреевич.
– Нельзя! Дмитрий Михайлович здесь при полках нужен. Молодых бояр сейчас нет.
– Ты про кого?
– Ну, скажем, Бренко, он Москву блюдет, Кошка в Ростов Великий послан, Свибл Суздаль от князя Михайлы стережет. Кого послать?
– Пошли меня, княже господине, – выдвинулся вперед Василий Васильевич Вельяминов.
«Нельзя послать Вельяминова! Где ему с послом Мамаевым совладать, оседлает его Сарыхожа. Да и не дело: сын из Москвы в Тверь бежал, а отца послом к тверичам послать – разум потерять».
Но сказать так – врага нажить, пришлось найти отговорку.
– Не по годам тебе, Василий Васильевич, такой труд. Ехать придется быстро. Михайло Тверской не иначе на Волгу подался. Путь не малый.
Василий Васильевич с ворчанием отошел, а Дмитрий Иванович пошарил глазами, остановил взгляд на Захаре Тютчеве, скромно стоявшем поодаль.
– Ехать тебе, Захар!
Тютчев кратко передохнул, выпрямился, сдернул шапку.
– Спасибо за честь, княже!
Дмитрий Иванович повторил:
– Ехать тебе. Возьми для охраны сотню воинов. Зря с Михайлой не задирайся, однако и спуску ему не давай, а на Сарыхожу даров не жалей, волоки его в Москву.
Вельяминов стоял, тяжело опираясь на посох, вцепившись, что было силы, костлявыми руками в серебряный набалдашник. Пепелил гневным оком Захара. Будь его воля, этим самым посохом разразил бы он Тютчева. Но руки коротки… От этого еще горше стало. Словно клубок змей, копошились мысли:
«Боярину, тысяцкому отказал, а княжого писца, человека без роду, без племени, посылает к цареву послу. Легко ли! А Тютчев–то, Тютчев, рад, пес! Ишь стоит плечо о плечо с Семкой Меликом. Этому тоже давно пора посохом в морду ткнуть, тоже воевода выискался. Тать! Шпынь ненадобная!»
А Захар тем временем просил:
– Дозволь, Дмитрий Иванович, взять сотню Семена Мелика. Мы с Семеном дружим, оно как раз придется.
Князь засмеялся:
– У тебя губа не дура! Ладно, бери. Ребята лихие. В поход сегодня же.
– Я мыслю в Ярославле мурзу перехватить.
– Нет! Не поспеешь. Князя Михайлу без боя побили, он теперь борзо побежит. Иди прямиком на Мологу. Спеши.
Дмитрий вдруг подмигнул Тютчеву с веселой хитринкой:
– Пойдем сейчас дары для мурзы выбирать.
– Пойдем, княже.
Вельяминов, не шелохнувшись, глядел им вслед.
«И вечерню стоять не стал. Греха не боится Митя. Млад и глуп. Со смердами якшается…» Но тут взгляд Вельяминова упал на быстро спускавшегося со стены Боброка. «Со смердами? Нет! Вон Боброк, не то что боярин – князь, а в Москву на службу пришел и к Мите куда как близок. Значит, не в смердах суть, не в Захарке и Семке. Значит, он мне… не доверяет!»
Земля поплыла из–под ног боярина Вельяминова.








