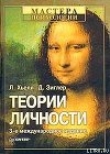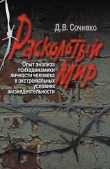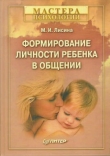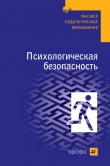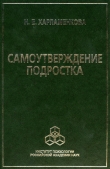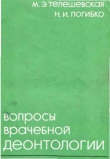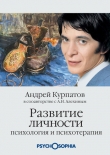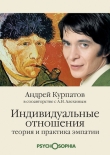Текст книги "Личностный потенциал. Структура и диагностика"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Поиск работы, карьера
сообщить о нарушении
Текущая страница: 55 (всего у книги 59 страниц)
Вот как формулирует Д. Магнуссон вариативно-паттерновый подход к развитию целостной личности: «Развитие индивидуальности обусловлено системами факторов, проявляющихся на разных уровнях. С течением времени происходит кристаллизация личности. Это означает, что развитие индивидов, системная организация которых в какой-то момент времени различается из-за отличия их конституциональных особенностей, зрелости и индивидуального опыта, на следующем шаге примет разное направление. Каждый шаг развития приводит к укреплению расходящихся альтернативных путей будущего развития и, возможно, к оформлению более четких “типов”, чем на начальных стадиях. Если этот взгляд верен, он должен найти подтверждение в более четкой гомогенизации с течением времени внутри образующихся категорий индивидов и в более четкой дифференциации между различными категориями <…> Индивидов можно рассматривать как относящихся к различным категориям, каждая из которых обладает своими характерными особенностями. На языке эмпирических данных каждая категория может быть описана через характерный паттерн факторных значений тех переменных, которые релевантны изучаемой проблеме. На основании сходства паттернов индивидов можно объединить в группы или подгруппы. Этот вывод задает основу для применения паттернового анализа в теоретических рамках личностного подхода» ( Magnusson, 1996, p. 6, 7; см. также Bergman, 1996; Magnusson, Törestad, 1993; Magnusson, 1995; 1997; 2003).
Вернемся к полученным нами данным. Паттерны такого рода представляют собой факторы 1, 2, 3, выделившиеся в подвыборке мальчиков (в сумме 46,5 % дисперсии), и факторы 2, 3, 4, выделившиеся в подвыборке девочек (36,8 %). И в той, и в другой подвыборке три указанных фактора отражают три разных варианта соотношения свободы и ответственности (внутренней опоры и интернальности), а в совокупности в них представлены все четыре теоретически возможных варианта их сочетаний. Это дает основание применить к нашим данным методологию паттернового анализа и говорить о четырех различных паттернах или гипотетических моделях развития самодетерминации в подростковом возрасте. Излагаемые ниже описания паттернов носят гипотетический характер; они, однако, согласуются как с нашими эмпирическими данными, хорошо объясняя их, так и с теоретическими гипотезами и типологическими и возрастными концепциями некоторых других авторов ( Rank, 1945; Loevinger, 1976).
Автономныйпаттерн – самый выраженный у мальчиков (фактор 1) и, напротив, наиболее слабо, но все же выраженный у девочек (фактор 4) – единственный, где мы видим признаки успешного разрешения подросткового кризиса, смещение движущих сил развития личности внутрь и формирование механизмов самодетерминации. Этот паттерн развития включает в себя стабильное позитивное самоотношение, внутреннюю опору, основанную на личностных ценностях и собственных критериях оценки ситуации, а также переживание персональной ответственности за результаты своих действий. Родители эмоционально принимают этих подростков без ограничения их автономии.
Симбиотическийпаттерн (фактор 2 у мальчиков и фактор 3 у девочек) содержит некоторые генетические предпосылки невротического пути развития личности. Эти подростки страдают от постоянного контроля и эмоционального отвержения со стороны матерей, отцы же считают их недостаточно взрослыми, чтобы с ними считаться и воспринимать их всерьез как самостоятельную личность. У таких подростков формируется нестабильное и в целом негативное самоотношение, зависимое от внешней, преимущественно родительской, оценки. Они чувствуют себя несвободными, но ответственными за реализацию ценностей, причем заданных извне, а не своих собственных. Это извращенная ответственность, квазиответственность. Возможной причиной появления такого паттерна развития в подростковом возрасте является страх ребенка потерять родительскую любовь, высказывая собственное мнение и протестуя против неограниченного влияния родителей. Родительское отношение, описанное для этого типа развития, может быть, в свою очередь, реакцией на взросление ребенка, переживаемое как «утрата». Риск оказывается непереносимым. Подросток отказывается от своей автономии для сохранения внешней поддержки, покупаемой ценою собственного Я.
Импульсивныйпаттерн в данном исследовании оказался характерным для мальчиков (фактор 3). У девочек он не проявился как типичный, что, разумеется, не означает, что в отдельных случаях у девочек не может проходить развитие по этому типу. Точно так же, конформныйпаттерн развития, выявленный в данном исследовании в группе девочек (фактор 2) и описанный ниже, может проявиться и у мальчиков. Общим для этих двух типов развития явилось диффузное нестабильное самоотношение и внешний локус контроля, то есть дефицит ответственности. Помимо расплывчатого и противоречивого представления о себе (в целом все же более позитивного, нежели негативного) и непринятия ответственности за события собственной жизни, импульсивныйпаттерн включал в себя внутреннюю опору в принятии решений. Родительское отношение при этом характеризуется попустительством со стороны матери, давлением и отсутствием личностной включенности со стороны отца. Для такого подростка свобода – это квазисвобода, она замещена импульсивным протестом, бунтарством, конфронтацией с другими. Эти подростки привязаны к себе, не склонны изменяться, не имеют четких идеалов, ими легко манипулировать.
Конформныйпаттерн, выявленный у девочек, характеризуется критериями выбора, заданными извне, а также ссылкой на внешние обстоятельства при оценке результатов деятельности. Родительское отношение в этом случае напоминает скрытое отвержение, выражающееся в формальном типе воспитания, основанного на стандартах «как все». Самоотношение этих подростков нестабильно, условно позитивно, однако, диффузно и зависит от внешних оценок. Эти оценки можно заслужить поведением «как надо». Такие люди могут быть вполне успешно адаптированы в жизни ценой безоговорочного принятия внешних требований.
Опыт психотерапевтической работы одного из авторов (Е.Р. Калитеевской) с подростками и взрослыми позволяет утверждать, что выявленные паттерны представляют собой отнюдь не искусственные конструкции, а, напротив, отчетливо видны у реальных клиентов; их необходимо учитывать в психотерапевтической и консультативной работе. Различные паттерны соответствуют различным клиническим проблемам, возникающим впоследствии у взрослых.
Более того, сложности самосознания и переживания своего бытия в мире взрослыми пациентами и клиентами зачастую оказываются связанными с неразрешенными задачами развития в подростковом возрасте. Часто термин «дезадаптация в подростковом возрасте» используется как синоним подросткового кризиса. Очевидно, что дезадаптация далеко не всегда свидетельствует о начале критических изменений в процессе развития. Безусловно, подросток, отстаивающий свою идентичность, порой вынужден противостоять своему окружению. Такие конструктивные конфликты в конечном счете позитивны для развития. Однако при поддержке и доверии родителей в здоровой психологически подготовленной среде подростковый кризис может и не сопровождаться выраженной дезадаптацией. В то же время отсутствие дезадаптации в подростковом возрасте также не может быть однозначно расценено как положительное явление. «Конформные» подростки могут выглядеть вполне адаптированными в стабильной социальной среде, срываясь при утрате внешних ориентиров. Находящиеся в «симбиозе» подростки могут при сильнейшем внутреннем напряжении демонстрировать внешнее благополучие. Протест их характеризуется сочетанием отчаяния, страха и бессилия. При этом срыв может последовать не в подростковом возрасте, а значительно позднее с приходом понимания бессмысленности жизни по чужому образцу. Их напряжение может проявляться, например, в различного рода психосоматических расстройствах, развитии тяжелых неврозов, депрессии. Случаются и крайние варианты отчаяния, вплоть до суицидального поведения. У «импульсивных» подростков может наблюдаться склонность к делинквентному поведению, а также к психопатоподобным реакциям, являющимся пародией на подлинную самодетерминацию, что неизбежно приводит к выраженной дезадаптации.
Таким образом, полученные данные дают основание предположить наличие четырех неодинаково успешных паттернов развития механизмов самодетерминации в подростковом возрасте, описанных выше как автономный, симбиотический, импульсивныйи конформныйпаттерны. Они соответствуют четырем возможным вариантам соотношений свободы и ответственности, оцениваемых по бинарной шкале (развито/неразвито); им сопутствуют характерные профили самоотношения и отраженного родительского отношения, хорошо согласующиеся с имеющимися представлениями о механизмах личностного развития.
Исследование 2:
Паттерны развития, осмысленность жизни и дезадаптация
Цель и организация исследования
Задачей исследования Е.Р. Калитеевской, Д.А. Леонтьева, Е.Н. Осина, И.В. Бородкиной (2007) стала проверка обоснованности ранее описанных четырех паттернов личностного развития с использованием другой методологии обработки данных. Дополнительной задачей исследования стало выявление взаимосвязей между указанными паттернами и мерами психологического благополучия и приспособленности. В предыдущем исследовании выводы о том, какие из паттернов являются более здоровыми и способствующими развитию, а какие нет, делались на основе чисто теоретических соображений; очевидна важность подкрепления этих выводов эмпирическими данными.
В исследовании использовались следующие методики:
1. Самоактуализационный тест (САТ – Гозман, Кроз, 1987). Основная шкала этого опросника – шкала опоры (поддержки) – интерпретировалась нами как мера свободы.
2. Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК – Бажин, Голынкина, Эткинд, 1993). Шкалы интернальности этого опросника использовались нами в качестве меры ответственности.
3. Методика исследования самоотношения (МИС – Пантилеев, 1993).
4. Тест смысложизненных ориентаций (СЖО – Леонтьев, 1992): общий показатель осмысленности жизни выступал мерой психологического благополучия. Субшкалы в анализе не использовались.
5. Опросник приспособленности Белла ( Рукавишников, Соколова, 1993), включающий шкалы трудностей адаптации к семье, проблем в сфере здоровья, субмиссивности, враждебности и повышенной эмоциональности.
Респондентами в данном исследовании выступали 70 московских школьников – 25 юношей и 45 девушек, ученики 10 и 11 классов, разбитые на две возрастные подгруппы (14–15 лет и 16–17 лет). Сбор данных осуществлялся в 1991 г. Подгруппы были уравнены как по количеству испытуемых, так и по соотношению юношей и девушек в каждой подгруппе.
Обработка данных проводилась в системе StatSoft STATISTICA 6. Были использованы различные методы группировки испытуемых с целью поиска оптимального разбиения их на группы, наилучшим образом отражающие типичные паттерны индивидуальных особенностей.
В анализ были включены переменные, соответствующие шкалам всех количественных методик, кроме субшкал теста СЖО и общего показателя интернальности по УСК, исключенных с целью избежать двойного вклада пунктов этих опросников в дисперсию оценок.
Сравнивались модели размерностью от 3 до 6 групп, полученные путем факторного анализа стандартизованных баллов испытуемых и путем иерархического кластерного анализа сырых баллов с использованием методов полной связи и Уорда на основе Евклидовых метрик, а также кластерного анализа методом K-Means. Критериями выбора наилучшей модели были (1) репрезентативность, или максимальное соответствие другим моделям (количество испытуемых, попавших в содержательно сходные группы, подсчитывалось путем составления таблиц сопряженности) и (2) возможности содержательной интерпретации.
Результаты и их обсуждениеНаилучшей была признана модель из 4 кластеров, полученная методом Уорда (Ward’s Method) на основе Евклидовых метрик, что согласуется с классическими работами, показывающими хорошую репрезентативность этого метода (см. например, Milligan, 1981).
 Рис. 1.Дерево кластеризации, полученное методом Уорда
Рис. 1.Дерево кластеризации, полученное методом Уорда
Испытуемые распределились по четырем кластерам следующим образом (см. табл. 1).
Таблица 1
Половозрастное распределение испытуемых по кластерам 
Для проверки устойчивости полученной модели мы провели раздельный кластерный анализ на подвыборках юношей и девушек, а также в возрастных подгруппах с использованием того же метода, что и на общей выборке. Распределение испытуемых по кластерам, полученным на каждой подвыборке, сравнивалось с их распределением по кластерам, полученным на общей выборке, путем составления таблиц сопряженности. Если испытуемые, попавшие в один и тот же кластер на общей выборке, также попадали в один и тот же кластер на подвыборке, мы считали данный кластер, полученный на подвыборке, содержательно соответствующим кластеру, полученному на общей выборке. Результаты кросс-табуляции представлены в таблице 2, в каждой ячейке которой указано количество испытуемых, попавших в содержательно соответствующие кластеры на подвыборке и на общей выборке. Классификация оказалась достаточно устойчивой относительно переменной пола: 22 из 25 юношей (88 %) и 39 из 45 девушек (87 %) попали в кластеры, содержательно соответствующие кластерам общей выборки. В младшей возрастной подгруппе в кластеры, содержательно соответствующие полученным на общей выборке, попали 26 из 35 испытуемых (74 %). В старшей возрастной подгруппе четко разделить кластеры 1 и 2 не удалось, в результате чего было принято решение объединить их, и 34 из 35 испытуемых (97 %) оказались в содержательно соответствующих кластерах.
Таблица 2
Соответствие между кластерами, полученными на общей выборке и на подвыборках 
С целью выявления шкал, которые внесли вклад в классификацию, значимость различий между четырьмя полученными кластерами проверялась с помощью непараметрического критерия Краскала – Уоллиса. Значимые различия (p<0,01) показал общий показатель осмысленности жизни по тесту СЖО, 7 из 9 шкал МИС, шкалы субмиссивности и эмоциональности опросника приспособленности Белла, все, кроме одной, шкалы УСК и 8 из 14 шкал САТ. Для получения более точной информации об отличиях каждого кластера от остальных значимость различий между кластерами проверялась также попарно с помощью непараметрического критерия Манна – Уитни. Полученные результаты представлены в таблице 3 и подробно рассматриваются ниже.
Таблица 3
Значимость различий между полученными кластерами 
 Примечание: **– p<0,01; *– p<0,05.
Примечание: **– p<0,01; *– p<0,05.
Первый кластер характеризуется чрезвычайно низкими показателями осмысленности жизни (в особенности по шкалам «Процесс» и «Результат»). У представителей этого кластера диффузный локус контроля, за исключением выраженной экстернальности в межличностных отношениях: они отказывают себе в способности влиять на отношение к себе со стороны других людей. У подростков этого типа затруднена адаптация в семье; их самоотношение выраженно негативное: наблюдаются низкие баллы по шкалам самоуважения, отраженного самоотношения и, в особенности, самопринятия, в сочетании с высокими значениями внутренней конфликтности и самообвинения. Они в высокой степени склонны к субмиссивности и очень эмоциональны (высокие баллы по этой шкале опросника Белла могут свидетельствовать как о подавлении собственных эмоций, так и о неспособности контролировать их выражение). Учитывая также низкие баллы по основным шкалам САТ (ориентация во времени, поддержка, ценностные ориентации), мы получаем образ зависимой личности: невозможность получения поддержки в рамках здоровых детско-родительских отношений затрудняет развитие автономии, стабильного самоотношения и индивидуальной системы ценностей. Этот кластер соотносится с симбиотическим паттерном развития ( Калитеевская, Леонтьев, 2006). Подростки, принадлежащие к этому типу, чувствуют ответственность за реализацию ценностей, навязанных им авторитарными родителями, и вынуждены платить ограничением своей автономии за поддержку с их стороны.
Характерной особенностью представителей второго кластера является выраженный внешний локус контроля, причем интернальность в области неудач значительно превышает интернальность в области достижений, что указывает на негативное самоотношение. У этих подростков также довольно низкие показатели осмысленности жизни и баллы ниже средних по основным шкалам САТ. Их показатели приспособленности по опроснику Белла приближаются к средним, однако данные МИС говорят об их амбивалентном самоотношении: чрезвычайно низкие баллы по шкале самоуверенности, низкие баллы по шкалам саморуководства и отраженного самоотношения в сочетании с самопринятием и самообвинением, превышающими средние, отражаются в высокой внутренней конфликтности. В целом картину этого кластера стоит интерпретировать как избегание ответственности, связанное, однако, с неуверенностью в собственных силах. Внешне эта неуверенность проявляется как робость и недостаток спонтанности, а высокий уровень самопринятия выглядит протестом, попыткой компенсировать эти особенности. Этот кластер соотносится с конформным паттерном развития ( Калитеевская, Леонтьев, 2006). Подросток с таким амбивалентным самоотношением вынужден упускать интересные возможности – ситуации, в которых он может проявить автономию, креативность, потому что неудачи, как правило, сильнее отражаются на его самооценке, чем успехи. Чтобы поддерживать позитивное самоотношение, он вынужден ограничиваться решением более простых, социально одобряемых задач, что и задает конформный паттерн.
Третий кластер выглядит более благополучным. Он характеризуется наиболее высокими баллами по шкалам САТ (особенно шкалы поддержки, ценностных ориентаций, гибкости поведения, самоуважения, самопринятия и синергии), а также по общему показателю осмысленности жизни. Низкие баллы по опроснику Белла указывают на отсутствие выраженных признаков дезадаптации. У этих подростков диффузный локус контроля и, в целом, позитивное самоотношение: высокий уровень самопринятия и самопривязанности (нежелание меняться) в сочетании с низкими самообвинением и внутренней конфликтностью. Все это, а также низкий уровень субмиссивности и тенденция к интернальности в межличностных отношениях, дает возможность интерпретировать этот паттерн как картину борьбы за автономию и независимость. Этот кластер, в целом, соответствует импульсивному паттерну развития ( Калитеевская, Леонтьев, 2006). Следует отметить, однако, что он является гетерогенным и распадается на две подгруппы, значимо различающиеся по показателям приспособленности, самоотношения и самоактуализации.
Субкластер 3а (N=15) характеризуется низкими показателями дезадаптации, высокими баллами по основным шкалам САТ и по тесту СЖО, а также высоким уровнем самопривязанности. Обращает на себя внимание интернальность в области достижений в сочетании с экстернальностью в области неудач, а также интернальность в области межличностных отношений. В целом, это картина психологического благополучия и удовлетворенности собой, связанного, вероятно, не столько с собственными усилиями субъекта, сколько с благополучной семейной средой и, следовательно, зависящего от стабильности этой среды. С другой стороны, видимое благополучие этого субкластера может быть связано с такими эффектами социальной желательности, как самообман и защитное вытеснение, которые представляют собой характерные особенности самопрезентации нарциссической личности ( Paulhus, Reid, 1991; Paulhus, 1998).
Картина субкластера 3б (N=10) выглядит менее ясной: высокие показатели дезадаптации (в особенности семейной) в сочетании со средними баллами по основным шкалам САТ (с выраженным стремлением к спонтанности и низким уровнем самопринятия) и показателями СЖО, превышающими средние. По показателям локуса контроля и значительной части показателей самоотношения он не отличается от субкластера 3а. С формальной точки зрения, он не должен относиться к импульсивному типу, в силу сравнительно низких показателей по шкалам САТ.
Четвертый кластер также выглядит благополучным, с такими же высокими показателями осмысленности жизни и такими же низкими показателями дезадаптации. Характерная особенность представителей этого кластера – ярко выраженный внутренний локус контроля. У них стабильное позитивное самоотношение: высокие показатели открытости, отраженного самоотношения, самоуверенности и саморуководства, средний уровень самопринятия и самопривязанности, но особенно низки показатели внутренней конфликтности и самообвинения. Показатели по шкалам САТ средние или несколько превышают средние: по мнению Э. Шострома (см. Гозман, Кроз, 1987), именно показатели такого уровня (в районе 60 Т-баллов) характерны для самоактуализирующихся личностей, в то время как сверхвысокие баллы говорят о псевдосамоактуализации и могут быть в значительной степени обусловлены эффектами социальной желательности. Этот кластер следует связать с автономным паттерном ( Калитеевская, Леонтьев, 2006), объединяющим ответственность и свободу.В целом, полученные кластеры обнаруживают принципиальное сходство с четырьмя паттернами развития, описанными ранее ( там же, 2006). Основанием для выделения паттернов развития являлось соотношение свободы и ответственности, и все четыре возможные комбинации распределились между кластерами, описанными выше.
Таблица 4
Интерпретация паттернов развития через соотношение свободы и ответственности 
Свобода и ответственность, операционализированные как внутренняя опора и интернальность, интерпретируются нами как факторы, определяющие паттерн развития. Поскольку в данном исследовании мы опирались на эксплораторный, дескриптивный подход, предполагающий выделение паттернов на основании целого набора переменных, релевантных развитию и адаптации, с последующим поиском различий между полученными паттернами, подобная интерпретация требует дополнительного эмпирического обоснования, опирающегося на конфирматорные методы и выборки значительно большего объема.
С целью получения предварительных данных в пользу того, что соотношение свободы и ответственности является достаточным условием для выделения описанных нами паттернов (то есть что показатели внутренней опоры и интернальности могут выступать независимыми переменными), мы провели повторную кластеризацию испытуемых тем же методом с использованием в качестве исходных данных только общего показателя интернальности по УСК и шкалы поддержки САТ. Полученная модель из четырех кластеров показала хорошее соответствие описанной нами выше: в кластеры, однозначно соответствующие выделенным ранее, попали 55 из 70 испытуемых, или 79 % выборки. Содержательная интерпретация новых кластеров, также полученная с опорой на значимые различия по шкалам всех использованных методик, существенно не отличалась от приведенной выше.Рассматривая полученные кластеры с точки зрения критериев адаптации и психологического благополучия, следует отметить, что кластеры 3 и 4 демонстрируют очевидно более благополучную картину, чем кластеры 1 и 2; при этом различия между кластерами 3 и 4 и между кластерами 1 и 2 по этим критериям невелики. Ранее ( Калитеевская, Леонтьев, 2006) было высказано предположение, что автономный паттерн является единственным здоровым паттерном развития, однако представленные данные не вполне согласуются с этой гипотезой: представители кластера 3, соответствующего импульсивному паттерну, демонстрируют не менее высокие показатели психологического благополучия. Следует отметить, что осмысленность жизни и показатели дезадаптации оказываются взаимно обратными во всех случаях, за исключением субкластера 3б. Очевидно, свобода выступает лучшим предиктором адаптации и осмысленности жизни, чем ответственность.
Возвращаясь к половозрастным различиям (см. табл. 1), следует отметить, что от кластера 1 к кластеру 4 возрастает доля представителей старшей подгруппы и доля девушек, что объяснимо более высокими темпами достижения ими психологической зрелости по сравнению с юношами. Тем не менее, в силу небольшого объема выборки, эти различия не являются статистически значимыми и требуют верификации.
Наиболее важным результатом второго исследования стало успешное воспроизведение четырех паттернов развития, теоретически описываемых концепцией самодетерминации и эмпирически выявленных в исследовании 1. Опираясь на несколько иной психометрический инструментарий и принципиально другие подходы к анализу, мы обнаружили, что среди подростков в возрасте от 14 до 17 лет можно выделить четыре группы, значимо различающиеся по показателям осмысленности жизни, приспособленности и самоотношения.
Полученные кластеры достаточно хорошо соответствуют положениям концепции, хотя это соответствие не является полным. С точки зрения концепции, автономный паттерн является единственным здоровым путем развития, однако приведенные результаты говорят о том, что импульсивный паттерн также характеризуется высоким уровнем психологического благополучия. Эта группа, однако, неоднородна: значительную ее часть составляют хорошо приспособленные индивиды с организацией личности, близкой к нарциссической, не склонные сообщать о наличии трудностей или проблем. Это не значит, однако, что их реальные взаимоотношения с другими людьми складываются так же гладко, как им хотелось бы, и что их благополучие окажется устойчивым в случае ухудшения внешних условий их жизни.
Полученные результаты, в целом, подкрепляют нашу концепцию развития личности в подростковом возрасте, однако ставят и ряд новых исследовательских задач:
Теоретические конструкты свободы и ответственности в обоих исследованиях были представлены, соответственно, шкалами внутренней опоры и интернальности, что является довольно условным приближением. Необходимы разработка и применение новых психометрических средств, которые позволили бы более точно операционализировать эти конструкты.
Дж. Лёвинджер ( Loevinger, 1976) в своей теории развития эго описывает симбиотическую, импульсивную, конформную и автономную стадии как четыре из шести основных диахронических стадий развития (см. настоящее издание, с. 59–75). Наш подход описывает сходные, по сути, структуры как альтернативные паттерны, воспроизводящие себя в ходе дальнейшего развития. Из этого рассогласования вытекает задача лонгитюдного исследования, призванного ответить на вопрос о том, в какой мере возрастное развитие связано с сохранением или с взаимным переходом выделенных паттернов.
Как явствует из полученных нами результатов, адаптация и психологическое благополучие могут быть связаны как с благоприятной ситуацией («социальной ситуацией развития»), вне зависимости от личных качеств субъекта, так и со способностью личности строить и поддерживать благоприятные ситуации и трансформировать неблагоприятные, опираясь на ресурсы своего личностного потенциала. Психологическое здоровье и зрелость, таким образом, связаны с двумя рядами факторов, влияющих на них как в положительном, так и в отрицательном направлении и взаимодействующих между собой; более того, здоровье, как и зрелость, – это не столько констатация некоторого актуального достигнутого уровня, сколько мера функциональной способности (компетентности) личности преодолевать заданные внутренние и внешние условия, становясь подлинным субъектом собственной жизни в меняющемся мире.
Исследование 3:
Паттерны личностного развития и психологическое благополучие подростков на новом историческом этапе
В данном исследовании ( Осин, Леонтьев, Буровихина, 2009), была поставлена задача, во-первых, проверить выделение выявленных ранее паттернов личностного развития на новой методической базе и, во-вторых, установить связь паттернов личностного развития с прямыми характеристиками субъективного и психологического благополучия.
В качестве основы для выделения паттернов использовались:
1. Русскоязычный опросник каузальных ориентаций (РОКО) ( Дергачева, Дорфман, Леонтьев, 2008), измеряющий выраженность трех локусов каузальности: автономного, внешнего и безличного. Для целей данного исследования была использована сокращенная форма опросника (полученная на данной выборке надежность каждой из трех шкал из 12 пунктов, измеренная с помощью альфа-коэффициента Кронбаха, составила не ниже 0,6). Автономная каузальная ориентация рассматривалась в данном исследовании как мера свободы.
2. Опросник «Уровень субъективного контроля» (УСК) ( Бажин, Голынкина, Эткинд, 1993). Учитывались лишь шкалы интернальности успехов и интернальности неудач.
В качестве дополнительных использовались следующие методики:
1. Шкала субъективного счастья С. Любомирски в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина, дающая экспресс-оценку переживаемого счастья (4 пункта).
2. Шкала удовлетворенности жизнью Э. Динера и др. в адаптации Д.А. Леонтьева и Е.Н. Осина, измеряющая обобщенную удовлетворенность жизнью в настоящем (5 пунктов).
3. Шкала личностного динамизма ( Сапронов, Леонтьев, 2007), измеряющая открытость респондента к изменениям, готовность принимать и инициировать их в собственной жизни (20 пунктов).
4. Тест смысложизненных ориентаций ( Леонтьев, 1992), измеряющий глубину переживания осмысленности жизни (20 пунктов).
5. Опросник психологического благополучия К. Рифф ( Шевеленкова, Фесенко, 2005), включающий 84 пункта, сгруппированных по 6 шкалам: Позитивные отношения, Автономия, Управление средой, Личностный рост, Цель в жизни, Самопринятие.
6. Подростковый вариант опросника «Профиль личностных достоинств» (ПЛД) ( Буровихина, Леонтьев, Осин, 2007), представляющий собой незавершенную русскоязычную адаптацию теста «Values in action», направленного на диагностику выраженности сил характера и добродетелей личности ( Peterson, Seligman, 2004; см. также настоящее издание, с. 79–91). Он включает 24 шкалы.
Выборку составили учащиеся 9—11-х классов (N=77) двух московских школ, в возрасте от 14 до 17 лет; количество юношей и девушек было уравнено. Сбор данных проводился в 2005 г. Учащимся предлагалось заполнить батарею методик в классе, чтобы получить впоследствии обратную связь; опросники подписывались настоящими именами испытуемых.
В ходе обработки данных баллы испытуемых по шкалам опросника РОКО и двум основным шкалам опросника УСК были стандартизированы, а затем подвергнуты кластерному анализу с использованием метода Уорда и квадрата Евклидовой метрики.
Была выбрана модель из 4 кластеров, различия между которыми проверялись с помощью дисперсионного анализа и оказались значимыми по многим из использованных нами шкал (см. табл. 5).