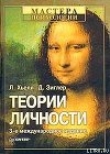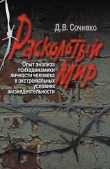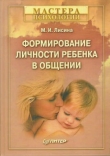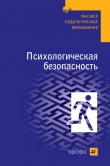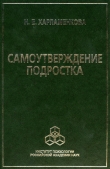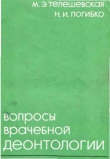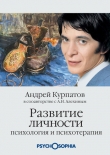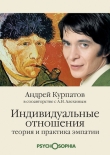Текст книги "Личностный потенциал. Структура и диагностика"
Автор книги: авторов Коллектив
Жанр:
Поиск работы, карьера
сообщить о нарушении
Текущая страница: 34 (всего у книги 59 страниц)
Рефлексия как характеристика человеческого существования
На качественно новом уровне проблема рефлексии была поставлена С.Л. Рубинштейном, исходившим из того, что человек находится внутри бытия, а не только бытие внешне его сознанию ( Рубинштейн, 1997, с. 9). «Первичное отношение – это отношение к миру не сознания, а человека» ( там же, с. 48). «В качестве субъекта познания <…> человек выступает вторично; первично он – субъект действия, практической деятельности» ( там же, с. 66). Эта общая онтология, которую позднее Ф.Е. Василюк (1984) назвал «онтологией жизненного мира», противостояла картезианской «онтологии изолированного индивида» и интроспективной психологии, в которой человек мыслился исключительно как субъект познавательного отношения; имплицитно развивая традиции Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Л. Бинсвангера и других философов экзистенциально-феноменологической традиции, она вводила в психологию представление о жизненном мире, с которым субъект изначально связан неразрывными узами.
Проблема сознания и самосознания, в том числе рефлексии, тем самым ставится по-новому. Сознание выступает как инструмент, орудие или орган личности, действующего субъекта. Отчасти этот тезис перекликается с характеристикой сознания как жизненной способности личности ( Абульханова, 2009), однако важно подчеркнуть не только момент «подчиненности» сознания личности, но и момент его произвольности, созидаемости, «искусственности» (М.К. Мамардашвили).
Принципиальное значение имеет различение С.Л. Рубинштейном двух способов существования. «Первый – жизнь, не выходящая за пределы непосредственных связей, в которых живет человек <…> Здесь человек весь внутри жизни, всякое его отношение – это отношение к отдельным явлениям, но не к жизни в целом. Отсутствие такого отношения к жизни в целом связано с тем, что человек… не может занять позицию вне ее для рефлексии над ней <…> Такая жизнь выступает почти как природный процесс» ( Рубинштейн, 1997, с. 79). «Второй способ существования связан с появлением рефлексии. Она как бы приостанавливает, прерывает этот непрерывный процесс жизни и выводит человека мысленно за ее пределы. Человек как бы занимает позицию вне ее» ( там же).
Ключевую онтологическую значимость рефлексии подчеркивает в своей концепции антропогенеза П. Тейяр де Шарден. «Рефлексия – это приобретенная сознанием способность сосредоточиться на самом себе и овладеть самим собой как предметом, обладающим своей специфической устойчивостью и своим специфическим значением, – способность уже не просто познавать, а познавать самого себя; не просто знать, а знать, что знаешь <…> Рефлектирующее существо в силу самого сосредоточивания на самом себе внезапно становится способным развиваться в новой сфере. В действительности это возникновение нового мира…» ( Тейяр де Шарден, 1987, с. 136).
В.И. Слободчиков и Е.И. Исаев констатируют, что рефлексивное сознание выступает границей, отделяющей человека от животных. Животное видит, слышит, чувствует окружающий мир, но не знает о своем знании. Благодаря рефлексии у человека возникает внутренняя жизнь и появляется способность управления своими состояниями и влечениями – свобода выбора. «Рефлектирующий человек не привязан к собственным влечениям, он относится к окружающему миру, как бы возвышаясь над ним, свободен по отношению к нему. Человек становится субъектом (хозяином, руководителем, автором) своей жизни. Рефлексия составляет родовую особенность человека; она есть иное измерение мира» ( Слободчиков, Исаев, 1995, с. 20).
Близкую позицию формулирует в своей эволюционной концепции личности М. Чиксентмихайи: «Случай и необходимость – единственное, что управляет существами, неспособными к рефлексии. Однако эволюция создала буфер между детерминирующими силами и человеческим действием. Подобно автомобильному сцеплению, сознание позволяет тем из нас, кто им пользуется, временами отключаться от давления неумолимых влечений и принимать собственные решения. Конечно, рефлексивное сознание, которое, по-видимому, приобрели на нашей планете только люди, не является чистой благодатью. Оно лежит в основе не только беззаветной отваги Ганди и Мартина Лютера Кинга, но и “неестественных” желаний маркиза де Сада или ненасытных амбиций Сталина» ( Сsikszentmihalyi, 1993, p. 15). Чиксентмихайи связывает с формированием рефлексивного сознания скачкообразное изменение режима работы мозга ( ibid., р. 23). В недавней публикации он говорит о том, что рефлексивное сознание представляет собой новый орган, своеобразный «метамозг», освобождающий нас от власти генетических программ. «С его помощью мы можем строить планы, откладывать действие, воображать то, чего нет. Наука и литература, философия и религия были бы без него невозможны» ( Сsikszentmihalyi, 2006, p. 9). Рефлексивное сознание позволяет нам «писать» собственные программы в дополнение к генетическим и социальным программам, закладываемым в нас биологией и культурой. Это дает человеку дополнительную степень свободы.
В целом ряде других философских и психологических источников встречаются идеи, перекликающиеся с этим тезисом. В их числе различение Л.С. Выготским (1983) высших, осознанных и произвольных, и низших, неосознанных и непроизвольных, психологических функций, различение двух «регистров» жизни у М.К. Мамардашвили (1995), анализ процессов осознания как неотъемлемой стороны жизни у Дж. Бьюджентала ( Bugental, 1999) и глубокий анализ того, как рефлексивные процессы встраиваются в детерминацию социальных и исторических событий, в философии истории Дж. Сороса, который видит в рефлексивности механизм связывания в единое сложно организованное целое объективных фактов и представлений людей, участвующих в историческом процессе. Неустранимая открытость, многовариантность будущего является одновременно причиной и следствием непредсказуемости выборов, которые совершают участники исторического процесса, руководствуясь своим несовершенным пониманием ( Сорос, 2001, с. 142–144).
Если более традиционный взгляд на рефлексию рассматривает ее как феномен познавательной деятельности, явление гносеологического порядка, что – более или менее эксплицитно – свойственно как философским работам, так и психологическим (см. Филатови др., 2006; Дударева, Семенов, 2008; Семенов, 2008), то заслуга С.Л. Рубинштейна состоит в том, что он впервые поставил проблему рефлексии как проблему онтологическую, а не гносеологическую, рассматривая рефлексию как способность, играющую важнейшую роль в самодетерминации и саморегуляции жизнедеятельности, хотя он и не употреблял этих терминов. В последнее время в психологии все более заметны подходы, в которых понятия рефлексии и саморегуляции оказываются тесно связаны между собой, что является логическим развитием философского понимания рефлексии как специфически человеческого способа отношения к миру – отношения, которое поднимает жизнедеятельность человека на качественно новый уровень.
Роль рефлексии в процессах саморегуляции
Одним из первых вопрос о роли рефлексии в процессах регуляции и саморегуляции напрямую поставил Ю.Н. Кулюткин (1979), опираясь на идеи Л.С. Выготского о высших психических функциях как интериоризированных социальных отношениях и об орудийном характере деятельности человека. «Понятно, что использование различных средств организации собственных действий оказывается возможным лишь в результате развития иерархической структуры личности, когда человек, выступая в качестве субъекта деятельности и осуществляя свою управляющую функцию, в то же время относится к самому себе как к объекту управления, как к исполнителю, действия которого он должен направить и организовать с помощью тех или иных средств. Механизм саморегуляции, основанный на подобного рода иерархическом разделении управляющих и контрольных функций внутри одной и той же личности, когда человек выступает для самого себя как объект управления, как “я-исполнитель”, действия которого необходимо отражать, контролировать и организовывать, и когда человек одновременно является для самого себя “я-контролером”, то есть субъектом управления, – такой механизм саморегуляции имеет смысл назвать рефлексивнымпо своей природе. Заметим, что в данном случае речь идет не просто об отображении внутреннего мира другого человека в сознании воспринимающего, а о рефлексивной регуляции своих собственных внутренних процессов и действий» ( Кулюткин, 1979, с. 24).
Этот процесс имеет сложную структуру. В нее входит мысленное проигрывание возможностей, рефлексивная игра с самим собой, которая завершается выработкой окончательного решения и переходом к исполнительным действиям. Наиболее явно рефлексивность саморегуляции проявляется при необходимости перестраивать сложившийся способ действия, анализируя структуру своих действий, не приводящих к успеху. Рефлексивность и гибкость прямо связаны с готовностью выполнения подобной «работы над ошибками».
Ю.Н. Кулюткин выделяет два уровня рефлексивного отображения. «На более низких уровнях рефлексии отображаются и контролируются отдельные исполнительные действия, выполняемые по готовой стандартной программе. На более высоких уровнях рефлексии субъект отображает самого себя и как контролера, производящего планирование и оценку своих действий» ( там же, с. 27). В последнем случае «он как бы экстериоризирует те внутренние регуляторные схемы и процессы, которые позволяли ему осуществлять свои управляющие функции» ( там же). Иными словами, по мере повышения уровня рефлексии она закономерно превращается в саморефлексию уже не только операциональных, но и личностных аспектов регуляции деятельности.
В оригинальной и хорошо теоретически проработанной концепции А.С. Шарова понятия регуляции и рефлексии относятся к числу ключевых. «Рефлексия есть собирание себя <…> Без рефлексии и рефлексивных процессов всякая живая система не просто движется в сторону дезорганизации, но распадается и перестает быть таковой» ( Шаров, 2009, с. 119). А.С. Шаров исходит из того, что подлинное понимание существа рефлексии лежит в ее онтологии ( Шаров, 2005, с. 55). Регуляцию этот автор определяет через еще одно ключевое для него понятие – понятие «границы»: «Регуляция – это и есть качественно-количественная ограниченность активности человека» ( Шаров, 2000, с. 109). Это начальное довольно общее определение конкретизируется далее в понятии регулятивного акта: «Это возникновение (простраивание) границ, которые качественно и количественно определяют функционирование определенной психологической системы, или это качественно-количественное изменение о-граниченности для определенного функционирования психологической системы» ( там же, с. 121). В структуре регуляции выделяются три подсистемы: ценностно-смысловая, активности и рефлексии ( там же, с. 114). А.С. Шаров описывает рефлексивную подсистему также в терминах механизмов о-граничивания активности. В частности, конкретные механизмы рефлексии описываются в категориях определения и простраивания границ, собирания и связывания границ и, наконец, организации границ в целостной регуляции жизни человека ( Шаров, 2005, с. 66–71). Парадоксальным образом, однако, рефлексия оборачивается свободой, которую А.С. Шаров определяет как многомерную и многоуровневую систему рефлексий, простраивающую внешние и внутренние границы, которые человек учитывает в регуляции своей жизни ( Шаров, 2000, с. 286).
В подходе А.В. Карпова рефлексия не только теоретически обосновывается как процесс, значимый для саморегуляции, но этот взгляд получает эмпирическое и прикладное обоснование. Рефлексия рассматривается «как важнейшая регулятивная составляющая личности, позволяющая ей сознательно выстраивать свою жизнедеятельность» ( Карпов, 2004, с. 77). Автор усматривает специфический характер рефлексии по отношению к другим видам психических процессов, ее особую, комплексную и синтетическую природу и особый статус и место в структуре психических процессов ( там же, с. 86–87). Выстраивая иерархическую уровневую структуру психических процессов, А.В. Карпов определяет место рефлексивных процессов на одном из высших уровней, системном ( там же, с. 103). В контексте поставленной нами проблемы личностного потенциала особенно важно вводимое автором понятие рефлексивности как индивидуального свойства, допускающего квантификацию и диагносцирование ( там же, с. 113). Им была разработана и успешно применяется психодиагностическая методика определения индивидуальной меры рефлексивности ( Карпов, Пономарева, 2000). Методика включает в себя, наряду с общим показателем рефлексивности, четыре субшкалы, характеризующих способность к саморефлексии (рефлексия деятельности самого субъекта – ситуативная, ретроспективная и перспективная) и к рефлексии внутреннего мира других людей (умения понимать причины поведения другого человека, ставить себя на место другого, предугадывать реакцию окружающих на свои действия, щадить чувства других людей).
Эмпирические исследования с использованием этой методики дали интересные и нетривиальные результаты. В частности, высокая мера рефлексивности руководителя организации предсказывает не столько значения других переменных, сколько их дисперсию, вариативность, иными словами, высокая рефлексивность служит причиной диверсификации ( Карпов, 2004, с. 117). Эта переменная оказывает и другое регулирующее влияние на остальные переменные, выполняя, в частности, роль модератора, обусловливающего фасилитацию или ингибицию иных зависимостей ( там же, с. 118). Она также задает качественное расслоение выборки: при разделении ее на подвыборки по параметру рефлексивности в этих подгруппах обнаруживается разная структура связей других переменных ( там же). Эти результаты свидетельствуют, что рефлексивность действительно оказывается переменной особого рода, качественно отличающейся от других. «Параметр рефлексивности в целом является не просто очень важным в плане обеспечения деятельности и поведения, а часто – основным и наиболее специфическим. Именно он придает сложность, многогранность, противоречивость и в конечном счете – уникальность тому, что обычно обозначается понятием “осознанная, произвольная регуляция деятельности”» ( там же, с. 120). Именно благодаря рефлексивности субъект оказывается в состоянии частично управлять закономерностями своего функционирования или влиять на них. Через рефлексивные процессы «субъект регулирует, а частично и порождает (раскрывает в себе) иные – базовые, объективные закономерности и особенности самого себя» ( там же, с. 124). А.В. Карпов описывает целый ряд возможных видов влияния рефлексивных процессов на закономерности психологического функционирования нижележащих уровней, приходя к выводу о том, что рефлексии присуща трансформационная функция, повышающая меру субъектности регуляции деятельности, поведения, общения, которая может оборачиваться и генеративной функцией, функцией личностного самостроительства ( там же, с. 129).
Цикл исследований влияния рефлексивности на качество принятия решений принес результаты, согласующиеся с предыдущими. Так, оказалось, что зависимость между этими переменными приближается к «инвертированной U-образной» форме: с повышением рефлексивности качество принятия решений растет, но до определенного предела, а затем начинает снижаться. Одновременно обнаруживается прямая монотонная зависимость дисперсии качества принятия решений от рефлексивности ( там же, с. 146–147). Не менее интересные данные дает сравнение высокорефлексивных и низкорефлексивных индивидов в ситуации выбора ( там же, с. 155–162). Высокорефлексивные люди менее жестко опираются на имеющиеся стратегии и априорные предпочтения; они учитывают в ситуации выбора больше альтернатив, что, впрочем, не обязательно сказывается на эффективности выбора; им труднее отбрасывать неподходящие альтернативы; у них, в отличие от низкорефлексивных, качество решений коррелирует с числом учитываемых альтернатив, им труднее генерировать гипотезы и переключаться с одних на другие; они склонны усложнять ситуацию, а низкорефлексивные, напротив, упрощать ее. Таким образом, влияние рефлексивности на ситуацию выбора очевидно, но с точки зрения его эффективности амбивалентно, не дает однозначных преимуществ. «“Выигрывая” в широте и разнообразии способов принятия решения, высокорефлексивные индивиды часто “проигрывают” в их качестве и их релевантности объективным особенностям ситуаций» ( там же, с. 159).
Амбивалентный эффект рефлексивности проявляется также при сравнении групп «успешных» и «неуспешных» руководителей по критерию качества принятия решений. В обеих группах различается сам характер связи рефлексивности с другими процессами и с успешностью принятия решения. Только в группе «неуспешных» зафиксирована прямая значимая корреляция рефлексивности с успешностью, тогда как успешность «успешных» с рефлексивностью не связана. Вместе с тем в подгруппе «успешных» рефлексивность связана наиболее многочисленными и сильными связями с другими качествами, выступает структурообразующим качеством для всех иных когнитивных качеств, обеспечивающих принятие решения. Она, по-видимому, выполняет роль интегратора этих процессов и именно в этом качестве обеспечивает успешность принятия решения, опосредствует, регулирует и в определенной мере согласует вовлечение в процессы принятия решения всех иных когнитивных свойств ( там же, с. 178–179). Наконец, из отсутствия значимой связи рефлексивности с успешностью А.В. Карпов делает вывод о том, что развитость рефлексии не означает ее продуктивности и может даже быть контрпродуктивной ( там же, с. 180). Таким образом, в концепции и исследованиях А.В. Карпова была обоснована высокая значимость и главенствующее структурное место рефлексии в процессах саморегуляции, что, однако, сочетается с амбивалентными следствиями высокой рефлексивности как индивидуального качества.
А.В. Россохин (2010) критикует подход А.В. Карпова за обеднение ракурса рассмотрения рефлексии, исчезновение из него личности и ограничение роли рефлексии регулятивно-адаптивными аспектами. Реализуя личностный подход к рефлексии, которая под этим углом зрения «выступает смысловым центром внутренней реальности человека и всей его жизнедеятельности в целом» ( Россохин, 2010, с. 22), автор стремится поднять статус этого понятия, рассматривая его не столько как функцию, сколько как внутреннюю работу, активный процесс порождения новых смыслов, развития субъектности и личности в целом. Развивая принципы диалогизма, следующие традиции, заложенной М.М. Бахтиным, А.В. Россохин рассматривает внутренний диалог как основной механизм рефлексии. Это понимание, как и общий подход А.В. Россохина, близки нашим воззрениям, что будет видно из дальнейшего изложения; вместе с тем, мы не склонны разделять его критический пафос, направленный на анализ регуляторных аспектов рефлексии и, в частности, на концепцию А.В. Карпова. Роль рефлексии в процессах регуляции представляет собой более сложную и более значимую проблему, чем это может показаться на первый взгляд; как мы увидим далее, анализ спорного вопроса о функциональной значимости рефлексии как фактора саморегуляции позволяет нам сделать важный шаг в понимании как общей онтологии рефлексии, так и ее дифференциально-психологических аспектов.
Амбивалентность рефлексивных процессов
Амбивалентность рефлексивных процессов с точки зрения их роли в регуляции жизнедеятельности обнаруживается и в других психологических подходах, не говоря уже о житейских представлениях. Рефлексия не всеми и не всегда оценивается как позитивная. Есть свидетельства, в том числе эмпирические, того, что слишком большая степень осознания, интеллектуальной работы может мешать и приводить к неблагоприятным последствиям. Не случайно она нередко воспринимается обыденным сознанием как досадное качество интеллигента, который много размышляет, но мало действует, как то, что мешает нам перейти к решительному действию. Это не просто досужий стереотип; в психологии накоплено много отчетливых данных, подтверждающих негативные эффекты рефлексии, в то время как польза от нее часто менее очевидна. Рефлексивные размышления (rumination) определяются как «способ реагирования на дистресс, заключающийся в повторяющемся и пассивном сосредоточении на симптомах дистресса, возможных причинах и последствиях этих симптомов» ( Nolen-Hoeksema, Wisco, Lyubomirski, 2008, р. 400). Т. Пыщински и Дж. Гринберг ( Pyszczynski, Greenberg, 1987) вводят понятие «сфокусированного на Явнимания», которое является фактором развития, поддержания и усиления депрессии. Как отмечается в обзоре Нолен-Хексма с соавторами, за последние два десятилетия получили многочисленные эмпирические подтверждения связи назойливой рефлексии c депрессией, другими патологическими симптомами, дезадаптивными стилями совладания, пессимизмом, нейротизмом и др. и отрицательные ее связи с успешным решением проблем и социальной поддержкой. В этой работе ставится вопрос, существуют ли вообще адаптивные формы рефлексии (self-reflection). Попытка найти эмпирические подтверждения позитивных следствий рефлексии, в частности, на основе теорий саморегуляции, дает гораздо менее ясные и однозначные результаты, оставляя вообще открытым вопрос об их наличии.
С этим хорошо согласуются и данные Ю. Куля, различающего ориентацию на действие (на проблему) и на состояние (на самого себя) как две альтернативных формы саморегуляции в проблемных (и не только проблемных) ситуациях. Как показали многочисленные исследования с использованием разработанной Кулем методики диагностики ориентации на действие или состояние как устойчивой склонности индивида к соответствующим реакциям, более ориентированные на действие индивиды реализуют бóльшую часть своих намерений по сравнению с теми, кто ориентирован на состояние, менее подвержены негативному влиянию ситуаций, порождающих беспомощность, лучше способны усиливать мотивационную привлекательность значимой для них альтернативы, облегчая тем самым принятие решения, наконец, они оптимистичнее в отношении ожиданий успеха, сильнее вовлечены в деятельность и, действительно, лучше справляются со сложными задачами ( Kuhl, 1987, p. 289; см. также наст. изд., с. 330–359). Дискуссии относительно того, хорошо ли обращение сознания на самого себя и свою активность или обращение его в мир более конструктивно, разворачиваются и в контексте психотерапии (см. об этом Лэнгле, 2002).
Наряду с исследованиями, видящими в рефлексивных процессах скорее зло, есть и противоположные точки зрения, обнаруживающие их позитивные последствия.
В определенной степени представляется правомерным рассматривать в качестве разновидности рефлексивности самомониторинг, точнее, некоторые из его аспектов. Понятие самомониторинга как характеристики личности было введено М. Снайдером ( Snyder, 1974). В содержание этого понятия входит, во-первых, способность и стремление отслеживать через самонаблюдение и самоконтроль свое экспрессивное поведение и самопрезентацию в социальных ситуациях и, во-вторых, реализация этой способности, управление оказываемым на других впечатлением. Самомониторинг, таким образом, можно рассматривать как тенденцию и способность саморефлексии в коммуникативных ситуациях, от межличностного общения до политических акций. Подтверждение этому можно усмотреть в данных эмпирических исследований, в соответствии с которыми влияние самомониторинга на другие переменные обнаруживает сходство с влиянием индивидуальной рефлексивности, согласно приведенным выше данным А.В. Карпова. В частности, самомониторинг также значимо коррелирует с вариативностью поведения в различных контекстах и ситуациях ( Gangestad, Snyder, 2000; цит. по Полежаева, 2009, с. 49). Кроме того, влияние этой переменной на другие носит нелинейный характер и несводимо к прямым корреляциям, однако группы, разделенные по значению этой переменной, обнаруживают значимые различия по другим параметрам. Так, например, обнаруживается нелинейное взаимодействие самомониторинга с локусом контроля, причем оно опосредовано другими личностными переменными, а также культурной принадлежностью респондентов ( Полежаева, 2009, с. 58–60).
Исследования на российской выборке с использованием русскоязычной адаптации шкалы самомониторинга ( Полежаева, 2006; 2009) обнаруживают устойчивую положительную связь с саморегуляцией одного из двух его компонентов, а именно шкалы публичной самопрезентации. Вторая шкала – направленности на других – обнаруживает скорее обратную, а общий показатель – незначимую связь. В частности, такой паттерн взаимосвязи обнаруживается у самомониторинга с локусом контроля (интернальностью), волевым самоконтролем (ВСК; Е. Эйдман, А. Зверков), копинг-стратегиями, контролем за действием (HAKEMP; Ю. Куль), параметрами сознательной саморегуляции поведения (ССП; В.И. Моросанова), самоэффективностью (см. Полежаева, 2009, с. 114–115), а также осмысленностью жизни (СЖО; Д.А. Леонтьев) ( там же, с. 117, 119).
Еще более интересным направлением исследований, связанным с подтверждением позитивного влияния рефлексивных процессов на саморегуляцию, выступают развернувшиеся в последнее десятилетия исследования, связанные с конструктом mindfulness (осознанное присутствие). Хотя сам этот конструкт появился раньше и уходит своими корнями в буддизм, практикующий ясное сознание, наиболее существенные основанные на нем исследования последнего времени связаны с теорией самодетерминации, в которой он получил в последние годы прописку и новую жизнь ( Brown, Ryan, 2003; 2004), органично дополнив ранее предложенные в этом контексте модели. «Даже когда окружение обеспечивает оптимальный мотивационный климат, автономная регуляция требует как экзистенциального обязательства действовать соответственно, так и культивирования того потенциала рефлексивно анализировать свое поведение и его согласованность с личностными ценностями, потребностями и интересами, который имеется почти у каждого» ( Brown, Ryan, 2004, p. 113). Сила осознания и внимания – в том, что они поставляют сознанию информацию и ощущения, необходимые для здоровой саморегуляции, которая будет тем успешнее, чем лучше индивид владеет информацией о происходящем вокруг и внутри него; как констатируют К. Браун и Р. Райан, в этом согласны между собой разные исследователи ( ibid., p. 114). Авторы приводят целый ряд эмпирических подтверждений положительных эффектов осознанного присутствия, опосредующей автоматическую связь между причинными стимулами и поведенческими реакциями на них. В русле теории самодетерминации осознанное присутствие определяется как «открытое или восприимчивое осознание и внимание к тому, что происходит в настоящий момент» ( ibid., p. 116).
Для диагностики этого свойства была разработана методика MAAS (Mindful Attention Awareness Scale – Brown, Ryan, 2003), пункты которой описывают отсутствие или присутствие внимания и осознанности того, что происходит в настоящем. MAAS включает в себя 15 пунктов, таких, как, например: «Я делаю работу автоматически, не осознавая того, чем я занимаюсь» или «Я обнаруживаю, что слушаю кого-либо вполуха, делая что-то еще в это же время», которые оцениваются по 6-балльной шкале частоты. Исследователи предположили, что существует связь между осознанным присутствием и качеством жизни. В корреляционном исследовании были изучены связи MAAS и других измерительных шкал, а также связи MAAS с разными показателями благополучия. Из наиболее значимых корреляций можно отметить значимые положительные корреляции сознательности с открытостью опыту, ясностью переживания эмоций; вниманием к чувствам; поиском новизны; созданием нового; вовлеченностью (engagement); вниманием к внутреннему состоянию; потребностью в познании, а также отрицательные связи сознательности с социальной тревогой; «задумчивым вниманием к себе» и поглощенностью. Осознанное присутствие положительно коррелирует с такими чертами личности, как самоуважение и оптимизм; с эмоциональным субъективным благополучием: удовольствием, позитивными аффектами, удовлетворенностью жизнью; витальностью, самоактуализацией, автономностью, компетентностью, связанностью. Отрицательные корреляции осознанное присутствие обнаруживает с нейротизмом, тревогой, враждебностью, депрессией, самосознанием, импульсивностью, уязвимостью; эмоциональными расстройствами, тревогой, депрессией, неудовольствием, негативными аффектами, сообщаемыми соматическими симптомами, соматизацией и частотой визитов к врачу за последний 21 день. Полученные результаты подтверждают изначальное предположение о связи осознанного присутствия и общего благополучия. Вероятно, осознанное присутствие можно считать существенным фактором в обеспечении душевного здоровья. В числе эмпирических данных, полученных в этих исследованиях, обращает на себя внимание прямая связь осознанного присутствия с диспозициональной автономией, а также его опосредующее влияние на связь диспозициональной и повседневной автономии; кроме того, высокое осознанное присутствие разрывает связь между имплицитной мотивацией и повседневным поведением, которая выражена при низкой сознательности, тем самым проявляя себя как фактор качественного изменения структуры регуляции поведения, что перекликается с упомянутыми выше исследованиями А.В. Карпова и Е.А. Полежаевой. В целом у авторов нет ни малейших сомнений относительно регуляторной ценности осознанного присутствия. «Возможно, в современном обществе без осознанного присутствия трудно жить автономно, учитывая множество сил, внешних и внутренних, которые часто тянут нас в одном или другом направлении… Сознательная рефлексия тех способов, посредством которых мы хотим распорядиться данными каждому из нас ограниченными ресурсами энергии, представляется важнее, чем когда-либо» ( Brown, Ryan, 2004, p. 119).
Необходимо, наконец, упомянуть и введенное Ю.М. Орловом и методически проработанное С.Н. Морозюк понятие саногенной рефлексии; сам термин указывает на то, что речь идет о процессе, позитивно влияющем на различные аспекты саморегуляции личности, что показано в целом ряде выполненных в русле этого подхода исследований (например, Рудаков, 2009). В других исследованиях эмпирически показано положительное влияние рефлексивной активности на адаптационный потенциал личности (например, Титкова, 2007).
Дифференциальная модель рефлексии.
Системная рефлексия