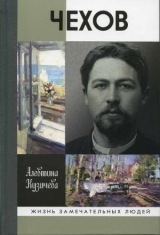
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 60 (всего у книги 71 страниц)
Жизнь Книппер тоже вошла в колею: театр, портниха, обеды в кругу родной семьи, шумные, веселые. Немецкий клан Зальца – Книппер сильно отличался от семьи Чеховых: там чтили связи с соотечественниками, поддерживали родственные отношения, любили земные радости, поощряли занятия искусством (пение, музыка).
В день отъезда Чехова в Ялту 26 октября 1901 года Ольга Леонардовна описала мужу, как она плакала в финале «Трех сестер»: «<…> меня подхватили и утащили в уборную <…>. Я не могла сдержаться. Мучили меня, дергали, хотели раздеть и за доктором, дураки, послали. Я его конечно не пустила. <…> Все в театре меня утешают и сочувствуют. <…> Как мне хочется прильнуть к тебе. Твоя собака».
Следующее письмо она начала возвышенно: «Мне хочется изъясниться тебе в любви, говорить о чем-то хорошем, настоящем, хочется жить с тобой какой-то необыкновенной жизнью…» А далее – о земном, житейском, сиюминутном. Как Немирович «перекривил физиономию», почувствовав ее нежелание играть в его пьесе «В мечтах». Она риторически спрашивала мужа: «Что же мне делать? Капризничать и брыкаться мелко. А играть не хочется совсем эту пустопорожнюю роль». В конце опять о поцелуях и наказ – не тосковать, любить ее.
Назавтра опять сначала – ласковые советы, вопросы: «Устройся поскорее, чтоб тебе было уютно, тепленько. Как погода, как выглядит Могаби, сад, журавли?» Потом рассказ о прожитом дне, об обеде у родных: «Я сегодня в возбужденном состоянии <…> говорили глупости, грохотали так, что у меня все мускулы заболели <…>. Дурачились <…> рассказывали скабрезные анекдоты, но в сущности невинные. <…> Настроение было хорошее и я всплакнула. <…> болтала по-английски с старухой англичанкой. Жизнь мне казалась легкой и приятной». В конце уже привычное: «Целую твои глаза, щеки, лоб, губы, обнимаю тебя горячо, а ты меня тоже? Целую, целую и люблю. Собака».
В ее письмах – обилие уменьшительных суффиксов: «уютненько», «домик», «крылечко», «постелька», «бутылочка», «письмецо», «затменьице». Частые упоминания трапез с описанием блюд. Она обнаруживала свой природный вкус к здоровой, удобной жизни, привычки себялюбивого человека, но с чувством меры в своих поступках. Беспредельность, безграничность, беззаветность, самоотверженность, а тем более жертвенность, обыкновенно не свойственны таким натурам. Но в своих пределах это ясные люди, необременительные для окружающих.
Книппер бережно относилась к себе. Не тратила время и силы на ненужное. В быту любила, судя по ее письмам, по воспоминаниям современников, разумный порядок, чистоту, необходимые удобства, легкий комфорт. Однако бытом себя не обременяла – отдавала свободное время загородным прогулкам, чтению, отдыху, музицированию. Большие физические и душевные затраты нарушили бы то равновесие, которое Ольга Леонардовна очень ценила, в чем сама не раз признавалась. Она не была флегматичной. Даже говорила о себе, что «кипятливая». Но бурления бывали кратковременны, а в основном всё спокойно протекало в привычных берегах, в удобном русле.
Замужество предполагало перемены. Книппер оставляла их на потом, на время грядущей «необыкновенной», «настоящей» жизни. Она не отказывала. Она обещала. Но ощущая некоторое неудобство, неловкость, облекала это «потом» в словесную печаль: «Милый мой, хороший мой! Как мне будет тоскливо на Рождестве, когда я буду знать, что вы все вместе! Не забывай меня, Антонка мой. <…> Мне ужасно хочется долго, долго всматриваться в твои глаза, в твое лицо. Пиши все о себе. Целую. Твоя собака».
Умная, улавливавшая фальшь в людях и пьесах, она словно не замечала, что ее эпистолярные-объяснения в любви обретали сходство с репликами из мелодрам: «Мне пусто без твоих писем»; – «Холодно без тебя мне». Они выглядели бы, наверно, убедительнее, если бы в письмах тут же не рассказывалось об обеде у Лужских, где «вкусно очень было – грибки, селедочки, закусочки, чудные пирожки, тающие во рту, осетрина, говядина с овощами и шоколадное мороженое».
Это было в субботу. В этом же письме Книппер описала свое воскресенье, 5 ноября: «После репетиции я полежала, сбегала пообедать к маме и оттуда на „Дядю Ваню“. Первые два акта играла скверно, третий хорошо. <…> После спектакля заехала за мной Маша, и мы кутили на нашей вечеринке до 4 ч. утра. Это было какое-то сплошное бешенство, вихрь, – кто во что горазд. Пели, плясали, танцевали, всё и все смешались. Я играла в кошки и мышки <…>. Дубасили в гонг, оглушали всех, кричали, орали, хохотали. Но никто не был пьян, хотя кабачок был очень мило устроен. Угощение – только колбасы всех сортов, скверные яблоки и чай с сухарями. <…> Описать этого безумия просто невозможно».
На обещания в будущем «настоящей» жизни Чехов отвечал: «Собака моя милая! Когда-то мы свидимся!» На рассказы Книппер о ее московской жизни, о вечеринке отозвался 9 ноября: «Мои письма к тебе совсем не удовлетворяют меня. После того, что мною и тобой было пережито, мало писем, надо бы продолжать жить. Мы так грешим, что не живем вместе! Ну, да что об этом толковать! Бог с тобой, благословляю тебя, моя немчуша, и радуюсь, что ты веселишься. Целую тебя крепко, крепко. <…> Я пишу, но нельзя сказать, чтобы очень охотно». О нездоровье он сообщал кратко, упомянул, что на втором этаже по-прежнему холодно, что сам мыл себе голову, воду Эмс не пьет, так как некому подогревать ее утром.
В ноябрьских письмах возникал вопрос, уходить ли ей из театра. Но как-то обиняком, в оговорках. Доверив жене быть «хозяйкой» его жизни, Чехов оставил выбор за ней. Она уклонялась от прямого ответа, но намеками, лирическими отступлениями передавала ход своих мыслей: «Эти дни мне сильно хочется бросить всё (только не тебя) и изучать что-нибудь, этак фундаментально уйти головой во что-нибудь. Я застоя не люблю. Театр мне кажется скучным, потому что нет работы, т. е. для меня. <…>У меня ведь мало веры в себя. Теперь у меня такая полоса, что кажется, что я никакая актриса, играю все скверно, неумело, и почему-то делаю вид, что я настоящая актриса».
Через три дня, 6 ноября, она продолжила этот разговор: «Хочется быть около тебя, ругаю себя, что не бросила сцену. <…> Неясна я себе. Мне больно думать, что ты там один, тоскуешь, скучаешь, а я здесь занята каким-то эфемерным делом, вместо того, чтоб отдаться с головой чувству. Что мне мешает? <…> Во мне идет сумятица, борьба. Мне хочется выйти из всего этого человеком. <…> Как я вытяну эту зиму! Антонка, ты мне почаще пиши, что ты меня любишь, мне хорошо от этого. Я могу жить, только когда меня любят. <…> Не казни меня, что мы в разлуке, – по моей вине. <…> Мне надо пошире взглянуть на жизнь. Несмотря на все, у меня настроение мягкое сейчас».
Через два дня Книппер написала два письма. Утреннее кончалось наказом: «Антонка, ты должен теперь написать что-ни-будь новое, у тебя в голове сидит очень много, ты не ленись, принатужься и пиши». Вечернее послание завершало бодрое восклицание: «Какая жизнь большая и красивая, Антон! Правда? Мне все сейчас кажется широким и красивым. А тебя люблю, золото мое, и целую и прижимаю к своей груди. Твоя собака».
Таким образом, вопрос о сцене решался в зависимости от обстоятельств, важных лично для Ольги Леонардовны. От ее занятости в репертуаре, от новой пьесы Чехова, в которой ей будет уготована главная роль, от ее самочувствия.
У Книппер не было в Художественном театре положения премьерши, как у Савиной в Александринском театре. Это были разные театры. Один делал ставку на премьеров, другой на ансамбль. У нее не было такой популярности, как у Комиссаржевской, много и успешно гастролировавшей по российской провинции. Не было, что Книппер сознавала сама, мощного сценического таланта. Уйди Ольга Леонардовна сейчас из театра, взяли бы ее обратно через некоторое время? Стал бы Чехов писать пьесу не для нее, а просто для театра, если работа отнимала у него жизнь?
И что же ей – прозябать в Ялте, которую она не любила? Скучной, однообразной, вдали от родных и рядом с чужой и чуждой Евгенией Яковлевной? Издали наблюдать за успехами Лилиной, Андреевой, Савицкой? Родить «полунемчика», о чем в эти дни писал ей муж?
За первую неделю ноября Чехов написал Книппер пять писем. Они складывались в монолог: «Милая моя жена, законная, я жив и здоров, и одинок. Погода в Ялте чудесная, но меня это мало касается, я сижу у себя и читаю корректуру, которой, по-видимому, нет конца. <…> Я знал, что ты будешь играть в пьесе Немировича. Это я говорю не в осуждение, а так, в ответ на твое письмо. <…> А что ты здорова и весела, дуся моя, я очень рад, на душе моей легче. <…> Хотя в 40 лет и стыдно объясняться в любви, но всё же не могу удержаться, собака, чтобы еще раз не сказать тебе, что я люблю тебя глубоко и нежно. <…> Должно быть, в январе я приеду. Окутаюсь потеплей и приеду, а в Москве буду сидеть в комнате. <…> Ты хочешь бросить театр? Так мне показалось, когда я читал твое письмо. Хочешь? Ты хорошенько подумай, дусик, хорошенько, а потом уже решай что-нибудь. Будущую зиму я всю проживу в Москве – имей сие в виду. <…> Я боюсь, что я надоел тебе или что ты отвыкаешь от меня мало-помалу – определенно сказать не могу, но чего-то боюсь. <…> А вдруг ты бы взяла и приехала в Ялту на 2–3 дня! Понадобилась бы только одна неделя для этого… Я бы встретил тебя в Севастополе. В Севастополе пожил бы с тобой… А? Ну, Бог с тобой!
Я тебя люблю – ты знаешь это уже давно. Целую тебя 1 013 212 раз. Вспоминай обо мне. Твой муж Антонио».
* * *
Это был, кажется, первый кризис их не семейной и не домашней, а просто жизни в узаконенном браке. Всё, в сущности, определилось. Ольга Леонардовна лишь «вспоминала» о муже, как он и просил, – он помнил о ней всегда. Она обещала совместную жизнь, может быть, в следующем сезоне – он смирился с одинокой ялтинской «ссылкой».
Письма Книппер заполняли вариации на тему ее терзаний, «борьбы». Они то угасали, то возвращались. Надежды Чехова на приезд жены, даже кратковременный, также то оживали, то таяли. Ее письма кончались изобретением всё новых и новых словесных поцелуев: «Целую крепенько и тепленько»; – «Целую тебя крепко, со вкусом, долго и проникновенно, чтоб по всем жилам прошло»; – «Целую мою милую голову тысячи раз»; – «Целую тебя и люблю мужа моего нежного, люблю глаза твои, люблю мысли твои. Сердце бьется, когда думаю о том, как мы свидимся. Твоя Книппуша».
В письме от 12 ноября она давала совет: «Антонка, пиши что-нибудь, я не могу дождаться того ощущения, когда буду читать твой новый рассказ. Пиши, дуся моя, это ведь сократит тебе время нашей разлуки». На это пожелание он ответил: «Я пишу, работаю, но, дуся моя, в Ялте нельзя работать, нельзя и нельзя. Далеко от мира, неинтересно, а главное – холодно. Получил письмо от Вишневского; скажи ему, что пьесу напишу, но не раньше весны». Вишневский написал откровенно, прямо: «Пьесы Чехова делают до сих пор очень и очень хорошие сборы, и меньше тысячи рублей не было после Вашего отъезда. <…> Без Чехова нам не жить, и поэтому необходима к будущему сезону его новая пьеса».
Невольно получалось, что самое главное – это пьеса. Она неотменима. Она обязательна. Всё остальное можно отложить, вовсе отменить. Едва Книппер, по ее выражению, «пофантазировала», «помечтала», как хорошо бы «прилететь» к мужу на два-три дня перед Рождеством, Чехов воспрянул. Но тут же она написала об изменениях в репертуаре, болезни исполнителей и т. д. То же самое с мечтами о ребенке. Сначала она сама сказала: «А как мне, Антонка, хочется иметь полунемчика!» Через неделю спросила: «Отчего ты думаешь, что этот полунемец наполнит мою жизнь? Разве ты мне ее не наполняешь? Подумай хорошенько». Его ответ, наверно, был не только о ребенке, но о чем-то еще, очень важном: «Мне кажется, что ты бы очень любила полунемчика, любила бы, пожалуй, больше всего на свете, а это именно и нужно».
Их письма в ноябре и декабре 1901 года не совпадали по тону, по ожиданиям и просьбам. Он звал ее в Ялту, она его в Москву. Он торопил их встречу, она напоминала о пьесе. Однажды в конце ноября он не утаил своего состояния: «Я работаю, но неважно. Погода скверная, в комнатах холодно, до Москвы далеко, и в общем создается такое настроение, при котором писание представляется лишним».
На ее далекую заботу – приказать греть воду по утрам; велеть топить так, чтобы наверху стало теплее; добиться, чтобы его кормили как надо, – он отвечал терпеливо: «Но всё это, дуся моя, невозможно. И не пиши насчет еды, ибо сие бесполезно. Мать и бабушка – обе старухи, они очень беспокоятся, обе хлопочут, но всё же одной 70, а другой уже 80 лет. <…> А бани здесь нет, мыться негде! Мою одну только голову».
Действительно, с меню, присланным Книппер, справились бы только опытный повар и проворная кухарка. Ольга Леонардовна писала Евгении Яковлевне: «Здесь он все время ел рябчиков, индюшек, куропаток, цыплят… Язык любит, почки ему готовьте, только как можно реже давайте ему котлеты. И, пожалуйста, давайте ему сладенького, или мармеладу, или берите шоколаду у Верне. Яиц свежих отыщите, давать ему по утрам. Простите, что я Вам все это пишу, но хочется, чтобы ему было хорошо». Все это вежливо, но с напором. Таким же тоном она давала распоряжения мужу: «распорядись», «сказать твердо, чтоб это было исполнено без разговоров». Чехов объяснял ей, что «приказывать», «велеть», «поступать энергично», как она учила, он не умел никогда. Посему в кабинете и спальне по-прежнему температура не поднималась выше 12 градусов. На обед подавали свиные котлеты, вызывавшие «бурю» в животе. Одежду чистили неаккуратно. Некому было отказывать бестактным посетителям, вроде Лазаревского.
Этот гость сидел часами, курил, досаждал глупыми вопросами, отрывал от работы, являлся дважды в день. Однажды в ноябре он, вернувшись с «Белой дачи», записал в дневнике: «Шатаясь по кабинету, я стал перед камином <…> в камине много было всякого сору, больше всего небольших бумажных кулечков с мокротой, а на одном кулечке была и кровь!» На следующий день Лазаревский отчитался в дневнике: «Поехал к Чехову. <…> В этот день он <…> не жаловался на перебои сердца. <…> Мы спустились в столовую пить чай. Там сидела и его милая, милая старушка-мать. Когда А. П. вышел, она мне все жаловалась, что вот Антоша ничего не хочет есть: „Наскоро съест суп, спросит, что будет второе, и, если не нравится, уходит, а угодить ему трудно. Мяса ему нельзя, нужно или ножки, или рыбу“».
В ноябре на «Белой даче» несколько дней жил Горький. Ему ввиду болезни легких разрешили поездку в Крым, но без права жительства в Ялте. Так как Аутка считалась сельской местностью, то Горькому не возбранялось проживание в доме Чехова. Может быть, в один из этих пяти дней Чехов сказал своему гостю: «Жить для того, чтобы умереть, вообще не забавно, но жить, зная, что умрешь преждевременно, – уж совсем глупо…»
Но именно в эти дни Горький написал Поссе из Ялты: «А. П. пишет какую-то большую вещь и говорит мне: „Чувствую, что теперь нужно писать не так, не о том, а как-то иначе, о чем-то другом, для кого-то другого, строгого и честного“. Полагает, что в России ежегодно, потом ежемесячно, потом еженедельно будут драться на улицах и лет через десять-пятнадцать додерутся до конституции. Путь не быстрый, но единственно верный и прямой. Вообще А. П. очень много говорит о конституции, и ты, зная его, разумеется, поймешь, о чем это свидетельствует».
В дом наведывался становой, удостовериться в местонахождении Горького. Гость и хозяин непроизвольно присматривались друг к другу. Горький вынес впечатление, что болезнь иногда делала Чехова мизантропом: «В такие дни он бывал капризен в суждениях своих и тяжел в отношении к людям». Он запомнил и привел в воспоминаниях одно из «сердитых» высказываний Чехова: «Мы привыкли жить надеждами на хорошую погоду, урожай, на приятный роман, надеждами разбогатеть или получить место полицмейстера, а вот надежды поумнеть я не замечаю у людей. Думаем: при новом царе будет лучше, а через двести лет – еще лучше, и никто не заботится, чтоб это лучше наступило завтра».
Может быть, Горький, как и Ковалевский, как и другие современники, внес что-то свое, передавая суждение Чехова. Мысль об умных и глупых людях была одной из тех, что часто встречалась у самого Горького. Но тяжелое настроение Чехова он подметил точно.
Ничего из того, что еще в 1897 году советовали врачи – теплый дом, обильная легкая пища, хороший уход, душевный покой, необременительные занятия, – не было. К тому же Альтшуллер высказывался против поездок в Москву, а доктор В. А. Тихонов, товарищ Чехова по университету, в это время пребывавший в Крыму, счел, что Чехову «можно теперь жить в Москве». Всё это вместе взятое – холод в кабинете (такой, что зябли пальцы); неподходящее питание; отсутствие ухода; трудная, с перерывами работа; нежеланные гости, а главное, одинокость – обострило процесс. Чехов утаил это от сестры и жены. Поначалу признался лишь Лаврову в самом конце ноября: «Настроение скверное, работаю неохотно, вяло, помаленьку кашляю; и сильно хочется в Москву». В те дни он решил ни за что более не зимовать в Ялте, что бы ни говорил Альтшуллер. Хотя повторял привычное: «Ну, да всё равно!»
Чем хуже ему становилось, тем настойчивее Чехов уверял жену, что любит ее «всё крепче и крепче». Словно надеялся, что именно это воодушевит Ольгу Леонардовну на кратковременную поездку в Крым, а не его жалобы на болезнь, которую он скрывал от нее. Извинял рассказы о развлечениях: «Ты всё на обедах да на юбилеях – я радуюсь, дуся, и хвалю тебя. Ты умница, ты милая». Но, видимо, она чувствовала какую-то неловкость в своих словесных пассажах об их грядущей «красивой», «широкой», «свежей», «ясной», «чистой», «настоящей» жизни, которая наступит «когда-то», «где-то», «устроится» как-то, надо лишь подождать. В этих грезах ощущался даже стилистический сбой. Зато зарисовки о том, с каким удовольствием она поет, как ездила с Вишневским в клуб, опять веселилась в компании, выходили более естественными, живыми. Наверно, в них она была более сама собой. Отвечать признаниями на его уверения? Повышать градус своих излияний? Но их запас, похоже, уже исчерпывался. Ничего за собой не влекущие в реальности, они звучали всё более неубедительно, «литературно».
Может быть, отдавая в этом отчет, Книппер теперь просила от мужа не слов любви, но особой откровенности, душевной исповеди. Она заявляла права на всё: «Тебе никогда не хочется сказать мне что-нибудь, а пишешь так, по привычке. Мне интересен только ты, твоя душа, весь твой духовный мир, я хочу знать, что там творится, или это слишком смело сказано и туда вход воспрещается? <…> Пиши мне откровенно все твои мысли». Ольга Леонардовна, по ее выражению, желала знать «каждую» мысль мужа, «каждую складочку» в его душе. Эти фразы чем-то походили на реплики героинь из пьесы Немировича «В мечтах», которую репетировали в театре, из-за которой Ольгу Леонардовну не отпускали в Ялту даже на несколько дней: «Зачем я Вас запутала в свою жизнь?»; – «Как бы я хотела знать все, что сейчас в вашей душе»; – «Женщина должна, во-первых, любить, во-вторых, любить и, в-третьих, – любить».
Ответ Чехова, кажется, не оставлял сомнений: «Мои письма не нравятся тебе, я это знаю и ценю твой вкус. Но что, милая, делать, если все эти дни я был не в духе! Уж ты извини, не сердись на своего нелепого мужа. <…> Не стесняйся, собака, пиши мне всё, что взбредет в голову, разные мелочи, пустячки; ты не можешь себе представить, как ценны для меня твои письма, как они умиротворяют меня. Ведь я тебя люблю, не забывай этого».
Современники Чехова задавались вопросом: был ли у него друг? Открывался ли он кому-нибудь? Поверял ли свои мысли, чувства? И отвечали, как правило: нет. Куприн говорил, что Чехов «ко всем относился благодушно, безразлично в смысле дружбы и в то же время с большим, может быть, бессознательным, интересом». Потапенко связал ровность, внешний холод Чехова и вместе с тем очевидный интерес к людям с неостановимой творческой работой: «Мне кажется, что он весь был – творчество». Приятель считал, что у Чехова «было то неотразимое обаяние, которое каждую душу заставляло отдаваться ему <…>. Но он-то свою не раскрывал ни перед кем. Может быть, это-то знание, эта изумительная способность видеть человека насквозь и была причиной того, что он не мог никого близко подпустить к своей душе».
Многие могли назвать себя хорошими знакомыми Чехова. В разное время кто-то приятельствовал с ним. С очень немногими он вел откровенные разговоры. Но полное доверие и душевная открытость? Вероятно, ни к кому и ни с кем. И это не помеха ни дружескому расположению, ни душевной приязни.
Чехов не любил выяснять отношения. Ни с кем не ссорился, не конфликтовал. Но при этом некоторые современники запомнили его в минуты гнева, когда он взглядом останавливал дальнейшее обсуждение, будто отрезал. К попыткам стать с ним на короткую ногу или покровительствовать ему Чехов относился иронически. Натуры самолюбивые, чувствительные к мнению о себе (Гиппиус, Буренин, Кугель, Розанов) ощущали, видимо, скрытое неприятие при всей внешней доброжелательности Чехова. И расходился он с людьми тихо. Не хлопал дверью, не оповещал мир о случившемся. Казалось, что это жизнь развела. А на самом деле просто отношения исчерпывали себя. Никогда и никому ни слова вослед. Он не обсуждал былых приятелей. Они будто таяли в прошлом. А он, как был, так и оставался наедине с собой.
В записной книжке Чехова, судя по соседним записям, как раз зимой 1901 года появилась строчка: «Как я буду лежать в могиле один, так в сущности я и живу одиноким». На этой же странице, чуть раньше: «Если боитесь одиночества, то не женитесь». На предыдущей и на последующей страницах записи: «Поле с далью, одна березка. Подпись под картиной: одиночество»; – «мне кажется: море и я – и больше никого».
Чехов, по воспоминаниям родных, в детстве часами играл сам с собой. В отрочестве не бежал приятелей, но не скучал без них. В юности был поглощен чем-то своим, не вел дневников, в старших классах гимназии ни с кем не сближался. В молодости, даже в компании, в общем разговоре казался одновременно самим по себе, и слушающим, и говорящим, и наблюдающим, и думающим о чем-то своем. Он словно оберегал внутреннее одиночество, свою уединенность, потаенность.
Но одинокость, отсутствие интересных людей, новых впечатлений переносил тяжело. Поэтому в московские и мелиховские годы искренно зазывал гостей в Бабкино, Сумы, в Мелихово. Поэтому так любил путешествия, движение. Болезнь заключила его в ялтинскую «тюрьму», хотя так он, наверно, назвал бы любой дом, где оказался бы одиноким, без интересных гостей, под запретом или не в силах покинуть этот дом. Просто в Ялте, в холодном доме зимой по соседству с матерью, тихо обитавшей в своей комнате, было очень пусто, в буквальном и переносном смысле. А с неинтересными людьми, мешавшими и думать и писать, нестерпимо.
Да, письма Книппер «умиротворяли», наверно, как словесное марево, мираж. Но хотелось живых людей, голосов, разговоров. Хоть на несколько дней рядом свою энергичную, интересную жену, свою «собаку». Но Ольга Леонардовна сообщила, что ей не удалось «соединить несоединимое», то есть театр и мужа, и на Рождество она не приедет.
И тут же с недоумением спросила: «Дусик, милый, золотой мой, неужели у тебя нет никакой отрады в том, что ты можешь писать, неужели это тебя не увлекает, не захватывает? Мне кажется, именно когда в жизни идет тоскливая полоса, одно спасение – уйти в работу, мечтать, создавать, смаковать все это. У тебя тем более такое большое богатство материала, наблюдений, что только посиди немного и выйдет красота. Ты ведь мой большой талант! Ты – русский Мопассан».
Уловила ли она сходство этих фраз с репликами Аркадиной («Чайка»), удерживавшей около себя любовника: «Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперешних писателей, ты единственная надежда России… У тебя столько искренности, простоты, свежести, здорового юмора… <…> О, тебя нельзя читать без восторга!»
Может быть, это услышал Чехов. Сравнение с Мопассаном и рассуждение Книппер о сути литературного труда, наверно, задели его. Когда-то он не извинил Мизиновой ее пренебрежительного «чириканья» насчет писания, этого, по его словам, «червя, подтачивающего жизнь». Не пропустил Чехов и упрека Авиловой, уподобившей однажды труд литератора усилиям пчелы, «берущей» мед, откуда придется. Чехов тогда, в августе 1898 года, ответил ей: «Вы неправильно судите о пчеле. Она сначала видит яркие, красивые цветы; а потом уже берет мед. Что же касается всего прочего – равнодушия, скуки, того, что талантливые люди живут и любят только в мире своих образов и фантазий, – могу сказать одно: чужая душа потемки».
Книппер, в отличие от Мизиновой, знала тяжесть актерского труда. Она занималась им не от случая к случаю, как Авилова своим сочинительством, а жила своей профессией. Однако и она, видимо, упрощала незримую связь между душевным состоянием и «желанием писать», между тем, что Чехов назвал скрытой «тяжестью и угнетающей силой сочинительства», и чувствами «сочинителя». Ее недоумение выдавало непонимание истоков тоски и одинокости Чехова. Когда он работал, его письма к Книппер менялись, превращаясь в своеобразный барометр.
Ольга Леонардовна ждала, требовала от него и новой пьесы, и новых признаний. И решения вопроса, который могла решить только она: «Лучше выругай меня, скажи, что ты недоволен жизнью, что я должна жить с тобой, вместе, а то на кой тебе такая нелепая жена. Я соглашусь. Конечно, я поступила легкомысленно. Я все надеялась, что твое здоровье позволит тебе провести хоть часть зимы в Москве. Да не выходит, Антончик мой! Скажи мне, что я должна делать».
Но тут же, в следующей строчке этого письма от 4 декабря 1901 года, предупреждала: «Без дела совсем я надоем тебе. Буду шататься из угла в угол и придираться ко всему». Она охотно повелевала в письмах из Москвы – кому и как подогревать мужу воду по утрам, что готовить ему на обед и т. д. Но руководить всем этим в Ялте, стать не «хозяйкой» его жизни, а просто хозяйкой ауткинского дома?
Чехов никогда даже не просил об этом, а тем паче не требовал. Более того, он ценил ее именно за то, что она нашла свое дело, занималась им с интересом, с упорством. Он не отнимал у нее в браке ни свободы, ни профессии. И боялся, задолго до женитьбы, однообразия семейной жизни. В этом он однажды признался Суворину в той манере, о которой некоторые современники говорили, что не могли понять – шутит он или говорит серьезно: «Извольте, я женюсь <…>. Но мои условия: всё должно быть, как было до этого, то есть она должна жить в Москве, а я в деревне, и я буду к ней ездить. Счастье же, которое продолжается изо дня в день, от утра до утра, – я не выдержу. Когда каждый день мне говорят всё об одном и том же, одинаковым тоном, то я становлюсь лютым.<…> Я обещаю быть великолепным мужем, но дайте мне такую жену, которая, как луна, являлась бы на моем небе не каждый день. <…> оттого, что я женюсь, писать я не стану лучше».
Казалось бы, всё так и сложилось, как он хотел. Но говорил он так семь лет назад, еще до клиники, живя в Мелихове, откуда часто ездил в Москву, еще до встречи с Книппер. Теперь его не отпускали из Ялты, любая поездка влияла на самочувствие, а в их семейной жизни, если продолжить шутливое мечтание Чехова, царило «лунное затмение», и он жил ожиданием «явления» жены, хотя бы изредка, хотя бы вдруг…
На ее «что делать?» Чехов ответил 12 декабря не укоризной, не своим решением вместо нее, а утешением: «Дуся моя, не волнуйся, не сердись, не негодуй, не печалься, всё войдет в норму, всё будет благополучно, именно будет то, чего мы хотим оба, жена моя бесподобная. Терпи и жди».
* * *
Терпел и ждал он. Она репетировала до ночи, уставала, «как сатана», и назавтра после письма, в котором, в сущности, решила не покидать сцену, вернулась к лирической риторике: «Не тоскуй, голубчик, подумай, какая чудная будет встреча, как все будет полно и хорошо! Ты себе представляешь? <…> Ну, дусик, спи, пусть тебе снятся сны золотые, полные красоты, ласки, любви. <…> Не тоскуй, пиши и мне и России побольше. Твоя собака».
Соединить театр и мужа не удавалось. Но она постоянно соединяла театр и драматурга Чехова. И это ложилось тенью на ее уверения, что она любит именно его, а не того, кого и после женитьбы называла «мой писатель», «мой поэт». Тот интерес к его работе, который Чехов оценил вначале, теперь, судя по письмам, слегка его раздражал. Она напоминала о пьесе в письмах, посланных в декабре: «пиши о себе, о здоровье, о работе»; – «будь здоров, весел, покоен, работай, жену вспоминай»; – «Антончик, а комедию пиши непременно, ведь это будет переворот, ведь русских комедий нет и нет»; – «Станиславский и все очень осведомляются, пишешь ли или будешь ли писать комедию. Хорошо бы ее получить весной и ею открыть сезон – вот шик-то был бы! Я с остервенением жду чего-нибудь новенького от Чехова – что-то он родит!»
Он не раз признавался в ответных декабрьских письмах, что ему мешает нездоровье: «Я пишу вяло, без всякой охоты. Не жди пока от меня ничего особенного, ничего путного. Говорю не о письмах, а о произведениях. Как бы ни было, комедию напишу, дуся моя. И роль для тебя будет». Шутил, что если бы он теперь бросил литературу и сделался садовником, то «это было бы очень хорошо», потому что прибавило бы лет десять жизни.
Уже не скрывая, написал 7 декабря: «А я, дусик мой, последние дни был нездоров. Принимал касторку, чувствую, будто отощал, кашляю, ничего не делаю. Теперь полегчало, так что завтра, вероятно, примусь за работу… Одиночество, по-видимому, очень вредно действует на желудок. Не шутя, милюся, когда же мы опять будем вместе? Когда я тебя увижу? Если бы ты приехала сюда на праздниках хотя на один день, то это было бы бесконечно хорошо. Впрочем, как знаешь».
Через три дня он коротко сообщил о кровохарканье: «Сегодня крови уже почти нет, но все-таки надо лежать. Не беспокойся, друг мой хороший. <…> Пиши подлинней». Еще через два дня не скрыл, что кровь еще идет: «Всё, что я писал и начал писать, пропало, так как теперь придется начинать опять… Я должен писать без перерыва, иначе ничего не выйдет. <…> Не забывай меня, пиши каждый день. Твои письма для меня лекарство, без которого я уже не могу существовать».
Наконец 18 декабря стал уверять, что крови нет, кашля «почти нет», но «только одна беда – громадный компрессище на правом боку. И как я, если б ты только знала, вспоминаю тебя, как жалею, что тебя нет со мной, когда приходится накладывать этот громадный компресс и когда я кажусь себе одиноким и беспомощным. Но это, конечно, не надолго; как только компресс на боку, так уже и ничего. Ничего, ничего не пишу, ничего не делаю. Всё отложил до будущего года. Видишь, за кого ты вышла замуж, за какого лентяя! <…> Мне даже кажется невероятным, что мы увидимся когда-нибудь. Без тебя я никуда не годен. <…> Так глупо жизнь проходит. <…> Пиши, моя радость! Твой Antonio».








