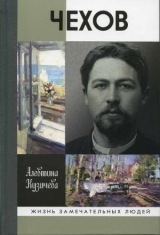
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 71 страниц)
В этот приезд Чехов остановился у брата. Дом по-прежнему был без хозяйского глаза. Увиденное гость обрисовал кратко: «Анна Ивановна больна (бугорчатка). <…> Грязь, вонь, плач, лганье; одной недели довольно пожить у него, чтобы очуметь и стать грязным, как кухонная тряпка».
Этот резкий отзыв относился скорее к Александру, нежели к несчастной Анне Ивановне. Будучи незаурядным диагностом и наблюдательным врачом, Чехов уже не подозревал, а знал, что больная долго не протянет. Вернувшись в Москву, он в письме попросил брата забежать в «Варшавскую кондитерскую», купить на оставленные ему деньги вкусное печенье в виде полумесяца и передать Анне Ивановне. Возможно, она упомянула, что это лакомство ей нравится, – Чехов не забыл и захотел доставить маленькую радость.
Что-то от этой угасавшей женщины отдаленно угадывалось в Сарре, жене главного героя «Иванова». Как и в самом Иванове – от старших братьев Чехова. Уезжая в 1875 году из Таганрога, оба мечтали: один – о профессорской карьере, научных открытиях; другой – о славе живописца. У обоих ничего не вышло; Александр оправдывался тяжелым детством, характером Павла Егоровича, невезением. Его сыновья, Николай и Антон, родившиеся в самые запойные годы отца, отставали от сверстников в развитии.
Чехов устраивал брата туда же, где печатался сам, давал литературные советы, заступался за него перед редакторами. Ни разу не упрекнул в том, что старший брат устранился от денежной помощи родителям и сестре. Часто помогал ему, когда тот оказывался на мели. И вообще ценил его способности выше, чем сам Александр. В том сентябрьском ответе на несохранившееся письмо Чехова старший брат жаловался на безденежье, на одиночество, на болезнь жены и утешал себя и брата: «Я назвал бы себя подлейшим из пессимистов, если бы согласился с твоей фразой: „Молодость пропала“. Когда-то и я гласил тебе то же. Твое, а пожалуй, и наше, не ушло. Стоит только улитке взять свою раковину покрепче на бугор спины и перетащить на новый стебель».
Эти слова, эта интонация созвучны жалобам Иванова в разговоре с доктором Львовым: «Запритесь себе в свою раковину и делайте свое маленькое, Богом данное дело… Это теплее, честнее и здоровее… А жизнь, которую я пережил, – как она утомительна!., ах, как утомительна!.. Сколько ошибок, несправедливостей, сколько нелепого…»
Таких признаний не простили Чехову многие петербургские читатели «Иванова». Особенно из кругов, где его порицали за «сумеречное творчество». Оно, как писал Михайловский, давало «известное эстетическое удовольствие», но не вызывало будто бы «боли и скорби». Здесь ждали от литературы «героя».
Более артистичный, чуткий, душевно гибкий Григорович пока лучше понимал своего молодого современника. Как раз тогда он написал Чехову из Ниццы. Поблагодарил за посвящение ему книги «В сумерках» и обратился не с требованием, а с «самой сердечной просьбой» – «бросить писанье наскоро и исключительно мелких рассказов и особенно в газеты. <…> Да, да – привинчивайте-ка себя к столу, как Вы говорите, и утопайте в большой неспешной работе!».
Григорович, как и Короленко, в своем письме Михайловскому заговорил о «непохвальном» герое, о «душевном движении»: «Будь я помоложе и сильнее дарованием, я бы непременно описал семью и в ней 17-летнего юношу, который забирается на чердак и там застреливается. <…> Такой сюжет заключает в себе вопрос дня; возьмите его, не упускайте случая коснуться наболевшей общественной раны…» Старый писатель, признававший, что у него больше литературного чутья и такта, нежели художественного дарования, подсказывал сюжет о «русском Вертере». Но не давал ответа на вопрос, почему герой стрелялся, что могло заставить его наложить на себя руки.
Действительно Григоровичу было не занимать чутья. Чехов уже начал повесть о мальчике, который потом, «попав в будущем в Питер или Москву, кончит непременно плохим». Пока же, в канун нового, 1888 года, он просил Александра получить 50 рублей 84 копейки, присовокупить «нововременский гонорар» и скорее прислать: «Семейству и мне кушать нала». Это была пародия на любимое изречение Павла Егоровича.
Год наступал новый, безденежье оставалось старым: в первом же письме Чехов написал брату: «Я безденежен, как курицын сын». И просил выслать «крохи», 36 рублей, за новогоднюю «Сказку», опубликованную в номере «Нового времени» за 1 января 1888 года.
Глава шестая. ПЕРЕПУТЬЕПисьмо Григоровича дошло до Чехова в те дни, когда он уже работал над повестью для «Северного вестника». Говорил: «Я изображаю равнину, лиловую даль, овцеводов, жидов, попов, ночные грозы, постоялые дворы, обозы, степных птиц и проч. <…> через все главы у меня проходит одно лицо». Это мальчик Егорушка, которого увезли из родного дома в город учиться в гимназии. Может быть, его постигнет та судьба, о которой толковал Григорович и которая давно занимала самого Чехова. Об этом он написал в ответном письме: «Самоубийство 17-ти летнего мальчика – тема очень благодарная и заманчивая, но ведь за нее страшно браться!»
Почему? За нее уже брались в русской литературе. Но Чехов, видимо, не случайно подчеркнул возраст: «Ваш мальчик – натура чистенькая, милая, ищущая Бога, любящая, чуткая сердцем и глубоко оскорбленная. Чтобы овладеть таким лицом, надо самому уметь страдать, современные же певцы умеют только ныть и хныкать. Что же касается меня, то, помимо всего сказанного, я еще вял и ленив».
Через три недели, закончив повесть, Чехов в письме Григоровичу от 5 февраля 1888 года вернулся к мотиву самоубийства: «Я сделал слабую попытку воспользоваться им. В своей „Степи“ через все восемь глав я провожу девятилетнего мальчика, который, попав в будущем в Питер или в Москву, кончит непременно плохим». Здесь он сделал уточнение: попав в огромный город. А если бы после гимназии герой остался в губернском или вернулся в свой уездный городишко?
Определив время и место возможной грядущей драмы «мальчика», Чехов приоткрыл глубинный мотив самоубийства русского человека, когда оно не игра, не мода, не помрачение ума или затмение души: «Не знаю, понял ли я Вас? Самоубийство Вашего русского юноши, по моему мнению, есть явление, Европе не знакомое, специфическое. Оно составляет результат страшной борьбы, возможной только в России. <…> С одной стороны, физическая слабость, нервность, ранняя половая зрелость, страстная жажда жизни и правды, мечты о широкой, как степь, деятельности, беспокойный анализ, бедность знаний рядом с широким полетом мысли». А с другой стороны – русская природа, наследственность, прошлое отцов и дедов: «Необъятная равнина, суровый климат, серый, суровый народ со своей тяжелой, холодной историей, татарщина, чиновничество, бедность, невежество, сырость столиц, славянская апатия и проч….»
Что из собственного житейского, таганрогского и московского опыта, из наблюдений Чехова над близкими и дальними отозвалось в его умозаключении, завершавшем письмо Григоровичу: «Русская жизнь бьет русского человека так, что мокрого места не остается, бьет на манер тысячепудового камня. В 3[ападной] Европе люди погибают оттого, что жить тесно и душно, у нас же оттого, что жить просторно… Простора так много, что маленькому человечку нет сил ориентироваться… Вот что я думаю о русских самоубийцах… Так ли я Вас понял?»
Человек, влекомый к самоубийству, «избитый» жизнью, одинокий, занимал Чехова всё сильнее и сильнее. Может быть, так он одолевал и свое скрытое настроение, прорвавшееся в утерянном сентябрьском письме 1887 года старшему брату. Отдаленный отзвук этих признаний («если пропаду», «молодость пропала», «говорить не с кем») угадывался в письме Короленко от 9 января 1888 года: «Пишу это именно Вам, потому что около меня нет людей, которым нужна моя искренность и которые имеют право на нее, а с Вами я, не спрашивая Вас, заключил в душе своей союз».
Слова из Псалтири – «не надейтеся на князи, сыны человеческие», – упомянутые здесь Чеховым, усиливали интонацию одиночества. Внук крепостного, сын мещанина, несколько лет назад автор «Осколков» и «Будильника», он воспринимал остро любой намек на свое социальное и литературное происхождение. Он посмеивался над благоглупостями избалованного Киселева: прогоревший, никчемный хозяин бабкинского имения любил порассуждать о том, как пагубно допускать к образованию «кухаркиных детей».
Чуть позже Боборыкин сделал Чехова прототипом одного из героев своего очередного романа и устами других героев подчеркнул во внешности литератора Малышева сходство с наборщиком из типографии, сельским учителем, механиком, даже служащим купеческого амбара: «Говор у него отзывался провинцией. Такой тон мог быть у любого разночинца…» Эта вольная или невольная «барская» нота слышалась и в некоторых воспоминаниях о Чехове. Но сам он подсмеивался и над подобным тоном, и над глупым, смешным, по его словам, предрассудком литературных «судей». Эти определяли по неведомым приметам, кто «свой», а кто «чужой», и удостаивали благосклонного внимания тех, кто печатался в «толстых» журналах, с «направлением», с «идеей».
Если люди этой среды поступали неинтеллигентно, специально напоминали ему об «Осколках» и «Новом времени», словно невзначай расспрашивали о родителях, о братьях, Чехов говорил, что ему хочется в ответ «сгрубить». Выпады, вроде того, что он выскочка, баловень фортуны, «литературный мещанин во дворянстве», Чехов, наверно, запоминал навсегда. Не припоминал человеку, но не извинял. Поэтому особенно ценил первый дружеский шаг навстречу со стороны людей известных, из старшего поколения. Тогда говорил то, что два года назад сказал Григоровичу, а зимой 1888 года – Я. П. Полонскому. Поэт отозвался на появление «Каштанки» и пожелал посвятить ее автору стихотворение «У двери». Чехов не скрыл в ответном письме своего чувства: «Ваша ласка меня тронула, и я никогда не забуду ее». Свое молчание после того, как ему передали дар Полонского (книга и фотография), он объяснил прямо: «Мне стыдно, что не я первый написал Вам. Признаться, я давно уже хотел написать, да стеснялся и трусил. Мне казалось, что наша беседа, как бы она ни приблизила меня к Вам, не давала еще мне права на такую честь, как переписка с Вами. Простите за малодушие и мелочность».
На слова Полонского, что он «ничей», принадлежит всем, кому понадобится, а не «кому-нибудь», Чехов ответил, что его взгляд на то, где печататься, прост: большие сочинения удобнее в «толстых» журналах, а маленькие там, куда «занесут» ветер и его свобода. Некоторые современники улавливали это чувство дистанции, сопряженное с чувством достоинства. И. Е. Репину, встречавшемуся с Чеховым в эти годы, казалось, что «тонкий, неумолимый – чисто русский – анализ преобладал в его глазах над всем выражением лица». Что касалось общего облика, художник нашел словесный образ: «мундштук иронии» и «кольчуга мужества».
На фотографии 1888 года Чехов по-прежнему хорош собой. Правда, губы утратили припухлость, шапка волос стала аккуратнее, бородка и усы не очень густые. При разговоре он дотрагивался до них или до мочки уха указательным пальцем левой руки. Жесты становились сдержаннее, но интонации баритонального голоса оставались очень гибкими. Ухо музыкантов улавливало в них хороший врожденный слух. Женщины находили в его движениях ненарочитую красоту, пластичность, на их языке называемую изяществом, «чарующим» впечатлением. Он казался здоровым, скроенным надолго – но домашние слышали, как он кашлял ночами. Особенно, когда возвращался из театра, из душного зрительного зала. Сам он говорил уже, что у него «неказистое здоровье», избегал выходить излома в сырую погоду. Кровотечение, напугавшее семью в конце 1884 года, повторялось по весне или осенью, а также после усиленной работы. Однако Чехов скрывал это от родных.
Весь январь 1888 года он писал повесть «Степь». Следуя своему правилу не делать серьезного лица, не изображать творческого процесса, называл ее «пустяком», «повестушкой». Шутил, что выходит «нечто странное и не в меру оригинальное». Предрекал, что повесть не поймут ни читатели, ни критики. Так появилась особенность его сочинительства: работать Чехову интересно, а печатать, слушать отзывы – и тяжело, и скучно, и неприятно.
В случае со «Степью» проступало не только это общее, постоянное свойство, но какое-то дополнительное, не совсем ясное обстоятельство. Чехов еще ничего не опубликовал в «толстых» журналах, а уже говорил, что его «не соблазняет» работа в них. Свою нелюбовь он объяснил в письме Плещееву: «Во всех наших толстых журналах царит кружковая, партийная скука. Душно! <…> Партийность, особливо если она бездарна и суха, не любит свободы и широкого размаха».
Но, может быть, дело не только в нетерпимости Чехова к «душной» партийности тогдашних российских журналов. Он не отождествлял человека с тем изданием, в котором тот работал или печатался. Не ставил на нем клейма. И не терпел, когда на него вешали ярлык. Как это произошло во время декабрьской встречи у Михайловского, устроенной Короленко, который и рассказал, что случилось: «Мы вместе с ним отправились в назначенный час в Пале-Рояль, где <…> уже застали Глеба Ивановича Успенского и Александру Аркадьевну Давыдову (впоследствии издательница журнала „Мир божий“). Но из этого как-то ничего не вышло. Глеб Иванович сдержанно молчал (тогда у него начинали уже появляться признаки сильной душевной усталости и, пожалуй, предвестники болезни). Михайловский один поддерживал разговор, и даже Александра Аркадьевна – человек вообще необыкновенно деликатный и тактичный – задела тогда Чехова каким-то резким замечанием относительно одного из тогдашних его литературных друзей. <…> Я помню, с каким скорбным недоумением и как пытливо глубокие глаза Успенского останавливались на открытом жизнерадостном лице этого талантливого выходца из какого-то другого мира, где еще могут смеяться так беззаботно. Чехов тоже инстинктивно сторонился от назревшего уже в Успенском настроения, которое сторожило его самого, – и они разошлись холодно, с безотчетным нерасположением друг к другу».
Плещеев знал об этой встрече и потому, вероятно, написал Чехову, как ему «до крайности противно» то, что «Михайловский вносит в журнал ужасно „кружочный“ <…> характер». Вероятно, Алексей Николаевич не исключал, что неудачное знакомство и взаимная неприязнь «Северного вестника» и «Нового времени» помешают публикации «Степи» именно в этом журнале, где он заведовал отделом беллетристики. Чехов становился автором того и другого издания. Это давало повод к разговорам о беспринципности молодого литератора, к сплетням о «неблагодарном» Антоне, к закулисным мелким проискам в литературной среде. В эти годы Чехову, судя по его письмам, казалось, что личная порядочность убедительнее всех слухов и сплетен, а искренность и доброжелательность охраняют от злобы и ненависти. И можно сосуществовать со всеми. Достаточно держаться самостоятельно, всегда оставаться самим собой, быть внутренне независимым.
Он убеждал в этом брата Александра и своего нового приятеля И. Л. Леонтьева (Щеглова), который страдал чрезмерной мнительностью. От подозрений впадал в истерику. Чехов уговаривал его быть объективным, не обращать внимания на то, что «кусаются блохи и воет под окном собака». Правда, сам в эти же февральские дни шутил по поводу молчания Лейкина: «Со страхом ожидаю какой-нибудь большой глупости или сплетни». Сплетня не заставила себя ждать. Весной 1888 года некоторые литераторы гадали: кто пустил слух, будто Чехов сходит с ума – Лейкин или Пальмин?
Сам писатель пока еще полагал, будто журнальной и газетной «кружочности», «партийности» можно противопоставить, как он говорил своему «нововременскому» брату, – «молодую, свежую и независимую партию». Или лучше «артель». Когда нет, по выражению Чехова, «путевой» критики, а есть рецензенты-прокуроры, такое объединение могло бы помочь. Само ощущение – «мы» – улучшало бы настроение. И Чехов хвалил в письмах Лазарева, Ежова, Бежецкого, вчитывался в Баранцевича, Альбова, Хлопова. Он оказался между «стариками», писателями минувших десятилетий, которые верили в него, и своими ровесниками, в которых верил сам.
Что они говорили о нем между собой? Лазарев и Ежов по-прежнему обсуждали в переписке каждый рассказ Чехова, изучали манеру, брали ее для себя «меркой хорошего». Они радовались, что он выше московской «литературной тли». Но им более нравился Чехов – автор юморесок. «Степь» показалась обоим «ниже его мелких рассказов». Они всё меньше и меньше понимали «мерку» Чехова, но были признательны за его житейскую помощь, рекомендации, литературные советы. И уверяли, что никогда этого не забудут.
В. А. Тихонов передал в дневнике свой состоявшийся в марте 1888 года разговор с М. Н. Альбовым. Тем самым Альбовым, кого Чехов тоже числил в «артели», но который в своих отзывах отлучил Чехова от их поколения, как «образчик вырождения» современной литературы, знамение «растленного времени». Сам Тихонов восхищался Чеховым – «самый свежий, самый яркий, самый талантливый из всех современных беллетристов <…>. Какая великая будущность ждет Чехова!».
В том же году Щеглов записал в дневнике: «Что за талант, что за чуткость, что за симпатичная личность, этот проклятый Антуан!» Но Ивана Леонтьевича смущало, что у этого таланта нет «одушевляющей общей идеи», нравственных выводов, потому он «не учитель». Одним членам «артели», воображаемой лишь Чеховым, он казался залетной птицей, зря будоражащей их болото. Другие злословили, что этот везунчик нашел в Суворине покровителя, бросил ради него Лейкина, тогда как всем обязан «Осколкам», и т. д. и т. п. Плещеев на всё это просто ругался: «Ах, сколько мерзавцев в литературе… Каждый день приходится разуверяться в людях…»
Может быть, никогда Чехов не воспринимал так остро доходившие до него слухи и сплетни. Не одолевал ли он разочарование противоядием, то есть подчеркнутым вниманием к собратьям по перу? Они просили его то пристроить что-то в «Осколки» или «Новое время», то пройтись по рукописи, чтобы придать ей «товарный вид», то выручить материально. И он не отказывал, хотя ему не хватало времени на свою работу, а ощущение жизненного срока торопило. Приближался рубеж тридцатилетия, о котором он постоянно твердил старшим братьям. Будто предчувствовал этот срок как апогей своего здоровья, физических сил? Или – момент, после которого: либо спуск, либо еще более трудное восхождение.
«Со ступеньки на ступеньку», по его давнишнему выражению? Но это относилось к научным занятиям. А в сочинительстве? В самой жизни?
Молодость, а потом сразу то, что он называл старостью? Словно и даны ему были только эти два состояния. И потому, может быть, Чехов быстро и близко сходился с людьми много старше его и с детьми.
4 февраля, закончив «Степь», он заметил мимоходом в письме Лазареву: «Да-с, батенька! У Вас впереди еще будущее (2–3 года), а я переживаю кризис. Если теперь не возьму приза, то уж начну спускаться по наклонной плоскости…»
Накануне рукопись повести была послана в Петербург. Чехов просил Плещеева по прочтении написать ему «сущую правду». Алексей Николаевич отозвался незамедлительно: «Это вещь захватывающая, и я предсказываю Вам большую, большую будущность». Он сулил «огромный успех», хотя в «Степи» нет «того внешнего содержания – в смысле фабулы, которое так дорого толпе, но внутреннего содержания зато неисчерпаемый родник».
Чехов сам подозревал, что «разговоров будет много», перед которыми повесть, выжавшая из него все соки, оказывалась беззащитной, и он боялся за нее. Кому интересна поездка ребенка по степи, его переживания и первые глубокие страдания? И странный финал, последняя строка: «Какова-то будет эта жизнь?» Русский читатель любил романы с широким разливом событий, как у Толстого, со стремниной чувств, как у Достоевского, обилием знакомых подробностей, как у Боборыкина. А тут – степь, гроза, возчики, бред заболевшего мальчика, крик озорника Дымова: «Скушно мне!», «Скушно!» Что читателю до этой необъяснимой русской скуки, до тоски «маленького человечка», едущего по огромной степи.
Чехов боялся, что ему «достанется» за «Степь», как и за «Иванова», что читатель заскучает над повестью. Но его «приз» – не награда на скачках, а внутреннее ощущение преодоленного кризиса: написал, как хотел, как подсказывало чутье.
Пока он отходил от напряженнейшей работы, говорил, что «утомлен, как сукин сын…». Не скрывал, что чернильница ему противна, а хочется «лежать пластом и плевать в потолок». Но он ходил в театр, веселился на свадьбе у приятеля. Однако напряжение спадало медленно, возбуждение не угасало. Он признавался Плещееву: «Ах, если бы Вы знали, какой сюжет для романа сидит в моей башке! Какие чудные женщины! Какие похороны, какие свадьбы! Если б деньги, я удрал бы в Крым, сел бы там под кипарис и написал бы роман в 1–2 месяца. У меня уже готовы три листа, можете себе представить!» Тут же шутил: «Впрочем, вру: будь у меня на руках деньги, я так бы завертелся, что все романы полетели бы вверх ногами».
Но «вертеться» в оглоблях семейной жизни было невозможно. Гонорар за повесть ушел на долги, на грядущие расходы по даче, по дому в Кудрине на Садовой, где Чеховы жили с осени 1886 года. Платили 650 рублей серебром в год. Оставалось «мечтать»: «Ах, если бы жениться на богатой…» Шутки о женитьбе, бранные словечки, нарочитый азарт в письмах выдавали настроение в те дни, когда, остывая от «Степи», Чехов написал водевиль «Медведь» – по выражению автора, «пустенький, французистый». Он нарочито сокрушался в письме Полонскому 22 февраля: «Ах, если в „Северном вестнике“ узнают, что я пишу водевили, то меня предадут анафеме! Но что делать, если руки чешутся и хочется учинить какое-нибудь тру-ла-ла! Как ни стараюсь быть серьезным, но ничего у меня не выходит, и вечно у меня серьезное чередуется с пошлым. Должно быть, планида моя такая».
Адресат («ничей» Полонский), тон письма, шутка об «анафеме» за водевиль – это могла быть скрытая реакция на письмо Михайловского от 15 февраля. Письмо было и лестное, и обидное. Маститый критик тоже сулил Чехову «блестящую будущность», но, в отличие от Плещеева, ставил условия: не быть дилетантом в литературе; вложить в нее душу; служить добру; уяснить свою дорогу; идти к цели, а не прогуливаться «незнамо куда и незнамо зачем». Для этого требовалось бросить «школу» «Осколков» и «Нового времени», обрывочность повествования, неясность авторского взгляда на жизнь и его отношения к героям. Это гибельный путь: «Много Вам от Бога дано, Антон Павлович, много и спросится». Михайловский даже удивился тому, что «грязь» газеты Суворина и журнала Лейки-на не пристала к Чехову – но если он не покинет их, то погибнет, испачкается, погрязнет.
Письмо написано, словно против воли, будто под гипнозом впечатления от «Степи». И этот художественный магнетизм Николай Константинович, человек логики, идеи, ясного идеала, как будто не в силах одолеть. Отсюда – не указующие, а скорее умоляющие ноты: «Но примите хоть к сведению совет человека, поседевшего на литературе <…> поймите, из какого источника это письмо идет». Ответ Чехова не сохранился. Отчасти его восстанавливает второе послание Михайловского – нескорое и усталое, но не сердитое, не обиженное: «Не скрою, что Ваше письмо меня огорчило, до чего Вам, впрочем, конечно, дела нет. Я ничего не могу возразить против отсутствия в Вас определенной веры, – на нет и суда нет. Не считаю себя, разумеется, вправе касаться и Ваших личных чувств к Суворину».
Совет Михайловского – обрести определенную идею – Чехов, вероятно, воспринял как узду, которую пытались на него набросить. А требование покинуть «Новое время» – как вмешательство в его личную жизнь, посягательство на свободу. То и другое всегда вызывало в нем протест. Он уже прошел «школу» отца, который вбивал свод правил и не церемонился со вкусами и выбором сыновей. Свое мнение, свою частную жизнь Чехов отстаивал не в шумных ссорах, скандальных протестах и вызывающих выходках, а потом в покаяниях и смиренных обещаниях, как старшие братья, но в молчаливом следовании своим правилам. В этом смысле он, подобно отцу, был «кремень», вопреки внешнему впечатлению мягкости, податливости и тому, что называл «малодушием».
Особенно когда это касалось идей, идеалов, веры во что-то (народ, науку, прогресс, культуру). Никаких «кружков» и «партий» – только свойпуть, своемнение. Однако суть советов Михайловского и ответа Чехова сводилась не к этому. Один, старший, ни за что не отрекся бы от своего идейного кредо («искусство есть своего рода гласный нравственный суд»). Даже под гипнозом нового необыкновенного повествования Чехова он не поступился этим принципом. Другой, младший, теперь ни в коем случае не отказался бы писать по-своему, доверяя собственному чутью, а не по рецептам даже таких умных и почитаемых людей, как Михайловский.
Чутье подсказывало ту самую «обрывочность», которая казалась уважаемому критику изъяном несомненного таланта автора «Степи». Судя по всему, Чехов дал понять или прямо объяснил это в своем письме. Михайловский, видимо, не принял его позицию, но уяснил аргументы. Поэтому не продолжил разговора о верованиях, о грехе многописания и дал Чехову прощальный совет: не обольщаться, будто его рассказы хоть как-то повлияют на общий тон газеты «Новое время»: «Ради Вашего рассказа не изгонится ни злобная клевета Буренина, ни каторжные писания Жителя (А. А. Дьяков. – А. К.), ни „патриотическая“ наука Эльпе (Л. К. Попов. – А. К.). <…> Вы своим талантом можете только дать лишних подписчиков <…>. Не индифферентны Ваши рассказы в „Новом времени“, – они прямо служат злу. Простите, пожалуйста. Ник. Михайловский».
В этих словах опытного, «поседевшего на литературе» человека таилось предупреждение: злобная клевета Буренина может настичь и Чехова на страницах того же «Нового времени». Что тогда? Если бы такой вопрос был задан, то ответ тоже был бы дан совершенно определенный.
Незадолго до обмена письмами с Михайловским, в начале февраля 1888 года, Чехов назвал «большим литературным свинством» публикацию в газете рассказа И. И. Ясинского, которого Буренин ругал в своих статьях. Чехов написал Александру: «Но – можешь не скрыть это мое мнение от Буренина – своим появлением в „Новом времени“ он (Ясинский. – А. К.) плюнул себе в лицо. Ни одна кошка во всем мире не издевалась так над мышью, как Буренин издевался над Ясинским, и… что же? Всякому безобразию есть свое приличие, а посему на месте Ясинского я не показывал бы носа не только в „Нов[ое] время“, но даже и на Малую Итальянскую». То есть в редакцию газеты.
Да, нельзя печататься там, где тебя третировали, на одних страницах с теми, кого не уважаешь!
Отношение к «зулусам» становилось искушением и испытанием для Чехова. Буренин не считал его «своим» – присматривался, прикидывал, скоро ли он покинет «Новое время», уйдет в «толстые» журналы, и так ли уж расположился к нему Суворин. Поэтому, вероятно, пока не трогал. К тому же Чехов не заискивал, но и не игнорировал. Пусть не сам, а через брата, однако, просил прочесть повесть.
Суворин тем временем проявлял нараставшее благоволение к молодому московскому литератору. В марте 1888 года он уговорил Чехова остановиться в его доме. Гостю выделили две комнаты, приставив к нему на дни пребывания лакея Василия. Почему Чехов согласился на это предложение? Он сам жаловался в письме младшему брату Михаилу, что это его стеснило, что он не может явиться «в подпитии и с компанией». Хозяева ложились поздно ночью. Время уходило на разговоры с Сувориным, но мешала его жена. Анна Ивановна, почти ровесница Чехова, неумная и не шибко образованная. Скучающая, плохо справлявшаяся с большим семейством, раздираемым склоками, интригами, претензиями, она, конечно, тоже хотела поболтать с молодым, интересным гостем. Пыталась заинтересовать его собой. Заводила «серьезные» беседы, пересыпая их рассказами, где она сегодня была, что купила и за сколько.
Итог восьмидневных бесед с хозяином дома – мнение Чехова в одном из писем, по возвращении из Петербурга: «Суворин замечательный человек нашего времени». И «сватовство», о котором он написал Александру: «Суворин пресерьезнейшим образом предложил мне жениться на его дщери, которая теперь ходит пешком под столом…
– Погодите пять-шесть лет, голубчик, и женитесь. Какого вам еще черта нужно? А я лучшего не желаю…»
Так ли сказал Суворин, или Чехов утрировал его реплику, как и свою: «Я шуточно попросил в приданое „Исторический вестн[ик]“ с Шубинским, а он пресерьезно посулил половину дохода с „Нового времени“. <…> Итак: когда я думал жениться на гавриловской дочке, то грозил, что разжалую отца и Алексея в мальчики; теперь же – берегись! когда женюсь на суворинском индюшонке, то возьму всю редакцию в ежи, а тебя выгоню».
Шутки шутками, но они могли дорого обойтись Чехову. Суворинский клан, живший, по словам Чехова, «в золоте», был ревнив и агрессивен. Сыновья от первого брака, Алексей и Михаил, претендовали на первые роли в газете и издательстве «Новое время», на львиную долю отцовского богатства. Не такие одаренные и упорные, как отец, они действовали интригами и наветами. Мало кому доверявший, часто впадавший в эти годы в апатию, Суворин записал в дневнике 3 мая 1887 года после похорон покончившего с собой сына Владимира: «Если бы кто-нибудь был, кто бы мне советовал, кто бы меня подталкивал, указывал на мои ошибки, бранил бы меня, спорил – никого никогда не было».
Не увидел ли Суворин такого возможного собеседника в Чехове? Домашним казалось, что глава семейства очарован, «околдован» молодым литератором. Им тоже поначалу нравился остроумный, не заискивающий, насмешливый гость. Суворин говорил, что Чехов «молодит» его, выводит из мрачного состояния. С гостем дом на время менялся: Алексей Сергеевич часами беседовал с ним, приходили его приятели, «на Чехова» приглашали, им завлекали. О новом увлечении хозяина «Нового времени» говорили и рассуждали не только в суворинском доме, но и в редакции. Самые приближенные сотрудники опасались влияния Чехова.
Отношения Суворина и Чехова сразу стали предметом обсуждения среди столичных литераторов и журналистов. Тема «покровительства» вплеталась в общелитературные разговоры, прямо или косвенно всплывала в отзывах о Чехове, но пока всё ограничивалось кругом общих знакомых. Хотя фельетон Буренина о «Степи», видимо, насторожил Чехова. Суждение о повести, как о всего лишь совокупности сцен, этюдов, картинок, эпизодов, становилось общим местом. Чехову приписывали ту обрывочность, то отсутствие цельности, которые он сам, по воспоминаниям современников, называл «творогом».








