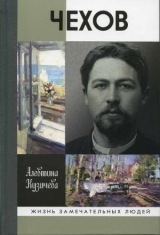
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 56 (всего у книги 71 страниц)
В последующих посланиях этой осени Книппер – покорная, кроткая, заботливая: «Мне больно думать, что ты там один живешь, я не могу этого переварить»; – «Я не знаю, как я переживу эту зиму <…> не знаю, чем утешить себя, – работой только, разве».
Кризис, судя по всему, миновал. Чехов собирался приехать в Москву в середине октября, пожить всего пять дней и уехать за границу. Словно он сбегал ото всего и ото всех. Такое усталое спокойствие, похожее на равнодушие, ощущалось в письмах Чехова в моменты, как он говорил, «круглого одиночества». Теперь оно, возможно, совпало с окончанием работы над «Тремя сестрами» и даже, может быть, помогло закончить пьесу.
* * *
Пьеса далась Чехову нелегко, о чем он написал Горькому: «Ужасно трудно было писать „Трех сестер“. Ведь три героини, каждая должна быть на свой образец, и все три – генеральские дочки! Действие происходит в провинциальном городе, вроде Перми, среда – военные, артиллерия».
Теперь, когда погода улучшилась, состояние чуть-чуть поправилось, пьеса была написана, он не хотел ехать в Москву. Там театр, неизбежные объяснения с Книппер, а тут, наконец, работается. Но его ждали, и в конце октября Чехов отправился в путь. Остановился не у сестры, где гостила Евгения Яковлевна, не у брата Ивана, а в гостинице «Дрезден» на Тверской. И прожил не четыре-пять дней, но полтора месяца. Очень нелегких, порой тягостных.
Вскоре после приезда случилось несчастье. Покончил с собой Абрам Синани, студент, сын И. А. Синани, доброго ялтинского знакомого, хозяина книжной лавки. Исаак Абрамович все последние годы охотно брал на себя поручения в связи со строительством «Белой дачи», гастролями Художественного театра. Его лавку – место встречи ялтинцев и приезжих – знали все в городе. Что побудило молодого человека к самоубийству? Чехов говорил, что «мальчик погиб от меланхолии». Просил знакомых не уточнять при расспросах, что произошло на самом деле, чтобы пощадить родителей. Потом ходили неясные слухи, будто А. Синани состоял в террористической организации и, то ли спасая товарищей от ареста, то ли не решившись на террористический акт, покончил с собой. Но это могли быть только слухи.
Опознать самоубийцу почему-то попросили Чехова. Он поехал не один, а с С. С. Голоушевым, знакомцем с университетских времен, а теперь по общему театральному кругу. Голоушев запомнил поездку. Они ехали в пролетке. На вопрос спутника о самочувствии Чехов якобы ответил: «По правде сказать, плохо. Мы ведь с вами два авгура, и нам скрывать друг от друга нечего. Чувствую, что сидит во мне враг, проник во все поры моего тела и ест меня, ест не останавливаясь. В сущности, он даже меня и съел. Остался только один футляр, который живет по недоразумению. И сказал я тоже всё, что мог. Сказать мне больше нечего, и смешно, что от меня всё еще чего-то ждут…» Как рассказывал Голоушев, Чехов помолчал; затем усмехнулся и продолжал: «Стал я, знаете, похож на вареного рака в портерной. Какой-то шутник давно съел в нем всё, что только можно было съесть, а потом аккуратно сложил скорлупу и оставил на тарелке, а дураки думают, что рак еще совсем целый и что им еще отлично можно полакомиться».
Чехову предстояло встретить отца самоубийцы, сообщить о несчастье и быть рядом в эти ужасные дни.
Время шло, отъезд за границу все откладывался. То из-за хорошей погоды (легкий мороз, безветренно). Потом Чехов простудился и ждал, когда пройдет головная боль и стихнет кашель. Но, избавившись от недомогания, все равно тянул с точной датой. Он, по его выражению, «увертывался» от некоторых встреч и визитов и кочевал между гостиницей, квартирой сестры и Художественным театром, где днем бывал на репетициях, а вечером на спектаклях. Встречался в Москве с Горьким и Васнецовым. Познакомился с В. А. Серовым, настойчиво просившим о нескольких сеансах для портрета.
Работал он урывками, переписывал пьесу, о которой сказал в письме к Комиссаржевской от 13 ноября: «Пьеса вышла скучная, тягучая, неудобная <…> и настроение, как говорят, мрачней мрачного». Говорили об этом и артисты после чтения пьесы в театре. Чехов слушал с ними вместе и, по воспоминаниям присутствовавших, нервничал. Первые минуты после чтения напоминали отчасти давнюю ситуацию в гостиной Яворской, когда собравшиеся литераторы, актеры недоумевали, что за странная пьеса «Чайка». Теперь «Три сестры» показались не пьесой, но всего лишь схемой, вместо ролей какие-то намеки.
Актеры задавали Чехову вопросы о смысле той или иной реплики, ремарки. Он отвечал кратко, неохотно, почти раздраженно. И уверял, что он писал комедию, никак не слезоточивую драму. Получалось, что пьесу следует доработать, но не к следующему сезону, как полагал Чехов, а теперь, до отъезда за границу.
В Москве заговорили о «Трех сестрах», пошли толки в публике. На спектаклях, где бывали Чехов и Горький, им устраивали шумный прием, который Чехов называл скандальным и неуместным. В один из вечеров в антракте спектакля «Чайка» Горький и Н. Д. Телешов пили чай в кабинете дирекции. Крики «Горь-ко-ва!!», шум в коридоре, стук в дверь вынудили Горького выйти в коридор и обратиться к толпе с недоумевающим укором: «Мне, господа, лестно ваше внимание, спасибо! Но я не понимаю его. Я не Венера Медицейская, не пожар, не балерина, не утопленник. <…> мне обидно, что вы, слушая полную огромного значения пьесу Чехова, в антрактах занимаетесь пустяками».
Газеты, в том числе «Новое время», перевирая факты и слова Горького, бранили его за якобы неуважение к публике, к обществу. Чехов написал Суворину: «То, что пишется в „Новом времени“ о Горьком и обо мне, – неверно, хотя и пишется очевидцами». Его не могло не расстроить мнимое сочувствие автора заметки «Из публики», на самом деле бестактное и безжалостное: «Мы с участием смотрели на него, как на человека, по слухам, больного, радуясь, что он на вид здоровее, чем говорят. Отчего публике не посмотреть на своих любимцев?»
Журналисты с каждым годом всё бесцеремоннее вторгались в личную жизнь известных людей, добывали слухи, сплетни, искажали факты. Весной 1900 года Чехов сказал Книппер, что газеты никогда не писали о нем правды.
В такой обстановке визитов, встреч, просьб, газетной шумихи он работал в гостинице, все еще откладывая отъезд из Москвы. Немирович говорил впоследствии, что Чехов тех дней остался в его памяти – «энергичный, веселый, помолодевший – просто счастливый; охвачен красивым чувством и новую пьесу уже переписывает». Чехов рассказывал в ноябрьских письмах 1900 года совсем о другом: «Приехал сюда совершенно здоровым, а теперь опять кашляю и злюсь, и, говорят, пожелтел»; – «Все эти дни мне нездоровится, голова болит очень»; – «Был здоров, даже очень, а теперь опять стал покашливать. Пора уезжать».
Так он писал тем, кому доверял. Остальным мог сказать, что все замечательно, что он «благоденствует». На самом деле превозмогал себя и по утрам работал в гостинице.
В начале декабря погода изменилась к худшему. Чехов, как ни хвалил Москву, устал от нее. В эти дни он получил от Маркса в соответствии с договором 10 тысяч, а оставшиеся 15 тысяч, последнюю сумму, попросил перевести в январе в Москву, на имя сестры. Не успев внести все изменения в пьесу, Чехов уехал 10 декабря за границу. Чуть ранее он пошутил в письме Суворину, что слух о его женитьбе – «неправда», а правда в том, что он отбывает «в Африку, к крокодилам».
Глава шестая. СНОВА В НИЦЦЕЧехов не уточнял, когда вернется в Россию. Говорил кратко: до весны. В Ницце он опять поселился в том же «Русском пансионе», что и три года назад. Встретился со старыми знакомцами – Ковалевским, Юрасовым. Казалось, ничто не изменилось – те же обильные обеды, такие же неинтересные русские дамы, опять уличные певцы… По-прежнему прекрасная погода – теплая, ровная. Знакомое ощущение: «Жизнь здесь совсем не такая, как у нас, совсем не такая… И богаты чертовски, и здоровы, и не старятся, и постоянно улыбаются». В общем, «как в раю»: цветы, музыка, поспевающие апельсины.
Сам он не был не то что «чертовски», а даже просто богатым человеком. Теперь денежным источником оставались только доход с постановок пьес и гонорар за первую публикацию в газетах и журналах.
Жизнь Чехова в последние годы будто шла по кругу. Он возвращался то в Ялту, то в Москву, то в Ниццу. Но не прежним, а сильно изменившимся, что отметили ниццкие знакомые Чехова. Хотя ему показалось, что после Москвы он здесь помолодел на десять лет. Его письма к Книппер из Ниццы походили на летние, но обращениями и прощаниями он словно подчеркивал разницу в возрасте, свою немощь и ее расцвет. Он звал ее: «баловница моя», «девочка моя», «ангел мой», «деточка моя». Она подчеркнуто напоминала их свидания в гостинице «Дрезден». Шутливо, но твердо определяла распорядок его жизни: отдыхать, здороветь, работать, хорошо есть, жить с комфортом, думать о ней, говорить ей слова любви. Ее письма прерывались распоряжениями Чехову. Надо чаще писать Евгении Яковлевне – «Зачем огорчаешь старуху?» Надо благодарить сестру за попытки продать Кучукой – «Ты ей должен хороший процент дать за хлопоты, слышишь?»
Конечно, не меркантильные соображения диктовали такие наказы. Но, наверно, демонстрация, что она уже член семьи, будущая хорошая невестка. И вовсе не то, что есть актриса в глазах обывателей. Теперь она претендовала на большее: знать, что у него на душе. Может быть, такой виделась ей роль спутницы, жены Чехова: поднимать его настроение, ободрять, воодушевлять… Отсюда в ее письмах бесконечные пожелания: «Что у тебя на душе? Не надо только гнета, не надо едкой тоски»; – «Живи с комфортом»; – «Ах ты, киселек славянский»; – «Ты не застывай там»; – «Будь здоров, весел, бодр».
Слова «бодро», «крепко» – одни из самых любимых в ее лексиконе. Иногда письма в Ниццу напоминали речи Шурочки, героини из пьесы «Иванов», обращенные к Иванову («Уверяю тебя, мой дорогой… Вот тебе моя рука: придут хорошие дни, и ты будешь счастлив. Будь бодр, погляди, какая я храбрая и счастливая…»). И одновременно в письмах, словно реплики Аркадиной из «Чайки», когда Книппер писала: «Целую твою милую голову и хорошие глаза твои, и мягкие волосы, и губы, и щеки, и умный лоб и прижимаю тебя к груди, и люби, люби меня и пиши чаще твоей собаке». Или вдруг фразы, созвучные репликам Елены из «Дяди Вани», тоже роль Ольги Леонардовны: «Мне сейчас хочется читать красивые, красивые стихи и глубокие». Даже реплики из «Трех сестер» вдруг появились в ее письмах, как отзвуки репетиций этой пьесы в театре: «…всё хорошо, всё от Бога»; – «Сегодня и завтра свободна».
Может быть, она хотела говорить, вольно или невольно, на языке его созданий? Пусть на словах, но сблизиться с ним в привычках, в пристрастиях. И поэтому признавалась, как нравится ей московский звон, как хочется ей пойти в церковь, «постоять там со своими мыслями». А за всем этим следовало: «Гуляешь ли, как распределены твои часы, скоро ли начнешь писать?»; – «Начал что-нибудь писать, или все фланируешь?»
На наказы, ободрения, призывы Чехов отвечал иногда с иронией: «<…> а я всегда – правда твоя – был кисель и буду киселем, всегда буду виноват, хотя и не знаю, в чем. <…> Я твой!
Возьми меня и съешь с уксусом и прованским маслом». Он рассказывал о работе над пьесой. Говорил, что удивляется, как он мог написать «сию штуку». Для чего? Зачем? Но при этом просил, настаивал, чтобы она писала о репетициях.
Ольга Леонардовна писала. Подробно, интересно. О своей Маше Прозоровой, для которой она нашла тон «аристократки с изящной резкостью». О детали, найденной Станиславским, чтобы передать настроение в сцене Маши и Вершинина – «мышь скребет». Станиславский вспоминал впоследствии, как это произошло. Артисты выучили роли, вроде бы всё стало ясно, понятно: «И тем не менее пьеса не звучала, не жила, казалась скучной и длинной. Ей не хватало чего-то».
Пробовали то, другое, но становилось еще скучнее. В один из вечеров от бессилия актеры просто замолчали на полуслове: «Кто-то стал нервно царапать пальцами о скамью, от чего получился звук скребущей мыши. Почему-то этот звук напомнил мне о семейном очаге; мне стало тёпло на душе, я почуял правду, жизнь, и моя интуиция заработала. <…> Оказывается, они совсем не носятся со своей тоской, а, напротив, ищут веселья, смеха, бодрости: они хотят жить, а не прозябать».
О том, что роль Маши у нее получилась не сразу, Книппер не писала. То ли понимала, что всё еще наладится, то ли не хотела огорчать Чехова. Его состояние угадывалось по косвенным признакам. Он отменил до будущего года поездку в Египет и Алжир. Однажды пожаловался, что болит спина. Но перемену в планах объяснил не недугами, а тем, что в Ницце ему хорошо работается. Он встречался с соотечественниками, зимовавшими здесь, в том числе с художником В. И. Якоби, которого не все из русских жаловали. Он любил рассказывать сальные анекдоты и поносить окружающих. Но Чехов усмотрел в этом не злобность и склонность к пошлости, а скорее попытку одолеть страх смерти.
Они познакомились осенью 1897 года здесь же, в Ницце. Вас. И. Немирович-Данченко запомнил свой разговор с Чеховым о злоязычном художнике и слова собеседника: «Вы всмотритесь: рассказывает анекдоты, хохочет, а в глазах у него ужас смерти… Да, впрочем, что ж… Мы все приговоренные. <…> Иной раз мне кажется, все люди слепы. Видят вдали и по сторонам, а рядом, локоть о локоть, смерть, и ее никто не замечает или не хочет заметить… Вон Якоби, тот себя одурманивает скверными анекдотами, и ведь он, как и я, видит ее, видит!»
Так ли говорил Чехов или мемуарист прибавил что-то от себя, но в «райской» Ницце всегда хватало печальных впечатлений. Не таких и не столько, как в Ялте, но все же… Зимой 1900 года Чехов навестил в Ментоне сестру Немировича. Назавтра написал Книппер: «Она больна чахоткой, скоро умрет». Одна из соотечественниц, жившая в пансионе, и годы спустя не забыла взгляда Чехова в ответ на свою реплику за обеденным столом, что в Ялте живут «бывшие люди».
Новый, 1901 год в пансионе встречали вместе, но Чехов скоро ушел к себе. Его раздражали надоевшие разговоры и «ужасно скучные» дамы, напрасно обращавшие на себя внимание известного писателя. Два года назад его не знали и не узнавали. Теперь, после многочисленных рецензий на спектакли Художественного театра, его успеха у молодежи, газетного шума вокруг Чехова и Горького, всё изменилось. Чехов стал узнаваем, о чем рассказал Книппер: «Со мной обедает много дам, есть москвички, но я ни полслова. Сижу надутый, молчу и упорно ем или думаю о тебе. Москвички то и дело заводят речь о театре, видимо, желая втянуть меня в разговор, но я молчу и ем. Мне бывает очень приятно, когда тебя хвалят. А тебя, можешь ты себе представить, очень хвалят. Говорят, будто ты хорошая актриса».
Однажды он все-таки откликнулся на эти разговоры. И пошутил, что вот, мол, Книппер на сцене такая красивая и смелая. На самом деле она по субботам ходит к всенощной, дома штопает чулки, а ее мамаша во время спектакля сидит за кулисами, вяжет и наблюдает за дочерью.
* * *
Иногда он поднимался на «русское» кладбище. Чехов любил открывавшуюся отсюда даль. Вас. И. Немирович-Данченко привел в воспоминаниях его слова, когда-то услышанные им от Чехова здесь, в Ницце: «Как жить хочется! Чтобы написать большое-большое! <…> А в ушах загодя – „вечная память“».
Чехов никому никогда не писал пространно о смерти. Не философствовал на этот счет. Смерть есть смерть. В отрочестве он не по своей воле участвовал в отпевании покойников. В юности видел умирающих в клинике, в больнице. В Мелихове сталкивался со смертью детей, гибелью крестьян от заразных болезней, пожаров, травм, алкоголя. С какого-то момента он перестал упоминать свой давний-давний сон о похоронной процессии, втягивающейся в кладбищенские ворота. Это совпало со временем, когда участью детей в его сочинениях все чаще было сиротство.
В только что законченной пьесе на всё ложилась тень воспоминаний об умерших родителях. Не ужасная, не роковая, но очень значимая в общей тональности пьесы, в ощущении преходящей жизни и неизбежной смерти. Это ощущение, будто дождавшись своего срока, вернуло Чехова к давно возникшему сюжету об умирающем архиерее. О судьбе человека, вроде бы достигшего всего, доступного в его положении. Но почувствовавшего на пороге смерти, что «не всё было ясно, чего-то еще недоставало, не хотелось умирать <…> и в настоящем волнует всё та же надежда на будущее, какая была и в детстве, и в академии, и за границей».
В воспоминаниях преосвященного Петра упоминались белая церковь, в которой он служил за границей, шум теплого моря: «И вспомнилось ему, как он тосковал по родине, как слепая нищая каждый день у него под окном пела о любви и играла на гитаре, и он, слушая ее, почему-то всякий раз думал о прошлом». Неизвестно, в какой момент работы над рассказом возникли эти строки, но в них, конечно, жило чувство, пережитое автором в Ницце.
Однако рукопись рассказа «Архиерей» в который раз оказалась отложенной, интонация новогодних поздравлений приглушенной. Шутки звучали невесело: «Тебе нужен муж, или, вернее, супруг с бакенбардами и с кокардой, а я что? Я – так себе». В этот же день, 2 (15) января, написал Книппер еще одно письмо: «Сегодня я весь день сижу дома, как и вчера. Не выхожу. <…> Целую тебе обе руки, все 10 пальцев, лоб и желаю и счастья, и покоя, и побольше любви, которая продолжалась бы подольше, этак лет 15. Как ты думаешь, может быть такая любовь? У меня может, а у тебя нет. Я тебя обнимаю, как бы ни было…»
Чехов и Книппер обменивались письмами, но, наверно, не находили в них того, что ждали. Ей недоставало элегии, лирических или шутливых описаний. Он не находил рассказа, как идут репетиции «Трех сестер», и потому воображал, что всё плохо и провал неизбежен. Едва ли не внушал себе, что катастрофа неизбежна: «Как идут „Три сестры“? Ни одна собака не пишет мне об этом»; – «Как идет пьеса? <…> И когда я здесь виделся с Немировичем-Данченко и говорил с ним, то мне было очень скучно и казалось, что пьеса непременно провалится и что для Художественного театра я больше писать не буду».
Эту тоску предчувствий Чехов называл меланхолией, улавливал умалчиваемое в письмах Книппер. Прямо спросил ее однажды о роли Маши: «Хорошо ли ты играешь, дуся моя? Ой, смотри! Не делай печального лица ни в одном акте. Сердитое, да, но не печальное. Люди, которые давно носят в себе горе и привыкли к нему, только посвистывают и задумываются часто. <… > Понимаешь?»
Их самочувствие не совпадало и не могло, видимо, совпасть. Она уверяла в начале января 1901 года, что у нее на душе «хорошо и спокойно и тепло пока», что она избавилась от простуды и теперь «хорошая, розовая, теплая», «хочется всему улыбаться», что душа ее «ликует», «хочется жить бодро»: «Хотела бы перелететь к тебе хоть на несколько часов, поболтать, обнять тебя, поцеловать, потрепать, за волосы – о pardon, academicus! И подурить хочется с тобой. Но ведь это всё будет, да? Пока мысленно проделываю».
В его письмах за фразами «всё благополучно», «всё равно», «всё по-старому» скрывалось смятение. Пьеса была во власти театра. Беспокойство словно разъедало, и Чехов говорил, что у него «ржавчина» на душе. Просил: «Пиши, собака! Рыжая собака! Не писать мне писем – это такая низость с твоей стороны!» Она писала, и часто, и много, но не о том. Без конца – «люблю», «люби», «будем любить», «думай обо мне», «думай о нашей жизни», «чувствуй, что мне хорошо», «хочу тебя поласкать», «не кисни, полней, здоровей», «спи спокойно». Наверно, он просил не об этих эпистолярных объятиях, подбадриваниях и уверениях в любви. Но о главном для него в эти дни: «Хоть бы написала, что делается с „Тремя сестрами“. Ты еще ничего мне не писала о пьесе, решительно ничего, кроме того, что была-де на репетиции или репетиции сегодня не было. Отколочу я тебя непременно, чёрт подери».
Ему писали другие: Станиславский, Вишневский, И. А. Тихомиров. Так что какое-то представление о спектакле у Чехова могло сложиться. Однако он улавливал что-то тревожное в атмосфере репетиций, в обстановке вокруг театра. Газеты писали о спаде интереса к «художественникам», об упованиях театра и зрителей на новую пьесу Чехова.
В таких условиях премьера становилась событием, которого одни ждали с радостью, а недоброжелатели Чехова и Художественного театра, может быть, с расчетом на провал. Недаром Боборыкин, с его нюхом на всё новое, спорное, уловил отношение к театру и передал в новой повести «Однокурсники». Боборыкин славился тем, что всё увиденное тут же «укладывал» на страницы своих рассказов, повестей и романов. И не стеснялся признаваться в этом. Он не утаил в воспоминаниях, что один из персонажей его романа «Ходок», писатель Малышев, списан с Чехова. Как тип, «и по содержанию и по форме». И в этом «портрете», и в устных отзывах Пьер Бобо, как звали Боборыкина современники, не мог скрыть своей зависти к успеху Чехова. Он тщился уловить самые модные, сиюминутные увлечения, идеи, разговоры, а молодые чтят Чехова, ждут его новые повести, рассказы и особенно пьесы.
В дневнике Смирновой сохранилась запись от 3 января 1897 года: «В шекспировском обществе Боборыкин сделал скандал Урусову за то, что тот в своем реферате превознес чеховскую „Чайку“. Боборыкин имени Чехова не может слышать.
– А мы что же! – подскочил он к Урусову. – Мы, значит, все посредственности!
– Позвольте, а я об вас и не говорил совсем.
– Вот именно, вы об нас не говорили… Мы, значит, не существуем».
У Боборыкина могла быть не одна причина для яростного недовольства. Человека, о котором острая на язык Гиппиус сказала, что «он чувствует благоухание фиалок, прежде чем они появятся на земной поверхности», ожидание зрителями новой пьесы Чехова в постановке Художественного театра, несомненно, сильно задевало. Как, видимо, и других опытных драматургов, чьи пьесы шли в Александринском и московском Малом театрах, но которых не звали в новый театр. Как и тех, кто через Чехова пытался попасть на сцену молодого театра, но получал отказ. Однако почему-то обижались на Чехова.
Летом 1899 года между Боборыкиным и Немировичем был разговор о русской сцене, о репертуаре Художественного театра. Продолжая его в письмах, Владимир Иванович объяснял уважаемому Петру Дмитриевичу свой критерий отбора пьес для постановки: новые образы, новое настроение, новая интерпретация старых мотивов и никакой рутины.
Немирович заинтересовался пьесой, над которой работал Боборыкин. В апреле 1900 года пьеса была закончена, послана Немировичу и отклонена им с советом – не ставить ее никогда. В этом же письме от 30 апреля Немирович рассказал об успешных гастролях театра в Севастополе и Ялте. Возвращаясь к репертуару, к состоянию современной драматургии, еще раз, уже косвенно, отказал Боборыкину: «Из русских авторов прочел все новые пьесы более или менее определившихся драматургов, но не нашел ничего, что взвинтило бы меня. Очень увлечен желанием написать для нас Горький. Что-то выйдет из этого?»
Поэтому не удивительно, что Художественный театр и пьесы Чехова упоминались в новой повести Боборыкина «Однокурсники». Один из ее героев испытал недоумение на представлении «Чайки»: «Чем объяснить такой успех, такое увлечение? Неужели молодые души жаждут картин, от которых веет распадом и всеобщим банкротством. Он не мог и не хотел с этим согласиться». Зато с Боборыкиным согласился Буренин, который зимой 1901 года отметил повесть только за эту страницу, только за критические замечания героя о «Чайке», пьесе, по словам нововременского рецензента, «фальшивой по идее и неважной во многих отношениях».
Публика, знавшая из газет о скорой премьере, ждала новую постановку. Лавров хотел опубликовать пьесу на волне растущего интереса, просил скорее прислать экземпляр. Чехов уговаривал отложить, дать ему время на корректуру. В случае с «Тремя сестрами» особенно важной, так как в беловой автограф, находящийся в театре, постоянно вносились изменения.
К концу января главная жалоба Чехова из Ниццы: скучно, скучно, скучно… Поездка в Алжир отменилась. Дело, наверно, было не в мистрале, ветре с гор, приносящем холодную погоду, а в том, что Ковалевский, как и в 1897 году, побоялся сопровождать Чехова. В это время Книппер уже подробно рассказывала о репетициях. Не скрывала, что делает ставку на роль Маши: «Если я ее провалю, махну на себя рукой!» Немирович обговаривал с ней каждую мизансцену, каждую реплику.
В «Чайке» и «Дяде Ване» верх, по отзывам зрителей, брала Лилина. Мария Петровна уловила сиротство Маши и Сони, драму безответной любви и оказалась душевным камертоном этих спектаклей. Так что «Три сестры» значили для Книппер очень много. Это была роль, написанная Чеховым для нее. Она расспрашивала – он растолковывал. И от объяснений, по-видимому, нервничал еще сильнее. Чехову мерещилось на огромном расстоянии, что актеры несут «чепуху несосветимую». Шутил, что его «на старости лет ошикают», а если пьеса провалится, он поедет в Монте-Карло и проиграется дотла.
Что так пугало Чехова в предстоящем событии?
Да, «Чайка» провалилась в Александринке, но потом шла во многих российских городах. После ее публикации Чехов получал письма с тонкими, умными суждениями об этой пьесе.
Да, «Дядя Ваня» не получил одобрения Театрально-литературного комитета. Однако и до и после этого приговора пьеса охотно ставилась в провинции, стала репертуарной.
Но в последние два года Чехов не раз признавался, что боится, не утратил ли он чувства нового. Это сомнение в себе, это опасение повторить самого себя не покидало его. С некоторых пор, похоже, оно превратилось в скрытую тревогу перед выходом книжки журнала с новой повестью или рассказом, перед премьерой новой пьесы. В таком состоянии он не мог работать, о чем написал Книппер в конце января: «Я пишу, конечно, но без всякой охоты. Меня, кажется, утомили „Три сестры“, или попросту надоело писать, устарел. Не знаю».
Он захотел прервать сочинительство: «Мне бы не писать лет пять, лет пять путешествовать, а потом вернуться бы и засесть». Ему воображалось путешествие, но уже не в Африку, а на Шпицберген, на Соловки. Но не состоялась даже поездка в Алжир. Покорившись обстоятельствам, он согласился на короткое путешествие по Италии с Ковалевским и А. А. Коротневым, зоологом, основателем русской биологической станции в Виллафранке. Поехал, по его словам, «повертеться» недели две и оттуда в Россию, в Крым, в Ялту.
В Ницце Чехов пробыл на этот раз всего полтора месяца. Поглощенный и утомленный работой над «Тремя сестрами», он покидал ее без радости и огорчений. Старые знакомцы провожали его, полагая, что вряд ли увидятся вновь. Лишь один человек из провожающих знал, что увидит, непременно увидит Чехова, встретится с ним. Это была Ольга Васильева – та самая, которая три года назад фотографировала Чехова здесь же, в Ницце. Все это время она изредка писала ему, вообразив, что должна посвятить себя переводам его сочинений. Наивная влюбленность выражалась в том, что она собирала газетные вырезки с упоминаниями Чехова, старалась быть там, где в это время жил он. Узнавала обиняком, как он себя чувствует. Ходила на «свидание» с портретом Чехова в Третьяковскую галерею. Просила его: «Благословите меня на служение Вам».
Сама приемная дочь богатой помещицы, Васильева в девятнадцать лет взяла на воспитание девочку Марусю, которую Чехов в шутку звал дочерью. В минуты экзальтации, когда Оле казалось, что она сходит с ума, ее успокаивала мысль о духовном завещании, о котором она написала Чехову 6 (19) марта 1901 года из Канн: «Я в нем Марусю Вам оставила. Низко, низко Вам кланяюсь, очень, очень благодарю за все счастье, за всю радость, которую Вы доставляли мне, навещая меня в Ницце, – без мамы никогда так счастлива я не была, да и не буду». Она по-хорошему завидовала Марусе, потому что ласковые слова Чехова и внимание доставались не ей, а ее приемышу.
Он остужал чувства мечтательной барышни. Пытался удержать от благородного, но скоропалительного порыва – продать имение в Одессе, а вырученные средства пожертвовать на строительство больницы. Чехов, судя по его письмам Васильевой, понимал, что из таких благих намерений едва ли что получится, а вот обмануть наивного непрактичного человека вполне могут. Предостерегал ее, давал советы.
Накануне отъезда из Ниццы он отправил Ольге Родионовне открытку с пожеланием «всего хорошего, самого чудесного». Она ответила мольбой: «Пожалуйста, не скройтесь совсем! Вот всё, что я прошу!»
* * *
Итак, не Соловки, не Алжир, а Италия. Может быть, Чехов надеялся, что чудесная, любимая им Италия встряхнет от «полусна», чудодейственно оживит. Однако холода, дождь, снег, не самые интересные спутники, – всё сокращало маршрут (отпали Корфу, Неаполь) и не улучшало настроения. Ночью, по дороге из Пизы в Рим, в вагоне поезда, Чехов и Ковалевский говорили о своих планах и надеждах. Максим Максимович, наверно, обсуждал летнюю поездку с лекциями в Америку, был благодушен по обыкновению. Но запомнил слова Чехова: «Мне трудно задаться мыслью о какой-нибудь продолжительной работе. Как врач, я знаю, что жизнь моя будет коротка». Говорил без страха, без жалоб.
Ковалевский, сопровождая Чехова по Риму, отметил, что в нем не было всеядного любопытства, присущего туристам, и будто бы «осмотр музеев, картинных галерей, развалин более утомлял, чем пленял» Чехова. А интересовала жизнь на улице, в городском саду. Спутник Чехова, как когда-то в 1891 году Суворин, Мережковский и Гиппиус, ждал восторгов, приличествующих путешественнику, и, не дождавшись, приписал это равнодушию Чехова к достопримечательностям.
Может быть, Чехов и Ковалевский не очень подходили друг другу для совместного путешествия. Одно дело встречи в Ницце, в дружеском кругу. Другое – дорога, житейские мелочи. Два разных характера, темперамента, образа жизни. Максим Максимович привел в воспоминаниях целую общественно-политическую программу, якобы изложенную Чеховым в их беседах. При этом он заметил, что «нелегко было вызвать Чехова на сколько-нибудь продолжительный разговор». Так что, скорее всего, то были суждения самого Ковалевского. Нечто от его взгляда на судьбу русского дворянства, земельный вопрос, на здравоохранение, народное образование, на политическое устройство, земство, печать, свободу слова. Во всем этом более слышался публицист, оратор, лектор Ковалевский, нежели Чехов. Утомленный, больной, тосковавший по дому, волновавшийся о премьере и вообще не склонный к длинным монологам.








