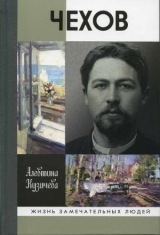
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 38 (всего у книги 71 страниц)
В буднях Евгении Яковлевны случались изредка домашние «бури»: оплошность прислуги; споры с мужем, чем кормить собак. В остальном – тихое однообразие. Утром непременный кофе мокко. В 11 часов обед с крохотной рюмочкой домашней настойки. В 3 часа пополудни чай, а в 7 часов вечера – ужин. Радости ее всё те же – уродились баклажаны, удалось варенье, новая ротонда вышла удачной, а из купленного шевиота и фланели получились платья такие, как ей хотелось.
Щепкина-Куперник оставила в своих воспоминаниях идиллическую зарисовку о «стариках» Чеховых: «П[авел] Егорович] <…> давал мне читать свой дневник, возил меня в церковь, иногда выражал сожаление, что вот Антоша так хорошо пел в церкви на клиросе в Таганроге, и голос у него был, когда он мальчуганом был – прямо ангельский… а вот теперь – отстал, не поет – что бы съездить в церковь да попеть? <…> Я никогда не видела, чтобы Е[вгения] Я|ковлевна] сидела сложив руки: вечно что-то шила, кроила, варила, пекла… <…> Помню ее уютную фигуру в капотце и чепце, как она на ночь приходила ко мне, когда я уже собиралась заснуть, и ставила на столик у кровати кусок курника или еще чего-нибудь, говоря со своим милым придыханием: „А вдруг детка проголодается?“».
Не только с гостьей, но и между собой, может быть, родители не обсуждали семейные тяготы своих детей. Они в них не вникали. Павлу Егоровичу на фоне его собственных былых переживаний всё представлялось не стоящим внимания. Евгения Яковлевна довольствовалась удобным житейским правилом – всё принимать как неизбежное и в будущее не заглядывать. Они знали о том, что дети старшего сына от первого брака, Николай и Антон, оказались не способны к учебе. Но не представляли, что их старшие внуки, особенно Николай, превратятся в то, что вскоре Александр Павлович назвал «кошмаром» своей жизни. Родители замечали отчуждение своей второй невестки, жены Ивана Павловича, вежливо сторонившейся семьи мужа, но это их не беспокоило. Возраст, наступившее благополучие, деревенская жизнь упростили и без того несложный душевный мир «стариков» до незатейливого. Даже мелиховский дневник Павла Егоровича сводился теперь к записям о погоде и главным, с его точки зрения, домашним событиям. И среди таких записей – «Антоша приехал», «Антоша уехал».
18 января Чехов внес в Серпуховскую уездную земскую управу тысячу рублей как попечитель Талежской школы на строительство нового здания. Тем самым он ускорил дело. 19 января он вместе с князем Шаховским побывал в Талеже, на стройке.
22 января в тихой деревенской церкви прошло венчание. Чехов был посаженным отцом, но в шутку называл себя «побочным» отцом. Через два дня он опять уехал в Петербург. На этот раз остановился у Сувориных.
Это пребывание сопровождалось волнениями в суворинской «клике». Сохранилась запись Чехова: «Как-то я и Александр спускались по лестнице; из редакции вышел одновременно Б. В. Гей и сказал мне с негодованием: „Зачем это вы вооружаете старика (т. е. Суворина) против Буренина?“ Между тем я никогда не отзывался дурно о сотрудниках „Нового времени“ при Суворине, хотя большинство из них я глубоко не уважаю».
Тогда же, в феврале, у Чехова был разговор с Короленко, который запомнил, что тот не раз отзывался о Суворине хорошо, но «несколько презрительно»: «Характеризовал его, как психопата и истерика, часто страдающего от того, что пишут в „Новом времени“, неглубокого, возмущающегося сегодня тем, что завтра его уже не волнует». Суворин сам не однажды признавался в безволии, в «шатаниях», когда нужно было принимать решения. Упоминал свою зависимость от родных, от сотрудников газеты. Перепады суворинских настроений – то жалобы и стенания, то гнев – Чехов наблюдал неоднократно. Они были ему не в диковинку. Видимо, зимой 1896 года поводов для «шатания» было более обыкновенного. Может быть, поэтому он охотно уезжал вместе с Чеховым из дома.
В один из вечеров они отправились в театр на маскарад. Здесь Чехов встретился с Авиловой и Шавровой. Лидия Алексеевна создала из этого в своих мемуарах отдельную маленькую новеллу – будто бы Чехов узнал ее под маской, но она поняла это позже. Якобы попросил мнимую незнакомку рассказать ему, кого она любила. И она, прислонившись к его плечу, назвав по имени, близко глядя в лицо, сказала: «Я тебя любила <…> тебя, тебя… <…> Может быть, это была и не любовь, но, кажется, не было ни одного часа, когда я не думала бы о тебе. А когда я видела тебя, я не могла наглядеться. Это было такое счастье, что его трудно было выносить. Ты не веришь мне? Дорогой мой! ненаглядный!»
И будто бы Чехов просил ее быть на премьере «Чайки». Тогда со сцены она услышит нечто, адресованное только ей. Авилова спрашивала, узнал ли Чехов, кто она. Он шутил, что она Яворская… Как и в описании злополучного ужина в 1895 году, так и в изложении маскарадного эпизода Авилова пользовалась привычным стилем своих рассказов: «от волнения и неожиданности я дрожала»; «сердце то замирало, то билось усиленно»; «кажется, я уже меньше люблю, кажется, я выздоравливаю, кажется, я, наконец, победила».
Шаврова тоже упомянула этот вечер в своих воспоминаниях. Она сама подошла к Чехову. Он узнал ее по кольцу. Извинился, что не дал знать о своем приезде. Пошутил, что он в Петербурге инкогнито. Запомнила она и Суворина, вошедшего в свою директорскую ложу с тремя балеринами.
В «новелле» Авиловой была реплика Чехова – «Знаешь, скоро пойдет моя пьеса». И ее ответная – «Знаю. „Чайка“». Название пьесы Лидия Алексеевна могла услышать от кого-то из петербургских литераторов. Но знал ли Чехов в это время, как скоро и на сцене какого театра состоится премьера «Чайки»?
13 февраля Чехов и Суворин вместе выехали в Москву.
Глава девятая. «К СЛАВЕ И МУЗАМ»Две поездки Чехова в Петербург зимой 1896 года имели несколько поводов – внести ясность в книжные расчеты с «Новым временем» и взять деньги на Талежскую школу, договориться о постановке «Чайки», уехать с Потапенко в Финляндию, на Иматру, чтобы, как он говорил в таких случаях, «встряхнуться» и настроиться на новую работу. В его письмах этих дней мелькнуло упоминание «Чайки»: «В ноябре приеду в Петербург и буду ставить пьесу на казенной сцене; проживу здесь всю зиму». Но нет никаких сведений, с кем Чехов вел переговоры или кто брался за них. Например, Суворин или Потапенко?
15 февраля 1896 года Чехов и Суворин встретились с Толстым в его московском доме в Хамовниках. В дневнике Суворина осталась развернутая запись. Разговор шел о картине Ге из жизни Христа, о задачах современного искусства (Толстой уже работал над трактатом «Что такое искусство?»), о смерти: «Когда я сказал, что всего лучше умереть разом, он (Толстой. – А. К.) заметил, что <…> лучшая смерть была бы такая, что человек почувствовал бы приближение смерти, сохранив свой разум, и сказал бы близким, что он умирает, и умирает со спокойной совестью». Гости заметили, что хозяин дома пребывал не в духе. Это проскальзывало в высказываниях Толстого, если Суворин правильно запомнил их и передал в дневнике: «О поэте Верлене: ничего не понимает, почему о нем пишут. Он читал его. По поводу декадентов сказал об интеллигентном обществе: „Это паразитная вошь на народном теле, а ее еще утешают литературой“».
Чехов обратил внимание на настроение Толстого. Сохранилась его запись об этом вечере: «Он был раздражен, резко отзывался о декадентах <…>» Особенность ситуации была в том, что в последнее время некоторые критики писали о рассказе «Ариадна» и повести «Три года» как о сочинениях декадентского толка. Чехову показалось, что и графиня С. А. Толстая, весь вечер отрицавшая художника Ге, тоже была чем-то раздражена. Видимо, визитеры оказались не ко времени. Возможная причина такого настроения супругов Толстых – приближение печальной даты – 23 февраля (год назад Толстые потеряли семилетнего сына, умершего от скарлатины). 22 февраля Лев Николаевич записал в дневнике: «Уже больше недели чувствую упадок духа. Нет жизни. Ничего не могу работать».
В дневнике Суворина нет ни слова о Шехтеле, с которым он хотел переговорить о здании для своего театра. Встреча состоялась в «Славянском базаре»: Чехов, Шехтель, Суворин и одна из актрис его театра. Чехов давно не виделся с другом молодости. И присматривался к нему, а позже написал: «В последнее наше свидание (ужин с Никитиной) Ваше здоровье произвело на меня какое-то неопределенное впечатление. С одной стороны, Вы как будто помолодели, окрепли, а с другой – Ваши глаза смотрят немножко грустно и вдумчиво, точно у Вас ноет что-то или ослабела какая-то струна на гитаре Вашей души. Должно быть, работа утомила Вас».
Словосочетанию «струны души» Чехов иногда придавал насмешливый оттенок («Этак вы все струны души моей истреплете!»). Но «натянутая струна» – всегда в серьезных размышлениях. Либо о смерти (например, в разговоре о болезни Григоровича в 1887 году: «…трудно сказать, когда, в какой день и час лопнет натянутая струна…»). Либо о психике людей, которым все в жизни давалось огромными усилиями, напряжением всех сил (так, он сказал о себе в 1888 году: «<…> я „счастья баловень безродный“, в литературе я Потемкин, выскочивший из недр „Развлечения“ и „Волны“, я мещанин во дворянстве, а такие люди недолго выдерживают, как не выдерживает струна, которую торопятся натянуть»). Либо, как в случае с Шехтелем, об утомлении от усиленного творческого труда. Речь шла именно о таком утомлении, а не о физической усталости, в которой Чехов признавался редко. Зато об умственном и душевном утомлении говорил часто. И почти всегда после завершения работы.
Так случилось и в 1896 году, весной. Когда закончилась работа над «Чайкой» и «Домом с мезонином», вернулась головная боль, открылось кровохарканье. Но Чехов ездил по делам школьной стройки, невзирая на холода и мартовское бездорожье. То в Талеж, то в Серпухов. Стройка шла вовсю, а земство еще не рассмотрело и не утвердило смету. На счет, с которого оплачивали покупку материалов и работы, деньги поступили только от «строителя» Чехова. Зато уездное земство обращалось к нему все с новыми просьбами: организовать прием страховки у мелиховских крестьян за лошадей и рогатый скот; сдвинуть с мертвой точки проведение шоссейной дороги и починку моста через реку Люторку; принять надзор над народными библиотеками при Хатунской и Вельяминовской школах и т. д. Но главной заботой оставалась хлопотная стройка: доски, двери, гвозди, изразцы, железо, щебень, глина, кирпич и пр.
Настроение Чехова выдавали интонация писем, «шутки»: «грачи шагают по дорогам уныло, точно факельщики»; – «3–4 дня поплевал кровью, а теперь ничего, хоть бревна таскать или жениться». Но «женитьба» давно стала в письмах и разговорах Чехова шутливым выражением самого плохого, чего бы он хотел, то есть на самом деле не хотел, пожелать себе и другим. Недаром «сватая» в шутку приятелям и приятельницам воображаемых невест и женихов, превращал «семейное счастье» в несчастье.
В марте 1896 года Чехов поинтересовался у А. А. Тихонова (Лугового), редактора беллетристического отдела журнала «Нива», принадлежавшего А. Ф. Марксу: правда ли, что издатель «купил на вечные времена сочинения Фета»? И если «правда (и если не секрет), то – за сколько». Так, может быть, проступило скрытое размышление о продаже Марксу своих сочинений в полную литературную собственность?
Что заставило Чехова, еще не отойдя от работы над «Домом с мезонином», еще переделывая «Чайку», приняться за новую повесть «Моя жизнь»? Почему он задал вопрос о сочинениях Фета? Когда в эти апрельские дни Ежов поделился с Чеховым своей бедой, болезнью жены, он успокаивал его: «Редко у кого не бывало плеврита и редко кто не принимал креозота. У меня самого давно уже кашель и кровохарканье, а вот – пока здравствую, уповая на Бога и на науку, которой в настоящее время поддаются самые серьезные болезни легких. Итак, надо уповать и стараться обойти беду». Помимо медицинских советов Чехов дал Ежову рекомендательное письмо к доктору Корнееву: «Это хороший врач и добрейший человек». Говоря в это время мимоходом, что здоровье его «не ахти», давая советы легочным больным – кумыс, покой, хорошее обильное питание, отдых, – он сам не выполнял ни одного из этих предписаний.
Шехтель, получив от него письмо с упоминанием трехдневного кровотечения, написал в сердцах: «Сознаюсь, если бы у меня дело дошло до таких очевидных скверных симптомов – я бы бросил все и удрал бы поближе к солнцу, на поправку…»
Трудно даже сказать, что Чехов уповал на исцеление и «обходил» свою беду. Кажется, что он усугублял ее или махнул на себя рукой. Отправив в Петербург два экземпляра «Чайки» для прохождения в цензуре, напряженно работал над новой повестью. Над печальной историей одинокого противостояния человека своей семье, предрассудкам, общепринятым представлениям о житейском счастье. С самого начала Чехов подозревал, что цензура прицепится к повести. Еще с молодости он называл рассказы, ощипанные цензурой, «плешивыми». Он работал, отвлекался на стройку, участвовал как попечитель в школьных экзаменах. Будто отошел от всего столичного и московского. Между тем его имя все чаще и чаще упоминалось в газетных и журнальных рецензиях, статьях и обозрениях.
С самого начала 1895 года критика не выпускала Чехова из поля зрения. Суждения опровергали одно другое. Например: «Г-н Чехов описывает нам не поддельную, а настоящую жизнь»; – «Внутренний смысл описываемых им событий для него совершенно темен, так же как и духовная природа человека, в разумении которой он безнадежно теряется». Ясинский вдруг заявил, что Чехов переживает спад. И свидетельством тому «бесцветные» герои нового рассказа. Правда, заверял, что сам он «почитатель» таланта Чехова.
Словно что-то сгущалось вокруг имени Чехова в критике. В той или иной форме, под тем или иным соусом рецензенты убеждали читателей, что талант Чехова исчерпан, что он не оправдал надежд. Часто обсуждали автора, а не его рассказ или повесть. Некоторые отзывы приобретали странную угрожающую интонацию. Утверждалось, что якобы жизнь не тревожит и не волнует Чехова, что он «по-видимому, очень доволен собою», а это опасно и он может вскоре «скатиться вниз». Кончался этот прогноз зловещим предупреждением: «Как ни сильно наше холопство перед именами, к которым мы привык-ли, – есть и ему предел. Пусть это г. Чехов помнит…»
Чехов ни с кем не ссорился, никогда не высказывался публично ни о ком резко или несправедливо. Вообще жил вдали от столиц. Всех этих и подобных отзывов не читал, чтобы, как он выразился однажды, «не засорять своего настроения». С большинством рецензентов он даже не был знаком. Нараставшая разноголосица мнений, противоречивость оценок и раздражение писавших о Чехове выдавали кризис в отношении к такому писателю, как он. Если в центре рассуждений о других авторах оказывалось то, что нравилоськритику, было ему понятно и давало возможность продемонстрировать себя, то в статьях о Чехове главное – это то, что не нравилоськритикам, чего они не понимали и потому ограничивались ярлыками (нет того, сего, этого…).
Чем точнее, тоньше Чехов улавливал сдвиги в настроении современников, особенности самочувствия людей в переходное время, душевное состояние человека в разную пору его жизни и в разных житейских коллизиях, тем резче реагировали на него критики. За минувшие годы они не устали задавать вопросы. Кто он, г-н Чехов? Художник идеи, правды, красоты? Отсутствие «общей идеи», ясной моральной оценки, сюжетной завершенности – это недостаток или достоинство? Скучно то, о чемписал г-н Чехов (обыденность, будничность, сиюминутность, «серенькая жизнь», «серенькие люди»)? Скучно то, какон рассказывал об этом (поток мыслей, чувств, ощущений героя)? Скучно всё время думать, читая повести «Степь», «Скучная история», «Палата № 6», «Три года»? Как ни посмотри, скучный писатель!
Но книги Чехова расходились, их не хватало. Читатели привыкали к его манере. Да, в таких героях, в таком повествовании нет знакомого, привычного, но есть нечто другое, чего критики не объясняли. Возможно, читатели раньше критиков извинили автору его своеволие и вдумались в оригинальность прозы Чехова.
Статьи о Чехове иногда походили на «скорбный лист» его якобы психического недуга. У него находили «хандру», «усталость», «душевный вывих». А читатели все чаще писали Чехову, что они не узнавали, а познавалисебя, читая его сочинения. И познание это не завершалось с последней страницей повести или рассказа. Письма Чехова, его прозу и драму и письма читателей объединяло теперь встречавшееся в них словосочетание – «если вдуматься…».
У Чехова не было своего критика, но к середине 1890-х годов появился свой читатель. Не такой многочисленный, как у популярных или модных литераторов, – но именно свой, чьи отклики остались в дневниках, в переписке с современниками. Т. Л. Толстая записала 19 апреля в дневнике: «Пап а сегодня читал новый рассказ Чехова „Дом с мезонином“. И мне было неприятно, что я чуяла в нем действительность и что героиня его – 17-летняя девочка. Чехов – это человек, к которому я могла бы дико привязаться. Мне с первой встречи никогда никто так в душу не проникал. <…> А я его видела только два раза в жизни».
Алексей Тихонов, прочитав часть рукописи повести «Моя жизнь», написал Чехову в июне 1896 года: «С одной стороны, она злободневна; но не настолько, чтобы приблизиться к все еще модной Толстовщине; с другой – она вечна <…> все <…> выражено в ней словами и образами в высшей степени простыми. Нет проповеднического „глаголения“. <…> Вещь глубокая и сердечная, она, тем не менее, общедоступна».
Прочитав в августе конец рукописи, Тихонов тут же написал Чехову: «Вещь чудесная. <…> Начало этой второй части мне показалось сначала немного странным по недосказанности многих действий и психологических мотивов <…> но все это служит только к усилению впечатления <…>. Вся черновая работа подмалевки, грунтовки совершается самим читателем в уме, и когда Вы накладываете последний блик, он тем ярче выступает, потому что читатель ждет его с напряженным вниманием. Не знаю, будет ли таково впечатление читателей, но на меня эта недосказанность всегда производит самое лучшее впечатление. Думаю, что и всякий читатель это любит».
Секрет воздействия прозы Чехова уже улавливался многими внимательными современниками. Его давний расчет на то, что читатель сам «подбавит» все «недостающие субъективные элементы» («лучше недосказать, чем пересказать»), этот расчет оправдывался. Хотя и стоил ему все эти годы напряженнейшей умственной и душевной работы. Беспощадной критики на страницах газет и журналов. Все откровеннее прорывавшейся неприязни многих литераторов. Даже со стороны тех, кто пребывал с Чеховым в приятельских отношениях.
Владимир Тихонов, который в 1890 году бранил своего брата Алексея за «зависть и вечное хуление Чехова», теперь, в 1896 году, сам признавался в дневнике: «Чехов – умный мальчик, умный и, кажется, хитрый мальчик. <…> Ох, не без хитрости! А жаль <…> будь Чехов поменьше хитер, он был бы еще умнее и умом своим шире и глубже, и таланту его, свежему и прекрасному, больше простору было. <…> Последнее время я не веду ни с кем переписки. <…> С Чеховым переписка не клеилась, да и какой он мне друг. <…> В настоящее время нет самого крошечного кружка писателей-беллетристов, – все особняком. Чехов – один».
Да, он был один, одинок, но по-прежнему у него не было никакого уединения. В июне 1896 года он писал сестре, уехавшей к Линтваревым: «Ходят плотники, ходят больные, ходит учитель…» Кто-то был желанным гостем. Кого-то, наверно, лучше бы не видеть лишний раз, а то и совсем. Как-то Семенкович, новый сосед, то ли купивший, то ли, по слухам, выигравший у князя Шаховского его часть имения, привез в Мелихово своего друга, редактора журнала «Дело», заведующего иностранным отделом газеты «Московские ведомости», врача при московских императорских театрах. Чехов записал в этот день: «Впечатление чрезвычайно глупого человека и гада. Он говорил, что „нет ничего вреднее на свете, как подло-либеральная газета“, и рассказывал, будто мужики, которых он лечит, получив от него даром совет и лекарство, просят у него на чаек. Он и Семенкович о мужиках говорили с озлоблением, с отвращением».
Мужиков они не знали, но ненавидели. Эта злоба отвращала Чехова от нового самонадеянного, расчетливого соседа. Под свой отказ помочь школе Семенкович подвел громогласные рассуждения о «темном» и «грязном» народе. У Чехова были основания сердиться на мужиков. Они крали материал со стройки, и учитель Михайлов собирал доски и кирпич, спрятанные на подворьях. Они норовили запросить лишнего со «строителя» за работу, говоря, что такого «барина» просто нельзя не обмануть. Его безотказностью злоупотребляли богатые мужики. Они не посылали в город за врачом, которому надо было заплатить, а звали мелиховского «дохтура».
Чехов ездил по окрестным селам и деревням к больным и по земским делам. Из-под множества записей в книжке словно всплывала повесть о русских мужиках. Отгородиться от деревни можно было, наверно, либо ненавистью, как новый васькинский помещик, либо равнодушием, как Варенниковы, незлобивые соседи по мелиховскому имению, либо полной безучастностью, подобно Павлу Егоровичу. Он, как и прежде, благодушествовал и записывал в свою толстую тетрадь: «Вечер приятный, тихий»; – «Сад в полном расцвете яблонь и вишень»; – «Дождик побрызгал»; – «Пиона расцвела»; – «Жасмин расцвел. Благоухание!»
В этом «житии» никак не отражалось то, что происходило за забором мелиховского двора. И вообще – во всем мире. Даже если «летописец» слышал от домашних или гостей, читал в газетах о майских событиях на Ходынском поле во время коронации Николая II, в дневнике он об этом не упомянул. Но, может быть, поэтому не высказал, как в былые годы, восторгов по поводу торжеств, которые наблюдал и на этот раз. Дневник в отсутствие отца вел Чехов, подражая его стилю.
Описание коронации оставил в своем дневнике Суворин: выезд царя, иллюминация, коронование в Успенском соборе Кремля, спектакль в Большом театре. И, конечно, Ходынка: «Сегодня при раздаче кружек и угощения задавлено, говорят, до 2000 человек. Трупы возили целый день <…> ведь это битва редкая столько жертв уносит. В прошлое царствование ничего подобного не было. Дни коронации стояли серенькие, и царствование было серенькое, спокойное. Дни этой коронации ясные, светлые, жаркие. И царствование будет жаркое, наверно. Кто сгорит в нем и что сгорит? Вот вопрос. А сгорит, наверное, многое, и многое вырастет. Ах, как надо нам спокойного роста!»
Обо всем увиденном Суворин, конечно, рассказал Чехову. Вместе они побывали на Ваганьковском кладбище 1 июня 1896 года. Чехов записал: «<…> видел там могилы погибших на Ходынке». Суворин изложил подробности в своем дневнике: «Еще пахло на могилах. Кресты в ряд, как солдаты во фрунте. <…> Рылась длинная яма, и гроба ставились друг около друга. Нищий говорил, что будто гробы ставили друг на друга, в три ряда».
О Ходынке Чехову писали знакомые. Он в своих письмах даже перерыв в работе из-за поездки в Москву, из-за увиденного обозначил глухо: «Я, по разным обстоятельствам, не садился за стол недели две <…>» Но тон писем такой, какой бывал в тяжелые минуты. Это особенно заметно в письмах к Мизиновой. Их переписка приобрела спокойно-дружеский характер, и в умолчаниях угадывалось больше, чем в былых его насмешливых шутках и ее бурных упреках.
В то лето Лидия Стахиевна жила в Подольске с дочкой и нянькой. В письмах Чехову она не упоминала Христину. Чехов и Мизинова встречались в Москве, она приезжала в Мелихово. Иногда они сговаривались ехать вместе до Москвы (он от Лопасни, она ждала поезд в Подольске). Но их письма опаздывали. Или, как шутил Чехов, назначая ей встречу у Гольцева: «Впрочем, всё перепутается. Я свои дела не умею завязывать и развязывать, как не умею завязывать галстук».
Это было беспокойное лето. Помимо школы Чехов затеял построить колокольню возле мелиховской церкви (до этого колокола висели на столбах): «Посылаем во все стороны воззвания о пожертвованиях. Мужики подписываются на больших листах и прикладывают тусклую грязную печать, а я посылаю по почте». Как-то еще в молодости Чехов сказал, что, будь у него деньги, он выстроил бы церковь по своему вкусу. Готов был отдать часть своей земли в Мелихове под земскую больницу.
То в шутку, то всерьез Чехов называл маршруты своих поездок, едва он кончит обе стройки и повесть: Камчатка, Кавказ, Сумы, Таганрог, остров Таити, Бабкино. Одна только мысль, что «час освобождения близок», радовала мелиховского «узника».
11 июля он сообщил Суворину, что «колокольня уже красится», а повесть «близится к концу».
* * *
20 июля Чехов вырвался и укатил в Максатиху, в Тверскую губернию, где на даче жил Суворин. Пробыл там всего два дня. На одну ночь заглянул к младшему брату в Ярославль и 25 июля уже вернулся в Мелихово.
Что-то будто не давало ему покоя. То ли прохождение «Чайки» через цензуру, то ли не переписанная еще набело повесть и ее грядущая судьба.
Со стороны жизнь Чехова представлялась вполне благополучной. В июле 1896 года Щеглов записал в дневнике: «В моей нелепой и полунищенской жизни душевно радуюсь за Чехова – он один устроился толково и сообразно достоинству известного писателя (вернее, ему одному судьба помогла так устроиться!!)». Меньшиков запомнил впечатление от Чехова, сложившееся у него в середине 1890-х годов: «Молодость, привлекательность, свобода, загремевшее по России и по всему свету имя, чудная семья, собственное имение, практика врача, то есть возможность сближаться с народом и обществом <…> и в довершение всего впереди огромный художественный труд, как высшее счастье…»
Сам «известный писатель» мотался в Серпухов по земским делам, приглашал гостей на освящение нового здания Талежского училища. Оно состоялось 4 августа. Торжественное и трогательное: молебен, речи. Мужики благодарили, поднесли попечителю икону, четыре хлеба (от деревень Талеж, Бершово, Дубечня, Шелково), две серебряные солонки. В мелиховском доме не знали, как разместить московских гостей. Наконец праздник закончился и многомесячная «школьная» забота свалилась с плеч. Чехов попросил Е. 3. Коновицера, мужа Е. И. Эфрос, имеющего отношение к московскому газетному миру, ни в коем случае никому не рассказывать в Москве о новой школе: «Боюсь, как бы не напечатали чего-нибудь „Новости дня“. Когда в этой милой газете я вижу свою фамилию, то У меня бывает такое чувство, будто я проглотил мокрицу. Брр!»
Повестью Чехов, конечно, был недоволен, привычно ворчал: «…большая, утомительная, надоела адски». Словно не он ее писал, а читал чужую. Но на самом деле он волновался о прохождении «Моей жизни» через цензуру. История молодого человека из дворянского рода, сына городского архитектора, который не искал общественного положения, приличествовавшего ему по происхождению и социальному положению, в конце концов стал и остался маляром, могла зацепить, остановить внимание цензора. Поэтому он попросил А. Тихонова, если повесть покажется «слишком мрачной, нецензурной», немедленно выслать рукопись в Москву, в редакцию «Русской мысли» на его имя.
Потапенко еще весной взял на себя хлопоты с «Чайкой». Они оказались не очень обременительными, но своевременными. Цензор М. И. Литвинов просмотрел пьесу уже в мае. Его остановили всего лишь две-три реплики Треплева о сожительстве Аркадиной с Тригориным. Он готов бы исправить их по своему усмотрению. Но из уважения к автору, известному литератору, предложил это сделать ему самому. 15 июля он написал об этом Чехову, и канцелярия Главного управления по делам печати в этот же день отправила в Москву экземпляр пьесы с пометами цензора.
11 августа Чехов сообщил Потапенко, что выслал ему пьесу и рассказал, какие фразы он вычеркнул, что можно зачеркнуть, а что заменить другими словами. Перемены были незначительными. Зато волнение, угадывавшееся в этом письме, – сильное: «Если изменения, которые я сделал на листках, будут признаны, то приклей их крепко на оных местах <…>. Если же изменения сии будут отвергнуты, то наплюй на пьесу: больше нянчиться с ней я не желаю и тебе не советую. <…> На 5-й же и на 37-й только зачеркивай. Впрочем, поступай, как знаешь. Прости, что я так нагло утомляю тебя».
Да, Потапенко уезжал за границу, менялся его адрес, письма Чехова и Потапенко и они сами могли разминуться на день. Но за всеми этими привходящими обстоятельствами ощущались одновременно нетерпение Чехова и его опасения. Он будто и торопил, и сдерживал события. Отсюда, наверно, грубоватый тон: «наплюй», «нагло», «нянчиться». А за ним, может быть, скрытая смятенность? Или нечто фатальное, сходное с его отношением к своей главной болезни – что будет, то и будет. Никакой попытки избежать возможного краха. Будто какая-то сила не позволяла остановиться.
В двадцатых числах августа Потапенко приехал в Москву. Он опять разминулся с Чеховым. Тот накануне уехал на юг. Именно в тот день, 20 августа, «Чайка» была пропущена цензурным комитетом. Игнатий Николаевич рассказал в письме, что помимо исправлений, сделанных Чеховым, он, уточнив пожелания Литвинова, внес незначительные перемены в некоторые реплики и обещал представить два экземпляра в комитет в самом конце августа, чтобы ее рассмотрели в начале сентября. Свое письмо Потапенко послал в Феодосию на дачу Суворина, куда, как ему сказали, поехал Чехов. Но кто-то слышал, будто он отправился на Кавказ.
Кажется, Чехов сам не знал все лето, куда он тронется, едва закончит стройки и повесть. Он собирался туда и сюда, а в промежутке – побывать в Ясной Поляне. Но перенес поездку к Толстому на сентябрь. Однако через Меньшикова, заехавшего в Мелихово по пути к Толстым, передал, что охотно бы приехал и даже помог бы М. Л. Толстой принимать больных, но пугает изобилие гостей.
Меньшиков все передал и с восторженной иронией рассказал в письме: «Софья Андреевна, со свойственною ей тонкостью, заявила, что такое уж их несчастье, что целые толпы разной сволочи осаждают их дом, а люди милые и дорогие им стесняются приехать», «но скажите ему, что мы всем сердцем рады и примем его… <…>. Татьяна „очень Вас любит“, но чувствует какую-то грусть за Вас, думает, что у Вас оч[ень] большой талант, но безжизненное материалистическое] миросозерцание» и пр. <…> «Скажите, он очень избалован? Женщинами?» – «Да, – говорю, – к сожалению, избалован». – «Ну, вот, мы говорили об этом с Машей и советовались, как нам держать себя с ним. Эти дамы – противно даже – смотрят ему в глаза: – „Ах, Чехов вздохнул, Чехов чихнул!“ – „Мы с Машей решили его не баловать“, – прибавила Таня с прелестною откровенностью. Вы и представить не можете, как это мило было сказано. Я посмеялся и заявил, что непременно напишу Вам обо всем этом».








