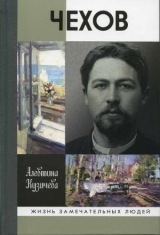
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 30 (всего у книги 71 страниц)
Отношения между ними так и не сложились. Если Александр и Иван никогда не посягали на откровенность Чехова, на душевную дружбу с ним, то Михаил всё еще не осознал, что они родные, но не близкие люди. И то, что он брат, не давало ему права на задушевные беседы и доверительные признания.
* * *
Говорил ли Чехов до сих пор еще кому-нибудь кроме Суворина, что он привык к нему, чувствовал себя свободно с этим человеком, правильно понятым, а потом не истолкованным дурно? Кому еще он доверял и доверялся? Покойному Свободину? Или Плещееву, весть о смерти которого 26 сентября 1893 года в Париже быстро донеслась до России?
7 октября Лидия Стахиевна послала короткое письмо с настоятельной просьбой к Чехову приехать в Москву: «Мне так хочется Вас видеть, так страшно хочется этого, и вот и только – я знаю, что это желанием и останется! <…> Ведь мне осталось только три-четыре месяца Вас видеть, а потом, может быть, никогда». И далее – просьба уже не о встрече, но хотя бы о письме: «Умоляю, напишите две строчки, так как Вы не приедете – Плещеева уже похоронили. Не возмущайтесь».
Вероятно, Чехов просил сообщить ему дату похорон Плещеева. Но она не смогла этого сделать по какой-то причине. Заупокойная литургия и погребение на Новодевичьем кладбище прошли как раз 7 октября. Чехов поехал в Москву только 27 октября. В эти дни он пережил еще одну потерю – 25 октября в Петербурге умер П. И. Чайковский. Уже из Москвы Чехов послал телеграмму М. И. Чайковскому: «Известие поразило меня. Страшная тоска… Я глубоко уважал и любил Петра Ильича, многим ему обязан. Сочувствую всей душой». Словосочетание «многим обязан» очень редко встречалось в письмах Чехова. Оно передавало особую душевную признательность за нечто, что существенно повлияло на него самого, на его жизнь.
Понять настроение Чехова по его письмам в эту пору – осенью и ранней зимой 1893 года – необычайно трудно. В глубине – состояние, обусловленное смертью Плещеева и Чайковского. На поверхности – какое-то неожиданное, на первый взгляд бравурное, кажущееся странным, необъяснимым. Да, у него были основания дать себе передышку. Во-первых, определилась судьба книги «Остров Сахалин», отданной в «Русскую мысль», где ее начали печатать уже в октябре. Во-вторых, Потапенко, узнав о казусе с долгом Чехова суворинской «конторе», навел в оной справки. Выяснилось, что бухгалтер ошибся, и всё не так страшно. Значит, отпали «фантастические» планы насчет возвращения в газету и кабалы на десять лет с изданием книг.
К тому же Чехов заключил договор с издателем И. Д. Сытиным на сборник своих рассказов и получил 2300 рублей. К этому его подвигло предложение бывших владельцев имения – выплатить им оставшуюся по закладной сумму с уступкой 700 рублей, то есть всего 2300 – но сейчас, теперь, сразу. Чехов согласился и в конце года уплатил этот долг. На нем остался еще банковский долг в 5800 рублей (как он шутил, «быть должным банку приятно даже»). А еще долг суворинской книжной фирме и самому Суворину – 3490 рублей, который Чехов полагал погасить в крайнем случае в следующем году. Всего же – свыше девяти тысяч рублей. И все-таки, по сравнению с весной 1892 года, долг сократился наполовину.
В такие минуты на Чехова находил легкомысленный стих. Однажды он сказал о себе: «К тому же, когда у меня бывают деньги (быть может, это от непривычки, не знаю), я становлюсь крайне беспечен и ленив: мне тогда море по колено…» Это ощущение независимости от мыслей о деньгах Чехов иногда называл праздностью. И много раз говорил, что она необходима ему для личного счастья и для сочинительства. Когда бы за письменный стол его гнали не соображения о том, на что купить инвентарь, как расплатиться с работниками, где взять деньги, чтобы уплатить проценты в банк, а лишь желание писать.
Он отделял эту праздность от ничегонеделания, от банальной лени, приравнивая ее к наслаждению природой и одиночеством. Слово леньбез конца мелькало в его письмах. Наверно, кого-то из его корреспондентов оно вводило в заблуждение, потому что имело много смысловых оттенков. От общеизвестного, обыкновенного – до такого, который передавал особенности личности Чехова, его, как он говорил, «психико-органические свойства». Как-то на упрек Суворина он ответил: «Вы пишете, что мой идеал – лень. Нет, не лень. Я презираю лень, как презираю слабость и вялость душевных движений. Говорил я Вам не о лени, а о праздности, говорил притом, что праздность есть не идеал, а лишь одно из необходимых условий личного счастья».
Иногда под ленью подразумевалось состояние душевной усталости. Порой он скрывал за этим словом свою опустошенность после напряженной работы, когда, наверно, еще шло расставание автора со своими созданиями, когда он словно перенастраивался на новую работу и замедлившееся сочинительство называл ленью. Физическую усталость, например, после Сахалина или в 1892 году в «холерное» лето он тоже прятал за этим словом. Рассказывал в письме Н. М. Линтваревой о бесконечных разъездах по своему медицинскому участку и шутил: «Моя лень оскорблена во мне глубоко».
Было еще одно утомление, при котором Чехов поминал лень. Это однообразие. Оно словно усыпляло его. Шла ли речь об одноцветных пейзажах, о монотонном образе жизни, о пустых разговорах. Его раздражали даже одинаковые конверты, купленные домашними про запас. Глубокой осенью 1892 года он писал Суворину из Мелихова: «Однообразие сугробов и голых деревьев, длинные ночи, лунный свет, гробовая тишина днем и ночью, бабы, старухи – всё это располагает к лени, равнодушию и к большой печени. <…> Один мой сосед, молодой интеллигент, сознавался мне, что любит читать, но не в состоянии дочитать книгу до конца. Что он делает в зимние вечера, для меня непостижимо».
Когда мысль о деньгах томила особенно сильно, Чехов не скрывал того, как не хочется ему писать, какая лень садиться за письменный стол. Однако с годами, незаметно, но неуклонно, со словом леньстало сочетаться слово старость. Осенью 1892 года Чехов писал Щеглову о своей мелиховской жизни: «И тепло, и просторно, и соседи интересные, и дешевле, чем в Москве, но, милый капитан… старость! Старость, или лень жить, не знаю что, но жить не особенно хочется. Умирать не хочется, но и жить как будто бы надоело. Словом, душа вкушает хладный сон».
Эта перемена: лень писать – лень жить, могла быть связана и с его давним странным чувством, что после 30 лет наступает старость, точнее, старение, утрата внутреннего возбуждения, необходимого для сочинительства. Может быть, так проявлялась уже осознанная реальность: у него чахотка и это необратимо. Или переполняло недовольство тем, что он написал в последние годы. Или сказались «тяжесть и угнетающая сила» сочинительства, этого «червя», уже много лет подтачивавшего его жизнь.
Была и еще одна причина: многолетняя усталость, усугубившаяся в Мелихове трудными «холерными» заботами, медицинскими занятиями, хлопотами с имением. Письмо Александру от 4 сентября 1893 года он закончил строкой: «Утро. Приемка больных. Сейчас принял № 686. Холодно. Сыро. Нет денег».
* * *
И вдруг Чехов неожиданно засобирался в путь – будто бы на Мадейру («Это от грудей хорошо. Есть попутчик: Шехтель»), В связи с этим решил «закончить» свою кратковременную государственную службу. Дело в том, что для получения бессрочного паспорта Чехов хлопотами Александра Павловича был определен в марте 1893 года младшим сверхштатным чиновником в Медицинский департамент Министерства внутренних дел. 12 ноября этого же года Чехов по его просьбе был освобожден от службы. Как лицо, вышедшее в отставку, он получал желанный паспорт. До этого момента мещанин А. П. Чехов имел лишь временный вид на жительство, выдаваемый на пять лет.
Еще весной директор департамента передавал Чехову совет – не спешить с отставкой, мол, беспокоить нового чиновника не будут, а вот некоторые льготы и перемены в чинах последуют, как положено. Александр, предлагая тут же, поступив, выйти в отставку, шутил: «И так как твоя служба продолжится всего только несколько дней, то постарайся послужить родине как можно поусерднее».
Свести «службу» к одному дню Чехов счел уж совсем неловким и лишь в октябре попросил брата закончить это дело. И набросал в письме пародию на свой «формулярный список»: «Раньше нигде не служил, в сражениях, под судом и под венцом не был, орденов и пряжки XL не имею. Имею две благодарности от земских собраний за организацию холеры и доблестную службу, а также в 1888 г. был награжден Пушкинской премией за послушание родителей. Имею недвижимое: 213 дес. Происхождения необыкновенного, весьма знатного. Отец мой служил ратманом полиции, а дядя и по сию пору состоит церковным старостой <…>»
Уже 11 ноября петербургский «ходок» сообщал в своей насмешливой манере: «Вчера секретарь департамента <…> уведомил меня о радостном событии: тебя уже турнули в шею из сонма чиновников <…> и твой беспаспортный дух может успокоиться, буде он мятется». Вскоре уточнил, что пришлет паспорт через две недели: «Потерпи, Антошичька! За долготерпение дядя Митрофан и протоиерей Покровский тебя превознесут. Прощайте, молодой человек в отставке, и будьте здоровы. <…> Я об тебе пекусь».
Еще одной шуточно обсуждаемой, но на самом деле нешуточной темой в осенней переписке старших братьев стали слухи и сплетни о болезни Чехова. Александр рассказал со слов коллег, как в редакцию «Нового времени» приезжал Лейкин и уверял, будто Чехов ему единственному доверил «печальную повесть» о «раннем угасании от неизлечимого недуга». Чехов написал в ответ: «Поблагодари Лейкина за сочувствие. Когда его хватит кондрашка, я пришлю ему телеграмму». И продолжил, уже для брата: «Маленько покашливаю, но до чахотки еще далеко. Геморрой. Катар кишок. Бывает мигрень, иногда дня по два. Замирания сердца. Леность и нерадение». Так «хохлацкая лень», в шутку упоминавшаяся когда-то как свидетельство здоровья, теперь, тоже в шутку, оказалась в перечне серьезных болезней Чехова.
Еще до этого, видимо, по строчкам из предыдущего письма, Александр почувствовал невысказанное настроение брата. Чехов дал совет обучать старшего племянника Николая какому-нибудь ремеслу, коли он оказался «туповат в науках»: «Во всяком разе иметь надо в виду ближайшую цель: кусок хлеба. На папеньку-то ведь и на дядюшек надежда плохая». Александр откликнулся скрытым утешением: «В сущности же из всей плеяды братьев только ведь ты один имеешь счастие считаться моим братом и другом, поелику Иван для сего слишком положителен, а Михайло в чинах по службе далеко ушел. Мы с тобою как-то ближе: ты – не имеющий чина, а я – скромный губернский секретарь».
В письме от 11 ноября 1893 года он ругмя ругал Лейкина. Тот продолжал звонить во всех редакциях, кружках и домах о близкой кончине Чехова: «Уйми ты Лейкина. <…> Он тебе делает отрицательную репутацию, вызывая везде ни к чему не нужные сожаления. Ведь не всякий знает, что Лейкин – осёл и дурак <…>. Та же публика, увидев тебя жива и здрава, обидится на тебя за то, что ты обманул ее и не умер от чахотки. <…> Посоветуй Лейкину прилепить язык к гортани, и да будет он проклят».
Но о том, что у Чехова, по слухам, идет горлом кровь, что у него чахотка, Чехову писал из Петербурга и Суворин. На все подобные разговоры и доносившееся из столицы сочувствие Чехов ответил брату 22 ноября: «Конечно, всё это вздор, но положить конец вздорным слухам не в моей власти; не могу же ведь я выслать медицинское свидетельство. Полают и отстанут». Правда, самому Суворину десятью днями раньше Чехов написал: «Я жив и здрав. Кашель против прежнего стал сильнее, но думаю, что до чахотки еще очень далеко». И продолжил: «В последнее время мною овладело легкомыслие и рядом с этим меня тянет к людям, как никогда <…>»
Чехов уверял Суворина, что писать что-либо ему не хочется («не хватает страсти») и всему – литературе, медицине – он предпочитает чтение («в продолжение многих часов», «лежа на диване»). В этом же письме он рассказывал: «Третьего дня я вернулся из Москвы, где прожил две недели в каком-то чаду. Оттого, что жизнь моя в Москве состояла из сплошного ряда пиршеств и новых знакомств, меня продразнили Авеланом».
Можно подумать, что Чехов пародировал «письма» Суворина из Парижа о празднике, банкете. Даже главные состояния схожи – «в каком-то чаду». Но, действительно, кружок новых приятелей и приятельниц Чехова назвался «эскадрой», а его именовали Авеланом. Началась череда обедов, застолий, катаний. У всех в компании появились прозвища. Пятидесятилетний Саблин – «серебряный дедушка». Татьяна Щепкина-Куперник – «лиловая безумная», а Лидия Яворская – «зеленая безумная», за пристрастие к любимому цвету. Тех, кто их не понимал или осуждал, они звали «разумными».
«Луврские сирены», как называл Чехов обеих приятельниц, так как одна из них жила в гостинице «Лувр», вовсю околдовывали симпатичного, остроумного литератора. Он охотно поддавался чарам молодых, интересных женщин, искушавших «святого Антония», певших ему в уши о его исключительности, о том, что он знаменит, слава его растет. Софья Владимировна, жена Ивана Павловича, с самого начала знакомства, пристально, даже с долей скрытой ревности, наблюдала за деверем. Она запомнила взгляд, которым Чехов окидывал входящую женщину. В этом взгляде, по ее словам, «чувствовался настоящий мужчина». Однажды, затевая любительский спектакль силами литераторов, Чехов пошутил: «Во всяком разе пора перестать быть очень серьезными, и если мы устроим дурачество монстр, то это шокирует только старых психопаток, воображающих, что литераторы гипсовые».
По случаю приезда Чехова в Москву затевались празднества. Саблин предпочитал везти всех в «Яр» и «Стрельню», он любил цыган. Или зазывал завтракать к Тестову и там закусывать водку грудинкой, вынутой из щей. Лавров знал какие-то ресторанчики на окраинах, где посетителей баловали белорыбицей и особенной ветчиной. Гольцев, в шутку называвший себя «лысым русским либералом», настраивался на долгий разговор под бутылочку любимого красного вина. Участникам «эскадры», «плававшей» по ресторанам, запомнились и домашние приемы у Лаврова. Потапенко описывал «бесконечно длинные, вкусные, сытные, с обильным возлиянием и достаточно веселые обеды, многолюдные и речистые, затягивавшиеся далеко за полночь <…>. Чехова они утомляли, и потому (однако ж единственно поэтому) он шел на них неохотно <…>. В Москве Чехов оставался по нескольку дней, но в эти дни ничего не писал. Его манера работать вдали от людских глаз – здесь, где он был постоянно на виду у всех, была неосуществима. <…> Зато и уезжал он внезапно, словно по какому-то неотразимому внутреннему побуждению. Вот сегодня собирались в театр, взяли билеты, и он интересовался пьесой <…> и он обещал. Всё равно <…> уезжал, несмотря ни на что».
Так же внезапно он уехал 7 ноября 1893 года. Уже из Мелихова Чехов написал два письма. Одно Гольцеву с поздравлениями и сожалениями, что не смог «приплыть» и поздравить именинника лично. Другое – Лаврову в связи с юбилеем Григоровича. Еще пять лет назад Чехов говорил, что по-человечески Гольцев ему симпатичен: «человек милый и хороший». Но иронизировал над ним в роли редактора: «вице-директор самого толстого и самого умного журнала во всей Европе»; «великий визирь „Русской мысли“»; «журнальный масон». И не принимал как литератора и литературного критика: «понимающий в литературе столько же, сколько пес в редьке».
Чехов, конечно, уже тогда был наслышан о его судьбе: Гольцеву отказывали в кафедре, в курсе в нескольких российских университетах, так как был разослан тайный циркуляр министра народного просвещения Д. А. Толстого, предписывавший не допускать его к лекциям «нигде в империи, ни в каком учебном заведении». Это было следствием выступлений Гольцева против любимой министром системы классического образования и вообще воззрений опального магистра. За них он подвергался арестам, обыскам, негласному надзору полиции.
Средоточие его идей – России нужна конституция, России нужны законы, которые подняли бы авторитет власти в глазах образованного общества. Это должно объединить оппозицию. И вообще взаимопонимание плодотворнее вражды. Поэтому Гольцев декларировал свое правило: «…в противнике желаю видеть человека, хочу идти навстречу его мнению, понять его и горячо поспорить с ним, в случае несогласия, но не оскорблять его лично». Это строки из его статьи в январском номере «Русской мысли» (1889).
С самим Виктором Александровичем у Чехова постепенно сложились настолько приязненные отношения, что они перешли на «ты». В окружении Чехова таких людей было немного. Из прежних приятелей – Гиляровский и Сергеенко, из новых – Потапенко, Лавров и Гольцев. Что-то в них располагало Чехова к себе.
Игнатий Николаевич Потапенко, сын военного, ставшего священником, и крестьянки, учился в духовном училище, затем в семинарии, в университетах (Новороссийском и Петербургском), в консерватории. Однако не стал ни священником, ни юристом, ни певцом. Стал журналистом, печатался в южных газетах. Затем перебрался в столицу. Первые же повести и романы создали ему свою публику и имя в литературных кругах. Он писал на злободневные темы, просто, в меру занимательно, в меру нравоучительно. Многословно, но не утомительно и не обременительно для читателя. Неглупый, скорее добродушный, чем добрый, приветливый, он легко вписывался в компанию. Не скупой, но и не бросающий денег на ветер, он тем не менее безболезненно расставался с ними. Среди литераторов слыл «королем авансов», умел взять их всюду. Плещеев звал его «рыцарем аванса». Тратил на женщин, на азартные игры. Не получив развода от законной жены, жил семейно с другой женщиной, от которой имел детей. И, по-видимому, никогда не унывал. Хотя, конечно, увлечения стоили ему недешево. Вынужденный писать не просто много, а очень много, он осознавал, что исписывается, истощается. Однажды в откровенную минуту, когда они выпивали наедине, Потапенко сказал одному из приятелей: «Да, был когда-то талант, подававший надежды, но… Ах, что я сделал со своим талантом!»
28 ноября 1893 года Чехов то ли в шутку, то ли всерьез написал Суворину о Потапенко: «Это необыкновенный человек. Он может писать по печатному листу в день без одной помарки. Однажды в 5 дней он написал на 1100 руб. И по-моему, это курьерское скорописание есть вовсе не недостаток, как думает Григорович, а особенность дарования. Одна баба два дня ревет белугой, пока родит, а другой родить – всё равно, что в нужное место сбегать».
Обладавший хорошей памятью, Потапенко запомнил многое из встреч с Чеховым, которого, как и Чехов его, с 1893 года считал своим добрым и верным товарищем. По наблюдениям Потапенко, к чему Чехов «чувствовал непобедимый, почти панический ужас, так это к торжественным выступлениям, в особенности, если подозревал, что от него потребуется активное участие».
Осенью 1893 года в Петербурге 31 октября отмечали 50-летие литературной деятельности Григоровича. Москвичи тоже решили, пусть не так торжественно и многолюдно, но почествовать автора «Деревни» и «Антона Горемыки». Хлебосольный Лавров затеял обед в «Эрмитаже» и, конечно, готовились речи. Особенно уповали на слово Чехова. Чехов вообразил, как это будет выглядеть, и нарисовал картину, запомнившуюся Потапенко: «Ведь это же понятно. Я был открыт Григоровичем и, следовательно, должен сказать речь. <…> И при этом непременно о том, как он меня открыл. Иначе же будет нелюбезно. Голос мой должен дрожать и глаза наполниться слезами. Я, положим, этой речи не скажу, меня долго будут толкать в бок, я все-таки не скажу, потому что не умею. Но встанет Лавров и расскажет, как Григорович меня открыл. Тогда подымется сам Григорович, подойдет ко мне, протянет руки и заключит меня в объятья, и будет плакать от умиления. Старые писатели любят поплакать. Ну, это его дело, но самое главное, что я должен буду плакать, а я этого не умею. Словом, я не оправдаю ничьих надежд».
Он не раз шутил, что в юбилейных речах много неискреннего, что, когда говорят о нем, он готов лезть под стол. Подтрунивал впоследствии над «глупой московской сентиментальностью». Однажды сказал, что лучший способ отметить чей-то юбилей – это учредить стипендию, чтобы дать возможность получить гимназическое или университетское образование. Например, кому-то из «кухаркиных детей». Чехов имел в виду пресловутый циркуляр Министерства народного просвещения от 1887 года, который, в сущности, разрешал препятствовать поступлению в гимназии детям лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников.
Юбилей прошел без Чехова.








