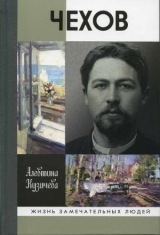
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 51 (всего у книги 71 страниц)
Профессорам, не пустившим «Дядю Ваню» на сцену Малого театра, наверно, недоставало в пьесе «театрального языка», «сценичности», а поэтический язык «новой драмы» оказался им недоступен. Однако времени на сочинительство у Чехова не было. В Мелихове упаковывали вещи, со стен снимали картины, фотографии. В разгаре было строительство новой школы. Чехов рассказывал, что «ходят плотники, каменщики, конопатчики, нужно подолгу торговаться, объяснять, ходить на постройку – и в общем живется не скучно и не весело, а так себе». Продолжалась «путаница».
Может быть, такого житейского беспорядка и душевного беспокойства давно не было в его жизни. Всё неустойчиво, всё неопределенно. Переносы сроков отъезда из Мелихова. Согласие и отказы возможных покупателей имения. Новые знакомства и утрата прежних. На письмо Шавровой с известием, что она болела, потеряла маленького сына, на ее просьбу не забывать тех, кому «жизнь показала свои когти», Чехов ответил утешающе: «Мне грустно, что Вам живется невесело, что Вы называете себя неудачницей». Их переписка завершалась, как и переписка с Мизиновой.
Неизменным оставался «денежный вопрос». Чехов иронизировал над своей «состоятельностью». Шутил, что не понадобилось ехать в Монте-Карло, чтобы в один месяц жизни в Москве прожить три тысячи. Говорил, что от «капиталов, вырученных за произведения, скоро останется одно только приятное воспоминание». Эта тема обыгрывалась в переписке с Александром, как тема «благодетеля» и «бедного родственника»; «богатого» главы семьи и «наследников». Чехов шутил: «Если тебе Маркс прислал мои деньги, то возврати»; – «Пожалуйста, не причисляй себя к числу наследников, которым поступит доход с моих пьес. Это завещано другим, ты же получишь после моей смерти собаку Белку и рюмку без ж-ки»; – «Бедный, неимущий Саша! <…> Хотел прислать тебе старые брюки, но раздумал; боюсь, как бы ты не возмечтал». Александр тоже не скупился на шутки: «Не знаю, кто кого надул, ты Маркса или Маркс тебя. <…> Презирающий богачей Бедный Гусев»; – «Вторым разорителем Маркса является Вас. Немирович, который продает ему свои сочинения за 120 тыс[яч], мотивируя тем, что он, как писатель, выше тебя и ты ему не годишься даже в подметки».
Известие о договоре, успех «Чайки» в Москве, обилие рецензий и статей о сочинениях Чехова сопровождались возросшими разговорами о Чехове среди литераторов. Особенно петербургских. Фидлер привел слова Мережковского, сказанные весной 1899 года на ужине у Случевского: «„Не пишущих гениев куда больше, чем пишущих“. Считает Альбова гораздо более крупным писателем, чем Антона Чехова». Он же записал после встречи с Потапенко: «Хочет написать поздравительное письмо по поводу семидесяти пяти тысяч. „Знаю наверняка: он думает, я завидую его успехам“».
Александр попал в точку с шуткой о «просителях», которые теперь будут одолевать брата. В потоке писем резко возросли с 1899 года просьбы о материальной помощи. Отовсюду поступали слезные просьбы – денег, денег… Писали, судя по слогу, профессиональные «нищие», непременно упоминавшие чахотку, якобы поразившую кого-то из близких. Не жалели высоких слов авантюристы, убеждавшие, что им недостает нескольких тысяч, например, на строительство санатория для легочных больных. Часто начинали с извинительных фраз: «Вы не Крез, всем помочь не можете»; – «Всех пожалеть трудно»; – «Вы человек добрый, я это понял(а) из Ваших рассказов»; – «Вы человек гуманный» и т. п. Заканчивали цифрой: от трех рублей до нескольких тысяч.
Знакомые земские врачи, учителя, служащие ходатайствовали за больных коллег, вдов, сирот. Чехов помогал. Не отказывал тем, кто приходил к порогу дома. В своих письмах и разговорах Чехов умалчивал об этой статье расходов.
Зимой 1899 года он получил из Харькова письмо от Г. А. Харченко – того, что служил вместе с братом в «мальчиках» в таганрогской лавке Павла Егоровича. Теперь он работал в конторе, имел большую семью, был ограничен в средствах. Но очень хотел дать дочерям гимназическое образование. Чехов ответил: «К желанию Вашему <…> я могу относиться только с полным сочувствием. Когда Вашей старшей дочери минет девять лет, то отдайте ее в гимназию и позвольте мне платить за нее до тех пор, пока ее не освободят от платы за учение». Так еще на одного человека увеличился список учащихся, подопечных Чехова.
* * *
Что же до настоящих наследников, то тут всё определялось характерами братьев и сестры, сложившимися семейными отношениями. Евгения Яковлевна не вникала особенно в денежный вопрос. Мария Павловна знала: ялтинский дом, участок в Кучукое, сбережения на ее книжке – всё это в первую очередь строилось, покупалось, откладывалось для матери и для нее. Чехов всегда подчеркивал это, чтобы не оставалось никаких сомнений на сей счет.
Александр Павлович, затеявший в 1899 году строительство загородного дома под Петербургом, был введен в заблуждение подрядчиком, как когда-то Павел Егорович. Сколько он ни напрягался, ни строчил без продыху, обойтись без займа не мог. И попросил у брата тысячу на год: «Само собой разумеется, что ты отнюдь не обязан хлопотать и <…> вывозить меня из неловкого положения». Чехов тут же ответил, что поможет, и пошутил, наверно, имея в виду кредиторов отца и повестки в суд, которые получал, когда вся семья уехала из Таганрога в Москву: «За тысячу ты должен будешь возвратить мне через год 1800 р., в противном случае же я подам в коммерческий суд в Таганроге».
Иван Павлович старательно избегал любого займа и не выходил за рамки семейного бюджета. По-прежнему экономил на питании, одежде, летнем отдыхе, хотя мечтал о загородном домике, о заграничном путешествии. Иногда Чехов корил брата за отказ от его помощи. Летом 1899 года он предложил ему отдохнуть всей семьей в Крыму, поселиться в Кучукое. Но тот предпочел Алупку, а курьерскому поезду почтовый. В таких случаях в семье говорили: «Иван есть Иван».
Михаил тоже оставался Михаилом. Едва заговорили о продаже Мелихова, Михаил Павлович стал напоминать сестре, сколько труда и денег он вложил в это имение. И, наконец, не выдержал и прямо возмутился «богатым» братом, ревниво выспрашивая у сестры: «А вот что: скажи ты мне на милость, куда только за один год он прожил 25 тысяч? <…> Эх, не расчетлив! <…> Ну, что если бы мне такую сумму денег! Ведь всё перевернул бы вверх дном». Однако спохватился: «Ну, да ведь осуждать-то легко: его святая воля! Ему лучше видно!»
И все-таки не успокоился – поздней осенью 1899 года решился изложить брату свои обиды, расчеты, претензии. Чехов не стал объясняться, но объяснил: «В финансовом отношении дело обстоит неважно, ибо приходится жаться. Дохода с книг я уже не получаю, Маркс по договору выплатит мне еще не скоро, а того, что получено, давно уже нет. Но оттого, что я жмусь, дела мои не лучше, и похоже, будто над моей головой высокая фабричная труба, в которую вылетает всё мое благосостояние. На себя я трачу немного, дом берет пустяки, но мое литературное представительство, мои литераторские (или не знаю, как их назвать) привычки отхватывают себе ¾ всего, что попадает мне в руки». И продолжил: «Меня здесь одолевают больные, которых присылают сюда со всех сторон – с бациллами, с кавернами, с зелеными лицами, но без гроша в кармане. Приходится бороться с этим кошмаром, пускаться на разные фокусы» – кому-то оплачивать квартиру, кому-то услуги врача.
Дожди, холодное, «поганое лето» держали Чехова в Мелихове: «<…> зябну и неистово читаю корректуру, которую целыми пудами присылает мне Маркс». Сам же пудами отправлял в Ялту домашние вещи, книги. Но пока не спешил туда. Ему хотелось уже поселиться в собственном доме, не обретаться на чужой квартире. Хотелось, наверно, устойчивого, постоянного.
В июне 1899 года началась переписка Чехова с Ольгой Книппер. Она в это время отдыхала на Кавказе. В двух первых посланиях он словно искал интонацию: «Здравствуйте, последняя страница моей жизни, великая артистка земли русской. Я завидую черкесам, которые видят Вас каждый день».
Чехов и Книппер уже выбрали себе в шутку роли: он – «автор», «писатель»; она – «актриса». Она звала его в Мцхет, оттуда вместе в Батум и Ялту: «Может, вздумаете?» Чехов ответил полным согласием и назначил встречу в Батуме. Он писал весело и определенно: «Мое крымское имение Кучукой теперь летом, как пишут, изумительно. Вам непременно нужно будет побывать там».
Как раз в эти дни сестра спросила Чехова, не встретил ли он в Москве Мизинову. Он ответил одной строкой – среди хозяйственных сообщений и распоряжений о стройке мелиховской школы, среди дорожных хлопот: «Про Лику ничего не знаю». Мизинова обещала побывать в Мелихове еще в июне. Но приехала ли туда в последний раз? И когда случился ее неудачный московский визит, про который она упоминала в сентябрьском письме в Ялту: «Мне сказали, что Вы, может быть, приедете в Москву (вероятно, для свиданий с невестами?). Если захотите меня видеть – пришлите за мной, но тогда, когда у Вас никого не будет, чтобы я не могла помешать, как последний раз! А то чувствуешь себя очень неловко, когда являешься не вовремя! А я последнее время у Вас, по-видимому, всегда не вовремя! <…> Если бы я имела возможность бежать в Австралию – то была бы счастлива! Ну, Бог с Вами, желаю Вам всяческих благ и жму Вам руку. Ваша Лика. Ах, как скучно жить!»
Кто бы ни был в гостях у Чехова в момент появления Мизиновой, главное – чувство неловкости с обеих сторон. Она нашла точное слово: «не вовремя». Время их взаимного интереса, душевной связи и «побега в Австралию» давно миновало.
К середине лета 1899 года в Ялту отправили б о льшую часть мебели и утвари. Чехов вырыл в саду любимые растения: «Эти растения я взял на память о нашем имении, быть может примутся. Одно из этих растений принадлежало отцу». Вид разоренного дома, конечно, угнетал, и вообще, по словам Чехова, в Мелихове «всё как-то потускнело и пожухло». Когда-то, весной 1897 года, он в шутку назвал срок окончания мелиховской жизни: «Пробуду я в Мелихове до сентября 1899 года». Так оно и получалось.
Часть лета Чехов прожил в Москве. Но здесь досаждали уличные запахи, обеды в ресторанах, отсутствие добрых знакомых, разъехавшихся по дачам. И ужасно надоела корректура. В нескольких письмах он рассказал, что гуляет по Тверскому бульвару, беседует с падшими женщинами. Может быть, он вернулся к продолжению повести «Мужики»? В записных книжках Чехова остались заготовки вроде умозаключения: «Когда живешь дома, в покое, то жизнь кажется обыкновенною, но едва вышел на улицу и стал наблюдать, расспрашивать, например, женщин, то жизнь – ужасна». Так проступал сюжет о жизни Ольги и ее дочери в городе, где она служила в меблированных комнатах. Саша жила у тетки, принимавшей «гостей». В конце концов и Саша занялась проституцией.
Какая-то интонационная связь есть между московскими письмами Чехова летом 1899 года и двумя страницами незавершенного продолжения повести «Мужики». В письме сестре от 29 июня он рассказывал: «Был я сегодня в Ново-Девичьем. Могила отца покрыта дерном, иконка на кресте облупилась». Это случилось в день апостолов Петра и Павла. Наверно, он не обошел могилу Плещеева. Может быть, этим настроением вызваны строки: «От зеленых могил веет спокойствием, позавидуешь усопшим…»
12 июля Чехов выехал из Москвы в Таганрог. Сорвался как-то внезапно, хотя собирался 20 июля (а еще лучше 15-го) встретиться с Книппер в Батуме. И вдруг – Таганрог, перенос встречи в Новороссийск, на 17-е. Объяснил он поездку так: «по важному делу», якобы «для осмотра тамошних заводов». Но осматривал ли и зачем? В июне Чехов говорил сестре о каком-то очень важном деле в Москве, но не объяснил, что за дело. Потом за чем-то важным поехал в Таганрог. Были ли связаны эти дела?
Известно лишь, что в Таганроге Чехов побывал в городской библиотеке, встречался с Иордановым и согласился стать попечителем детских приютов. В воспоминаниях современников упоминался консилиум таганрогских врачей, будто бы решавших вопрос, можно ли Чехову жить в Таганроге. Доктор И. Я. Шамкович якобы сказал потом жене: «Я удивляюсь, как может человек дышать такими легкими…»
Все, кто запомнил этот приезд Чехова, говорили, что выглядел он утомленным, худым и бледным. Жил Чехов не у родных, а в гостинице. Пробыл в Таганроге всего два дня. Однако успел зайти в гимназию, навестить места своего детства и отрочества – Дубки, Карантин, Банный спуск. Выглядело всё это так, будто Чехов приезжал прощаться с родным городом, может быть, отдать какие-то важные распоряжения на случай его смерти. И в самом деле, более в Таганрог Чехов не приезжал.
17 июля он выехал в Новороссийск. Здесь встретился с Книппер. Вместе они прибыли в Ялту. Она остановилась в семье Срединых, он в гостинице на набережной, потом перебрался во флигель на Аутке. Так было удобнее присматривать за стройкой. Дача, представлявшаяся по плану маленькой, тесной, похожей, по выражению Чехова, «на коробку из-под сардин», на самом деле показалась пусть не просторной, но красивой, удобной: «Лучше и не надо. Комнаты малы, но это не бросается резко в глаза. Виды со всех сторон замечательные <…> остается пожалеть, что этого дома у нас не было раньше. <…> Одним словом, не дом, а волшебство». Однако расходов дом потребовал больше, чем планировалось. Чехов вынужденно, опять через Сергеенко, попросил Маркса выплатить пять тысяч из тех десяти, что полагались ему в декабре. На этот случай была договоренность. Маркс почему-то назвал эту услугу просьбой об авансе и выслал лишь две тысячи. История с «авансом» получилась неприятной.
Облик и настроение Чехова сохранили дневниковые записи Смирновой, оказавшейся в Ялте: «Он постарел и выглядит не знаменитым писателем, а каким-то артельщиком»; – «Он ходит в серых штанах и отчаянно коротком синем пиджаке». Чехов жаловался Софье Ивановне на Ялту. Отзывался без сочувствия о нововременцах, шутил, что боится их. 30 июля она записала в дневнике: «Видела на набережной Чехова. Сидит сиротой на скамеечке».
Стройка затягивалась, и пришлось возвращаться в Москву, где опять шли дожди, похолодало. Поездка в Таганрог выглядела странной, а в Ялту – бесполезной. И весь этот летний вояж не приблизил к главному: к работе за письменным столом. От дороги, усталости, нерешенных дел, скрытого беспокойства, от холода и сырости у Чехова усилился кашель, началось кровотечение, вернулась головная боль. Он вопрошал себя ли, кого-то незримого: «Доколе я буду так блуждать, когда войду в свою колею и стану вновь оседлым человеком – ведомо одному Аллаху».
Мелиховское имение наконец продали, но покупатель не готов был заплатить сразу. Опять Чехову не везло с деньгами. В Мелихове, как и в Таганроге, он с тех пор не бывал. Детство и отрочество, выпавшие на годы в городе у Азовского моря; молодость в Москве; зрелые годы, пришедшиеся на мелиховское бытие, – всё осталось в прошлом. Кроме Москвы, куда Чехов надеялся возвращаться, хотя к этому времени разговоры о покупке дома угасли. Уже не было денег, уже решили: Евгения Яковлевна с кухаркой Марьюшкой переселяются в Ялту.
От вынужденной праздности и болезни Чехов готов был «скакать» в Ялту хоть завтра. Настроение выдавали прощальные фразы писем: «Будьте здоровы и Богом хранимы». Так он говорил, когда тайно тосковал. Такое состояние сохранили предсахалинские письма, потом сразу после Сахалина. Затем в середине мелиховского семилетия. И теперь оно прорывалось в канун осени 1899 года.
25 августа Чехов все-таки уехал в Ялту.
В ауткинском доме одновременно настилали паркет, оклеивали комнаты, свозили мебель и вещи, все лето хранившиеся в другом месте. Всё требовало затрат. Чехов решился взять под вексель несколько тысяч в каком-нибудь банке до декабря, когда Маркс переведет оставшиеся восемь тысяч, полагавшиеся по договору.
Глава третья. ЯЛТИНСКАЯ «ОСЕДЛОСТЬ»В начале сентября в Ялту приехали Евгения Яковлевна и Мария Павловна. Все размещались в своих комнатах. Мать и сын на втором этаже, дочь на третьем, в «башне».
Из окна кабинета Чехова открывался вид на море, на горы. Определилось место письменного стола: перед турецким диваном, утопленным в нише. Напротив – камин. Окно – венецианское на юг. Верхнюю часть застеклили разноцветными стеклами (зеленые, желтые, красные, синие). В солнечную погоду по кабинету разливался свет, словно игравший красками и, может быть, напоминавший Чехову любимую Италию и Венецию.
Как всякий новый дом, эта обитель тоже медленно обретала жилой вид. Решали, где повесить картины покойного Николая, многочисленные фото, как поставить мебель в комнатах первого этажа.
После отъезда Марии Павловны в Москву Чехов рассказывал ей в письмах о здоровье матери и домашних новостях. О себе сообщал мало: «Ноябрьские ветры дуют неистово, свистят, рвут крыши. Я сплю в шапочке, в туфлях, под двумя одеялами, с закрытыми ставнями – человек в футляре. Нового ничего нет, мать здорова».
В первую же осень выяснилось, что у нового дома, этого «волшебства», оказалась огорчительная особенность. Несмотря на печное отопление, в нем было холодно. Для Чехова, страдавшего с детских лет от холода, а теперь еще и больного, недостаток тепла оказался мучителен. В декабре он предложил поставить две керосиновые печи, чтобы согреть «ущелье», пространство около лестницы. Теперь, наверно, дому более подходило другое название, промелькнувшее ранее в письмах Чехова, – «логовище», приют одинокого человека.
Из письма в письмо переходила фраза, что ничего нового нет. И еще одна – «если бы я жил в Москве…». Чехову писали, что первый том собрания сочинений раскупили, едва он появился, что попасть в Художественный театр трудно, что москвичи ждут премьеру «Дяди Вани». Она прошла 26 октября. Телеграммы, письма уверяли в успехе, нараставшем от спектакля к спектаклю. О нем рассказывала и сестра.
11 ноября Чехов написал ей: «Жить теперь в Крыму – это значит ломать большого дурака. Ты пишешь про театр, кружок и всякие соблазны, точно дразнишь, точно не знаешь, какая скука, какой это гнёт ложиться в 9 час. вечера, ложиться злым, с сознанием, что идти некуда, поговорить не с кем и работать не для чего, так как всё равно не видишь и не слышишь своей работы. Пианино и я – это два предмета в доме, проводящие свое существование беззвучно и недоумевающие, зачем нас здесь поставили, когда на нас тут некому играть».
Мария Павловна действительно точно дразнила рассказами о втором представлении «Дяди Вани», на котором ее чествовали за кулисами почти как автора: «Прислали за мной, чтобы шла на сцену. Встретил меня сияющий Немирович, а потом и остальные вышли из своих норок-уборных, и пошли самые теплые приветствия. Я не могла, конечно, не выразить своего удовольствия по поводу их великолепной игры, особенно игры Алексеева, который лучше всех. Книппер и Лилина очень милы. <…> Одним словом, успех огромный. <…> Только и говорят везде о твоей пьесе. Непременно тебе нужно написать еще пьесу».
Может быть, сестра полагала, что ее шутливые описания обедов в Литературном кружке, где «вкусно можно покушать» и где ее принимали, «как Аркадину в Харькове», и куда не просто звали, а зазывали, – скрашивали одиночество брата, развлекали его? Или ему интересны и важны упоминания, что Книппер ночевала у нее и они «смеялись не переставая», что они видятся часто и Мария Павловна познакомилась с «мамашей», то есть с «тещей» брата?
Ей, всегда занятой домашними делами, гимназией, мастерской, обязательными поездками в Мелихово, заботами о матери, нынешняя полная свобода, наверно, кружила голову. Хотя она знала цену актерским похвалам. Недаром грубовато описала встречу с Ленским. Тем самым, который ровно десять лет назад, прочитав пьесу «Леший», вынес приговор об отлучении Чехова от драмы, будто бы ему недоступной. Теперь, ввиду успеха «Чайки» и «Дяди Вани», он сменил гнев на милость. Мария Павловна рассказала: «Сашечка Ленский подошел ко мне, долго тряс мою руку и просил, чтобы я передала тебе, что он всегда любил тебя и любит. Меня это, представь, нисколько не тронуло. Уж очень рожа актерская. Но уже один тот факт, что он подошел, не кланявшись восемь лет!»
Мария Павловна без конца восхищалась Книппер: ее красотой, трудолюбием, обаянием. В каждом письме хоть несколько слов, но непременно о ней: «Обещала зайти Книппер»; – «смех Ольги Леонардовны»; – «Сегодня пойду с Ольгой Леонардовной слушать Мунэ-Сюлли»; – «Немирович <…> был у меня, сидел долго, много болтали, и у меня явилась мысль отбить его у Книппер»; – «Твоя Книппер имеет большой успех».
Чехов в своих письмах сестре передавал Книппер поклоны и лишь однажды назвал ее «необыкновенной женщиной». Зато в посланиях к самой актрисе не скупился: «Милая, драгоценная, великолепная актриса!»; – «Моя радость!»; – «Великолепная женщина»; – «Ангелочек»; – «Милая, знаменитая, необыкновенная актриса!»; – «Милая актриса, хороший человечек»; – «Очаровательная женщина!»
Никогда, кажется, дотоле Чехов не писал таких писем. Ни к одной женщине не обращал таких слов. Никому не рассказывал в таких подробностях о своих буднях. Ни сестре, ни женщинам, которыми увлекался. В первом же сентябрьском письме он признался: «Я привык к Вам и теперь скучаю и никак не могу помириться с мыслью, что не увижу Вас до весны <…>»
Когда он успел привыкнуть? Они виделись весной в Москве и в Мелихове. Потом летом встретились в Новороссийске, вместе возвращались из Ялты в Москву в первых числах августа. Чехов не раз вспоминал, как они ехали на лошадях до Бахчисарая, через Ай-Петри. Видимо, эта поездка что-то значила для него, что-то прояснилось в их разговорах.
Чехова оставляли равнодушным статьи и рецензии, в которых его хвалили, но неверно толковали. Он ценил не одобрение, а понимание. Не рассуждение, даже очень умное, а душевное движение.
Вероятно, Книппер в разговорах о «Чайке» и «Дяде Ване» расположила Чехова интересом к своим ролям. Не комплиментами автору, приятными, тем не менее банальными. Но вопросами, замечаниями. Она и в письмах говорила о своих героинях, о том, как в театре «налаживают» «Дядю Ваню», о том, что смущает ее в репликах, монологах, просила объяснить: «Говорите, писатель, говорите сейчас же».
И он отвечал, растолковывал. Она делилась волнениями по поводу первых спектаклей нового сезона, огорчениями из-за премьеры «Смерти Иоанна Грозного». Чехов утешал ее: «Искусство, особенно сцена – это область где нельзя ходить не спотыкаясь. Впереди еще много и неудачных дней, и целых неудачных сезонов; будут и большие недоразумения, и широкие разочарования, – ко всему этому надо быть готовым, надо этого ждать и, несмотря ни на что, упрямо, фанатически гнуть свою линию».
Чехов сразу заговорил с Ольгой Леонардовной, как с человеком, для которого, судя по всему, сцена не развлечение, не средство пропитания, а профессия. Может быть, и нечто большее. Он всегда отличал людей, по его выражению, «отравленных» профессией (будь то литература, медицина, театр, живопись), от дилетантов, от случайных людей или нестойких, бросающих свое занятие при первых трудностях. Ему было интересно с «фанатиками», с людьми, одержимыми профессией. С Левитаном и Шехтелем. С Сувориным, верным журналистике. С Ковалевским, увлеченным историей и социологией. С Куркиным, преданным медицинской статистике. Это о нем Чехов сказал, что он «несравненно больше, чем кажется».
В Горьком, еще колеблющемся, еще ищущем чего-то вне сочинительства, Чехов сразу уловил признаки «отравы», потому и написал ему летом 1899 года: «Что бы Вы там ни говорили, Вы вкусили от литературы, Вы отравлены уже безнадежно, Вы литератор, литератором и останетесь». Чехов ощущал это или угадывал благодаря особенной проницательности. Недаром Щеглов говорил, что Чехов «видит человека насквозь и, как потом выясняется, никогда не ошибается в своих суждениях».
Книппер, барышня из хорошего семейства, обученная пению, рисованию, игре на фортепьяно, языкам, вышиванию, танцам, когда материальные обстоятельства в семье изменились, стала зарабатывать уроками музыки. Потом выбрала сцену – и попала на нее тридцати лет от роду, закончив училище Московского филармонического общества, класс Немировича. Во все годы учебы содержала себя уроками, как многие курсистки, как ее однокурсницы.
Почти в таком же возрасте на сцену поступила и Комиссаржевская. «Славный, симпатичный», по словам Чехова, талант Веры Федоровны трогал автора «Чайки». Ценил он и заботу Комиссаржевской о его здоровье. Осенью 1898 года она заклинала Чехова поехать к доктору, будто бы успешно лечившему чахотку: «Сделайте, сделайте, сделайте, сделайте, сделайте, я не знаю, как Вас просить. <…> Но ужасно, если Вы не сделаете, прямо боль мне причините. Сделаете? Да?» Она не могла скрыть своего «хорошего чувства» к Чехову. Была искренна, по ее выражению, «до дна» и ждала от него того же. Вера Федоровна просила Чехова писать ей, почувствовать, как она этого ждет, как ей хотелось бы повидать его.
Чехов всегда отвечал ей искренно, тепло. Желал ей благополучия, «счастья и всего, что только есть хорошего на этом свете». Но что-то словно удерживало его от активной переписки с актрисой. Может быть, отпугивал эмоциональный напор, даже такой понятный, как забота о его здоровье?
* * *
К Книппер он, судя по письмам, потянулся сразу и сильно. Что влекло Чехова к этой актрисе с сияющими лукавыми глазами, с взглядом, умевшим, как утверждали современники, выразить всё без слов? Почему она после первых же встреч весной и летом 1899 года стала главным адресатом его писем?
Таких причин, как ее умение писать письма или его ялтинское одиночество; как иссякшая переписка с Сувориным или его интерес к судьбе своих пьес в Художественном театре, наверно, недостаточно.
Чехов, что видно из обращений, согласился с мнением Немировича о его лучшей ученице: элегантная, талантливая, образованная. Всё это импонировало ему в женщинах. Он ценил ее в роли Аркадиной. Наверно, заметил темперамент Книппер. Сильный, но без разлива эмоций: всё в блеске глаз, в модуляциях красивого голоса, в выразительном жесте.
Однако во всех обращениях ощущалось сразу нечто большее, чем восхищение даровитой актрисой и красивой женщиной. «Вы» в письмах Чехова будто подразумевало «ты». Довольно скоро он сказал, что привык к ней. Несколько раз Чехов еще до встречи с Книппер объяснял, что человек, к которому он привык, вовсе не лучше других. Просто он доверял ему, чувствовал себя с ним свободно, легко, не ждал подвоха. Этот человек был ему интересен.
В литературной и артистической среде поползли слухи. Фидлер отметил в дневнике 10 октября, что «позавчера в Союзе слышал чье-то утверждение, будто Антон Чехов женится вскоре на московской драматической актрисе Книппер. День бракосочетания был уже якобы объявлен, но жених заболел». На следующий день он встретил Александра Павловича, спросил его. Тот ответил: «Другие его женят вот уже, наверно, в сотый раз; а на самом деле в этом нет ни слова правды!» В этот же день, 11 октября, Александр написал брату: «Господин Чехов, Петербург женит Вас упорно и одновременно на двух артистках. Ко мне очень многие обращаются с расспросами о подробностях и о Ваших чувствах. Ничего не имея против Вашего двоеженства, я все-таки прошу Ваших инструкций – что мне отвечать вопрошающим. Теперь пока, на свой страх и риск, я отвечаю, что Ваш предстоящий doppel [18]18
Двойной (нем.).
[Закрыть]-брак – сущая правда, хотя Вы уже и сочетались законным браком один раз на Цейлоне и другой – в Японии. Обе супруги здравствуют и проливают горькие слезы». Несколько лет назад Александр пошутил в связи с очередной сплетней о женитьбе брата: «Слухи эти подтверждают, что ты еще не вышел из моды и что публика тобою интересуется».
Чехова постоянно упоминали в гостиных, в ресторанных сходках, в частных беседах. Все тот же петербургский «летописец» Фидлер записал в дневнике 9 ноября 1899 года: «Вчера – день рождения Альбова <…>. Острогорский весьма пренебрежительно говорил о сегодняшней молодежи и сказал, что о Чехове невозможно составить себе определенного мнения, поскольку у него отсутствует собственное лицо; драмы же – и вовсе непонятны. Позняков <…> утверждал, что не читал ничего более возмутительного по мысли, чем „Мужики“ Чехова». И «пренебрежительный», и «возмущенный» отзывы принадлежали членам союза (Н. И. Познякова приняли в один день с Чеховым, 31 октября 1897 года). Так что у слухов, что Чехова едва не забаллотировали, были основания, а мотивы личной неприязни крылись во тьме взаимоотношений.
Чехов уже много лет был далек от этой среды. Если и советовал Горькому «потереться около литературы и литературных людей», то лишь год-два, не более. Не для того, чтобы чему-то научиться у коллег, но окончательно «заразиться» литературой. Горький отнесся к совету сдержанно. Еще из Нижнего Новгорода, в январе 1899 года, он написал Чехову, что не лестно думает о столичных журналистах, что «все эти их партии – дело маложизненное», замешанное на «личном самолюбии не очень талантливых людей». Побывав в Петербурге осенью 1899 года, рассказывал в письмах Чехову в Ялту: «Поездка в Питер – это какой-то эпилептический припадок или кошмар, во всяком случае нечто до такой степени неожиданно тяжелое, неприятное, грустное, и жалкое, и смешное, что я и теперь еще не могу хорошенько переварить все, что впитал в себя там».
Зато впечатления петербургских литераторов от Горького были яркими. Они запомнили его слова, что в столице плохой климат, «нет настоящих людей, одни сатиры и фавны, именующие себя писателями». На одном из обедов, где было много выспренних речей и лицемерного братания, отвечая на тост в его честь, Горький сказал, что «на безлюдье и Фома – дворянин». Он имел в виду себя и провинциальную среду. Но кто-то мог отнести это на свой счет.
На петербургский «кошмар» Чехов никак не откликнулся. Горькому это было в диковинку, а Чехов уже пережил подобное после сахалинской поездки, когда на обедах, по его словам, столичные литераторы угощали пошлыми дифирамбами и в то же время готовы были съесть. Вынеся всё это за скобки их переписки, Чехов, наверно, давал понять, что не стоит придавать этим пошлым мелочам большого значения. Не стоит отравлять себя мыслями о них, что душевно здоровее и для работы полезнее – забыть, словно не видел, не слышал. Не замечать так же, как злобные рецензии, слухи, сплетни, которые, если принимать их близко к сердцу, мешают и отнимают силы, отвлекают от работы. Не отозвался он и на шутки брата насчет женитьбы. В начале октября, едва в доме смолк стук паркетчиков, Чехов сел за работу. Наконец-то не за корректуру, которой он занимался более полугода и продолжал ее читать, но за новое.








