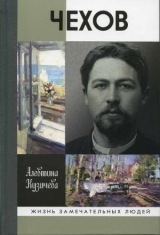
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 71 страниц)
Утром 16 октября «Петербург» пришел во Владивосток. Здесь Чехов задержался на три дня. Навсегда запомнил невиданное зрелище: в бухте плавал кит, плескал хвостом, невольно развлекая горожан.
Прежде всего Чехов послал телеграммы братьям Ивану и Михаилу, что направляется в Сингапур, а в Москве будет в начале декабря. Наконец-то дома узнали, где он. 19 октября началось полуторамесячное плавание. Чехов возвращался в Москву через Гонконг, Сингапур, Коломбо (остров Цейлон), Порт-Саид, Одессу. Курс крейсера – Японское море, Восточное море, Южно-Китайское море, Индийский океан, Красное море, Суэцкий канал, Средиземное море, Эгейское море, Черное море. Проливы, заливы, острова, бухты, рейды, пристани, гавани, маяки – всё сменяло друг друга. Было новым, необычным. Порой прекрасным, иногда страшным. Так, однажды, купаясь в океане, Чехов заметил плывущую к нему акулу. В пути бывали шквалы, сильная качка, штормовая полоса, грозы, зыбь, сильный ветер, непроницаемые туманы. На пути в Сингапур, когда судно «валяло» и оно могло опрокинуться, капитан посоветовал своему пассажиру спуститься в каюту, достать револьвер, чтобы в случае катастрофы покончить с собой.
В эти же дни за борт бросили двух покойников. Чехов описал похороны в письме Суворину сразу по возвращении: «Когда глядишь, как мертвый человек, завороченный в парусину, летит, кувыркаясь, в воду, и когда вспоминаешь, что до дна несколько верст, то становится страшно и почему-то начинает казаться, что сам умрешь и будешь брошен в море». То был не первый случай смерти в этом рейсе. В самом начале пути бросили в море тело умершего солдата, из числа четырехсот нижних чинов, возвращавшихся на «Петербурге» в Россию.
Суворин, получив от Чехова в декабре 1890 года рукопись рассказа «Гусев», мог заметить, что зарисовка из письма развернулась в эпизод, поразивший многих читателей какой-то невиданной выразительностью. Чехов закончил рассказ не картиной того, как акула играла мертвым телом, но описанием неба и океана: «Небо становится нежно-сиреневым. Глядя на это великолепное, очаровательное небо, океан сначала хмурится, но скоро сам приобретает цвета ласковые, радостные, страстные, какие на человеческом языке и назвать трудно».
Отправляя рукопись в Петербург, Чехов иронически уточнил: «Так как рассказ зачат был на острове Цейлоне, то, буде пожелаете, можете для шика написать внизу: Коломбо, 12 ноября». До Коломбо было много пестрых впечатлений, когда заходили в порты. Но обо всем Чехов отзывался словно сквозь призму Сахалина. Например, в Гонконге ему понравились удобные дороги, музеи, сады. Он отметил заботу англичан о своих служащих. Его спутники, русские, возмущались англичанами, ругали их за эксплуатацию инородцев. Рассказывая об этом в письме Суворину, уже из Москвы, Чехов задавал вопрос: «Я думал: да, англичанин эксплоатирует китайцев, сипаев, индусов, но зато дает им дороги, водопроводы, музеи, христианство. Вы тоже эксплоатируете, но что вы даете?» Ответ уже содержался во впечатлениях и записях о судьбе гиляков и айно на Сахалине.
Об этом, может быть, Чехов слышал от иеромонаха Ираклия. Миссионер, священник, он лучше многих знал участь инородцев на каторжном острове. Познакомились Чехов и иеромонах на Сахалине. Полагают, что именно он заполнил опросные листы на тех, с кем Чехову было запрещено встречаться, то есть с «политическими». Круглолицый, плотный бурят, с умным пристальным взглядом, выделялся среди пассажиров. Он, а также мичман Г. Н. Глинка, молодой, не испорченный службой офицер, и судовой врач А. В. Щербак составляли вместе с Чеховым маленькую группу. Этих людей, совершенно не схожих по происхождению, житейскому опыту и занятиям, что-то объединяло.
На Цейлоне, в Коломбо, спутники увидели уличное представление: сражение мангуста со змеей. Чехов приобрел у торговца самца и самочку. Шутил про зверюшек, что это «помесь крысы с крокодилом, тигром и обезьяной», «маленькие черти», отважные, любопытные, тоскующие по человеку до слез, если оставались одни. Странная, хлопотная, неожиданная забава. Может быть, дань настроению Чехова? Постоянные перепады погоды, контрасты впечатлений. Пароход, заполненный солдатами, скот на верхней палубе, однообразие переходов. А потом приморские города: рикши, слоны, китайские магазинчики, яванские лошади, пальмовые леса, заклинатели змей.
27 ноября в Суэцком канале «Петербург» встретился с военной эскадрой, сопровождавшей наследника престола, цесаревича Николая. Он направлялся в Японию, а обратный путь предполагался по Сибири.
В Средиземном море, в самом конце пути, на «Петербург» обрушился шквал с ливнем. Резко похолодало. Именно в эти дни Чехов заболел. Но не только ветер и холод могли стать тому причиной. Сахалинское напряжение спадало, однако пароходный быт, качка, постоянные разговоры не давали так необходимого физического и душевного покоя.
На подходе к Одессе пошел снег. Город и море заволокло туманом. В ночь на 2 декабря распогодилось, и пароход вошел в гавань, стал на якорь. Но три карантинных дня задержали пассажиров на «Петербурге». Только 5 декабря 1890 года Чехов сошел на берег. Здесь сразу, как и во Владивостоке, он отправил письма каторжан-народовольцев, данные ему по секрету Булгаревичем. Отметив в полицейском управлении свой заграничный паспорт, Чехов в тот же день уехал в Москву. С ним по-прежнему – о. Ираклий и мичман Глинка.
Чехов еще не добрался до дома, а особенно «любившая» его газета «Новости дня» уже иронически вопрошала: «Интересно знать, что он привезет с собой: цибик ли чаю для знакомых, или седых бобров на шубы, или же роман из жизни каторжных? Мы ничего не имеем против шубы для родственников, но, в интересах русской литературы, желаем романа». Газета не унялась на этом и продолжала «шутить». 9 декабря она объявила, что вскоре в Охотничьем клубе состоится бал с «Чеховым», что «Чехов в костюме алеута расскажет сначала о своем путешествии, а потом будет укрощать гремучую змею, которую он будто бы вывез из Индии».
В Туле Чехов встретился с матерью и младшим братом. Евгения Яковлевна гостила у сына, и по телеграмме они выехали из Алексина. В Москве, как рассказывал Михаил в письме Ивану, в это время учительствовавшему в Дубасове, во Владимирской губернии, под Судогдой, «наняли трое парных саней, нагрузили 21 место багажа, уселись и поехали на Малую Дмитровку. По приезде начался ужин, потом чай, потом рассказы». И, конечно, раздача подарков. Никаких мехов, даже песца и соболя, о чем просила Евгения Яковлевна, Чехов не привез. Павел Егорович остался доволен чесучовым пиджаком. Но многие другие презенты едва ли одобрил: медный колокольчик с надписью «Остров Сахалин. Пост Александровск. 1889» (подарок Чехову ссыльнокаторжного); фарфоровый чайник-термос; божок из бронзы; безделушки из черного дерева и белой кости; морские раковины; японские платки и т. д. Всё это, по мнению отца семейства, – пустяки, совсем не нужные в хозяйстве, перевод денег. А мангусты – просто блажь. Павел Егорович не предполагал, какая война вскоре развернется у него со злопамятными юркими «чертями».
Той осенью семья перебралась из Кудрина в центр Москвы, как шутил Чехов, «на аристократическую улицу». У него оказался маленький кабинетик. Из-за кашля, насморка путешественник сидел дома и строчил письма. Первое послание – Суворину. Чехов подводил итоги: «Работа у меня была напряженная; я сделал полную и подробную перепись всего сахалинского населения и видел всё, кроме смертной казни. <…> Знаю я теперь очень многое, чувство же привез я с собою нехорошее. Пока я жил на Сахалине, моя утроба испытывала только некоторую горечь, как от прогорклого масла, теперь же, по воспоминаниям, Сахалин представляется мне целым адом».
Свой душевный градус он определил коротко: «Душа у меня кипит». Он чертыхался, впервые прошелся по двум самым приближенным к «хозяину» лицам – Буренину и Дьякову, пошутив, что их «пора сослать на Сахалин». С самим Сувориным он хотел поговорить «страстно». «Нехорошее» чувство клокотало и еще раз прорвалось в конце письма: «Хорош Божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как дурно мы понимаем патриотизм! <…> Мы, говорят в газетах, любим нашу великую родину, но в чем выражается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры, вместо труда – лень и свинство, справедливости нет, понятие о чести не идет дальше „чести мундира“, мундира, который служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Работать надо, а всё остальное к черту. Главное – надо быть справедливым, а остальное всё приложится».
Вряд ли Чехов успел прочитать номера «Нового времени» за лето и осень 1890 года. Во Владивостоке он смотрел газету «Владивосток» за прошлые годы в поисках материала для книги о Сахалине. В Одессе зашел в суворинский магазин лишь за своей почтой. Дома он едва ли бросился сразу, в первый день, проглядывать «Новое время», хотя бы «Маленькие письма» Суворина, его излюбленный газетный жанр. Между тем фраза из письма – «мы, говорят в газетах» – вольно или невольно попадала в Суворина. 30 октября он писал в связи с оперой Бородина «Князь Игорь», что в ней «не кричащий, не фразистый, не победоносный, а тот естественный, необходимый и благородный патриотизм, которым делалась Русь», а апофеоз оперы – «современная Русь, вышедшая из стольких испытаний победоносною и сильною». В конце ноября, рассуждая в очередном «письме» о преподавании языков в гимназиях, Суворин закончил выводом: «Национальный дух, национальные крепость и сила, нравственные и физические – вот что важно прежде всего. Всё, что это укрепляет, то всё и необходимо».
Прочел Чехов эти «письма» или нет, но подобные поводы для разглагольствований о патриотизме воспринимались им иначе, чем до поездки. Назвал же он в эти дни Лейкина «литературной белужиной» за ровный покойный тон, с которым тот писал Чехову «про индеек, про литературу и капусту». Тон первых послесахалинских писем самого Чехова отличали ирония, экспрессия, мрачный юмор. Он написал Щеглову, что доволен поездкой и больше будто бы ничего не хочет и не обиделся, если бы трахнул его «паралич или унесла на тот свет дизентерия»: «Могу сказать: пожил! Будет с меня. Я был и в аду, каким представляется Сахалин, и в раю, т. е. на острове Цейлоне. Какие бабочки, букашки, какие мушки, таракашки!»
Не раз цитируя в эти дни с усмешкой строки басни Крылова «Любопытный» («мушки, таракашки»), он словно предупреждал окружающих: не ждите рассказов о сахалинских «чудесах». Сахалин – не кунсткамера, Сахалин – это ад. Он видел там всё. И это «всё», вероятно, уточнило все его чувства и представления.
Обыкновенно о собственной смерти Чехов говорил в минуты крайнего утомления или внутреннего раздражения. Зря он ее не поминал. Значит, было нечто в декабре 1890 года, что его беспокоило. Может быть, болезненное состояние? К сильнейшей простуде добавились боли в сердце: «Голова побаливает, лень во всем теле, скорая утомляемость, равнодушие, а главное – перебои сердца. Каждую минуту сердце останавливается на несколько секунд и не стучит». Конечно, он нуждался в отдыхе. Хотя бы месяц-другой, и не в Москве. Чехов обронил в разговоре, что хотел бы купить кусок земли и построить дачу. Московские годы его жизни завершались.
Только ли теснота городских квартир, многолюдье и болезни вынуждали Чехова расстаться с Москвой? Или еще нечто, может быть, связанное с тем самым «нехорошим» чувством, которое он привез с Сахалина?
В конце декабря Чехов и Толстой, не ведая о том, заглазно вступили в спор о современной литературе. Толстой в беседе с литератором А. В. Жиркевичем говорил, что многие авторы усовершенствовали форму, выработали слог, но в их сочинениях нет идей, нет новых сюжетов. Как пример, он указал на Чехова, Ясинского и др.
В эти же дни Чехов писал Суворину: «Как Вы были неправы, когда советовали мне не ехать на Сахалин! <…> какой кислятиной я был бы теперь, если бы сидел дома. До поездки „Крейцерова соната“ была для меня событием, а теперь она мне смешна и кажется бестолковой. Не то я возмужал от поездки, не то с ума сошел – чёрт меня знает». Толстому казалось, что в современной литературе лишь меняется форма. Чехову представлялось, что серьезность содержания не оправдывает и не возмещает исчерпанность формы.
В декабрьских письмах Чехов смотрел на всё и на всех будто со стороны. Словно другими глазами. С иной меркой человеческого ума, людской глупости, заблуждений, претензий.
Узнав, что Плещеев вот-вот получит огромное наследство, Чехов усмехнулся: «Посмотрим, как он потащит на буксире свои миллионы! На какой дьявол они ему? Чтобы курить сигары, съедать по 50 сладких пирожков в день и пить зельтерскую воду, достаточно и трех рублей суточных». Чехов, вероятно, предчувствовал, что это событие невольно и постепенно разлучит его с милым, добрым Алексеем Николаевичем.
Заметив, как младший брат рисовался в новеньком мундире чиновника Департамента окладных сборов, Чехов подтрунивал над самодовольством Михаила и умилением родителей. По должности податного инспектора тот наблюдал за правильностью торговли, за поступлением налогов в доход казны и т. д. Павел Егорович в связи с этим важно вспоминал о своей выборной должности ратмана в Таганроге и, поднимая вверх палец, рассуждал о законопослушании, о чиновничьей карьере любимого сына, о грядущих наградах. Чехов сразу предсказал, что чиновника из Михаила не выйдет. Для успешной службы он нетерпелив, малодушен, мягок, уповал на скорое продвижение только с помощью протекции брата, через всесильного Суворина. Разъезды по уезду, взыскивание налогов и неустойки быстро ему прискучили. Зрелище нищих изб и убогих квартир, пропившихся или разорившихся людей, встречи с наглыми владельцами питейных заведений и мелких фабрик, которые решали казусные вопросы взятками, – всё это огорчало прекраснодушного чиновника, мешало воображать себя деятельным, добродетельным службистом, добывающим доход казне, себе чины и ордена, отечеству пользу.
Иван Чехов в связи с закрытием московского училища оказался весной 1890 года за штатом. Поэтому принял предложение занять место заведующего в новом двухклассном училище при стеклянном заводе в Дубасове, под Судогдой. Его питомцами оказались в основном дети, трудившиеся на заводе. Учитель рассказывал родным: «Девочки на заводе занимаются тем, что принимают от мастеров только что сделанные бутылки и несут их в особенную печь на целые сутки. Когда мастер кладет готовую бутылку на деревянный поднос, то поднос загорается». Учитель и его помощница навели к началу занятий порядок, наладили обучение. И оба тосковали по родным, по Москве. Но у Ивана Павловича не на что было добраться даже до Владимира. Он рассказывал младшему брату: «Раздражают нас только вой ветра и тиканье часов. Представь себе, что мне теперь кажется, что Владимира города нет, может быть, или есть, но там где-то, очень далеко, где Африка».
Павел Егорович привычно корил Ивана за то, что сын якобы не хочет знать семью, особенно когда «кормилец» далеко, и почти приказывал: «Привози денег побольше. Москва любит деньги». Иван оставался нелюбимым. Ему отец к месту и не к месту ставил в пример младшего: «Честь ему воздают Предводители и Исправники». Иван никак не мог вернуть родителям, точнее сестре, долг, образовавшийся минувшим летом, когда он бедствовал, а брата Антона не было рядом. Он обещал, копил, откладывал, экономил. Писал отцу: «Из моего жалованья у меня ничего не остается. Во всяком случае, я привезу долг Вам и мамаше. Спасибо, что продали пальто. Мне легче, все-таки хоть капельку уменьшатся долги».
Едва пришла весть, что брат вернулся с Сахалина, учитель уехал в Москву, как раз на Рождество – и свалился в тяжелой болезни. Сказались, наверно, усталость, плохое питание, тоска. Его рассказы о школьных буднях; об одной коробке перьев вместо необходимых двенадцати; о книгах, разлетавшихся от ветхости и переплетаемых им зимними вечерами, вряд ли удивляли Чехова после того, что он видел на Сахалине. Уповать на благотворительность, на попечителей народных школ? Чехову рассказывали на острове, что ежегодно для сахалинских детей присылали из России «полушубки, фартучки, валенки, чепчики, гармоники, душеспасительные книжки, перья». Местные дамы распределяли подарки, но отцы либо пропивали, либо проигрывали вещи.
С сочувствием относясь к помощи «великодушных людей», Чехов уже не заблуждался: исправить положение дел и участь сахалинских детей филантропия не в состоянии, да и не ставила такой цели. В Москве он встретился с матерью своего спутника, мичмана Глинки, баронессой Икскуль. Весной, в Петербурге, она, как и Галкин-Враской, обещала что-то сделать, чтобы сахалинская администрация не чинила Чехову препятствий. Оба не сделали ничего. Теперь, зимой, баронесса «Выхухоль», как в шутку называл ее Чехов, пожелала переговорить с путешественником о благих делах. Он описал Суворину этот визит с иронией: «Баронесса <…> издает для народа книжки. Каждая книжка украшена девизом „Правда“; цена правде 3–5 коп. за экземпляр. <…> Она спрашивала у меня, что ей издавать. <…> Когда она стала жаловаться, что ей трудно доставать книги, то я пообещал ей протекцию у Вас. <…> Баронесса дама честная и книг не зажилит. Возвратит и при этом еще наградит Вас обворожительной улыбкой».
И этот визит, и многое в Москве казалось Чехову ненужным. Рождество вышло грустное. Болезнь держала его дома. Ни в Петербург, ни в Бабкино, куда звали Киселевы, он не поехал. Оглядываясь на минувший праздник, подытожил, что прошел он «безобразно»: «Во-первых, были перебои; во-вторых, брат Иван приехал погостить и, бедняга, заболел тифом; в-третьих, после сахалинских трудов и тропиков моя московская жизнь кажется мне до такой степени мещанскою и скучною, что я готов кусаться; в-четвертых, работа ради куска хлеба мешает мне заниматься Сахалином; в-пятых, надоедают знакомые. И т. д.».
Александр писал из Петербурга в очевидном подпитии, что по литературным кругам гуляет сплетня, будто Чехов женится на дочери Плещеева, чтобы получить огромное приданое. В 1889 году столичные злоязычники уже «женили» Чехова на богатой вдове Сибиряковой. Так что петербургская жизнь, переберись он на берега Невы, могла оказаться тоже мещанской и скучной. Город отнимал время и силы.
«Ради куска хлеба» Чехов уже в декабре начал повесть. Сахалинский труд отодвинулся. Уже не первый год завершался для Чехова тяжелым недомоганием. К болезням прошлых лет (кровохарканье, катар кишок, варикоз) прибавлялись новые хвори (постоянная головная боль, перебои сердца). Современники, видевшие его в первые недели и месяцы после сахалинской отлучки, замечали перемену. Он похудел, складка губ, едва скрытая усами и бородкой, стала жестче. Черты лица утратили мягкость, а взгляд начал уходить в себя. Исчезало нечто, позволявшее Короленко еще не так давно сравнить Чехова с простодушным деревенским парнем, «несмотря на его несомненную интеллигентность».
* * *
Многим, как они признавались, хотелось разгадать, что скрывается за внешней сдержанностью, о чем постоянно думал этот немногословный человек. Мужчинам он казался не то скрытным, не то гордым. Женщины приписывали ему пленительность, чуть ли не загадочность и сердились, что он словно ускользает, непроницаем. И трудно понять, когда он шутит, когда говорит всерьез.
Елена Шаврова, его юная ялтинская «протеже», теперь семнадцатилетняя барышня, встретила Чехова 6 января 1891 года в залах Дворянского собрания, где благотворительное общество попечения о бедных и бесприютных московских детях устроило костюмированный бал. Она вспоминала: «Он похудел, больше горбился и вокруг его глаз появились тонкие, едва заметные морщинки». Он похвалил ее за костюм египетской статуэтки – стройная, густо загримированная, вся в звенящих браслетах, она выделялась в толпе. За ужином Чехов рассказывал ей о поездке.
Рассказывать приходилось часто. Если в Москве его донимали расспросами о Сахалине, то в Петербурге, куда он приехал 8 января, требовали отчетов подробных и обстоятельных.
Чехов остановился в доме Сувориных, на Малой Итальянской. Его зазывали в гости, устраивали обеды. Из намерения – поработать в столице – ничего не получалось. Такое времяпрепровождение из визитов, приветствий, тостов, речей он называл «балетом». Иронизировал над собой, что утомлен, «как балерина после пяти действий и восьми картин». И грозил, что если вынужденное безделье и скучные беседы продолжатся, то уедет к брату Ивану в «Судорогу».
Что-то выводило его из душевного равновесия, о чем он рассказал сестре: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня съесть. За что? Чёрт их знает. <…> Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников; Маслов (Бежецкий) не ходит к Сувориным обедать; Щеглов рассказывает все ходящие про меня сплетни и т. д. Всё это ужасно глупо и скучно. Не люди, а какая-то плесень. <…> Вчера приходил Григорович; долго целовал меня, врал и всё просил рассказать ему про японок».
«Злое чувство»? Не преувеличивал ли Чехов? Не впал ли невольно в несправедливость, которой опасался в себе и в других? И шутки у него мрачные: «Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей». Видимо, Чехову было совсем не по себе, если он поделился таким настроением с сестрой – обыкновенно он ограничивался в их переписке житейскими заботами и хозяйственными делами.
Чехов назвал три имени. «Злое чувство» Буренина прорывалось давно. Но в упомянутом фельетоне нововременский зоил применил к Чехову свой излюбленный прием. Мало того что он причислил его к «средним» талантам. Прибегнув к пересказу чужого мнения, Буренин намекал, что Чехов поехал на Сахалин едва ли не затем, чтобы удержаться в литературе. Отклик в петербургских кругах на сахалинскую поездку Чехова мог уязвить Буренина очень сильно. Он будто слетел с тормозов и отныне упрямо держал Чехова в посредственностях и открыто подтравливал. Может быть, у этого злого чувства были и другие истоки.
Но Бежецкий? С самого начала знакомства Чехов похвально отзывался о нем и его книгах («талантливый парень»; «он интересен, завлекателен и, выражаясь по-женски, мил»). В 1888 году хлопотал о постановке его пьесы у Корша, но дело не выгорело. Вообразил ли Бежецкий, что Чехов не приложил тогда всех усилий? Не истолковал ли превратно приятельский тон литературных советов Чехова? Настроил ли его Буренин? Как бы то ни было, Бежецкий демонстрировал свое нерасположение как-то мелочно. Он, что называется, дулся, уклонялся от встреч. Еще недавно Чехов слушал на пароходе рассказы доктора Щербака о Бежецком (оба участвовали в Русско-турецкой войне и Ахалтекинской экспедиции генерала Скобелева). Это усилило симпатию Чехова. И вдруг…
Может быть, как раз в этом славном прошлом истоки обиды Бежецкого? Ему, офицеру, награжденному за храбрость и мужество золотым оружием, претила шумиха вокруг Чехова. Но тот сам недоумевал и иронизировал: «Поездке моей на Сахалин придали значение, какого я не мог ожидать: у меня бывают светские и действительные статские советники. Все ждут моей книги и пророчат ей серьезный успех, а писать некогда!»
Книги о Сахалине еще нет, а уже такой шум, авансы, чаяния. Но Чехов тут был ни при чем. Он избегал публичных приветствий. Отказался выступить на заседании Русского литературного общества, о чем его настойчиво просили. Отвечал председателю общества: «У меня было сильное желание прочесть что-нибудь об интересном Сахалине, но пришлось поневоле ограничиться одним только желанием, так как я теперь занят спешной работой: тороплюсь написать небольшую повесть. У меня есть отрывки из сахалинского дневника, короткие заметки и проч., но всё это до такой степени отрывочно и не отделано, что утруждать внимание гг. членов Общества было бы с моей стороны ничем не оправдываемою смелостью». Этого и других отказов не знали и не хотели знать столичные «друзья и почитатели». Они участвовали в обедах, а наутро осуждали Чехова якобы за рекламу. Называли тщеславным и всячески пытались придать сахалинской поездке чуть ли не характер туристического вояжа. Все эти глупости, сплетни, досужие вымыслы Щеглов осуждал. Но при этом таскал из дома в дом, передавал Чехову и заносил в дневник.
И все-таки Иван Леонтьевич не опустился до злобы, как Ежов. Пока еще тайной, но нараставшей вражды. Чем чаще он прибегал к помощи Чехова, тем сильнее становилось это чувство. Может быть, был прав Лейкин, когда-то остерегая Чехова: мол, не «разжигайте» в Ежове страсть к сочинительству. При очень скромных способностях опасно делать писательство профессией.
17 января, день рождения Чехова, отмечали в ресторане «Малый Ярославец» в мужской компании – А. Н. Плещеев, А. А. Плещеев, М. И. Чайковский, Свободин, Баранцевич, Щеглов. Под кулебяку велись мужские разговоры, например о цейлонских «бронзовых» женщинах. Чехову выговаривали за то, что он не сразу объявился у всех приятелей. За то, что вроде бы их сторонится, хотя они понимают: у него на столе новая повесть; у него сахалинские поручения и заботы; а к тому же петербургские поклонницы. Особенно восхищались Дарьей Михайловной Мусиной-Пушкиной. Накануне она очаровала цыганскими романсами гостей на именинах Павла Матвеевича Свободина. «Дришка», «шустрая шельма», так Чехов звал свою давнюю московскую приятельницу, коршевскую актрису, жила на Итальянской. Писала «соседу» записки на бумаге с рисунками (дети, амуры, портреты знаменитых людей). Звала его «Тараканушка» и подписывалась «Цикада». Ходила с ним в гости, зазывала к себе.
Дни бежали. Из намерения – первые полторы недели работать, а потом «жуировать» – ничего не получалось. Время уходило на чтение чужих рукописей, на петербургскую суету. Наконец он даже пожаловался Ивану: «Когда я буду отдыхать? Утомление такое, что просто беда. Мне бы теперь не писать и не ездить и не об умном говорить, а месяца бы четыре сидеть на одном месте и удить рыбу. <…> В марте приеду к тебе встречать весну».
* * *
Наверно, он охотно поговорил бы с теми столичными знакомыми, к кому был душевно расположен. Но они не знали, что Чехов в Петербурге, а сам он без приглашения ни за что не пошел бы. В этом Чехов проявлял всегда какое-то неодолимое упрямство.Не однажды говорил, что не ходит туда, куда его не звали. Гордыня ли то была или особая учтивость. Но многие встречи не состоялись по этой причине. Так, Репин, узнав с опозданием о том, что Чехов приезжал в Петербург, очень жалел, что не увиделся с ним.
Тем не менее среди всех «побегушек» произошли и важные свидания. Чехов познакомился с известным юристом и общественным деятелем А. Ф. Кони. Умный, проницательный, интересный собеседник слушал со вниманием и пониманием, обещал содействие в организации благотворительной помощи сахалинским детям. Хотя сам Чехов ни в разговоре, ни в письме к Кони перед отъездом в Москву не скрыл своего мнения о филантропии: «Но мне кажется, что благотворительностью и остатками от тюремных и иных сумм тут ничего не поделаешь; по-моему, ставить важное в зависимость от благотворительности, которая в России носит случайный характер, и от остатков, которых никогда не бывает, – вредно. Я предпочел бы государственное казначейство».
В эти же дни Чехов продолжал сбор книг для сахалинских школ. Он покупал их, собирал у авторов и издателей. По его просьбе это делали и в Москве. Суворин пожертвовал 197 книг разного содержания, издания русских и иностранных писателей. Много книг Чехов исхлопотал у Петербургского и Московского комитетов грамотности. Он надеялся отправить этот груз бесплатно и обращался в комитет Добровольного флота. В результате со временем на Сахалин были посланы тысячи книг. В разговорах с петербуржцами Чехов упоминал еще одну свою заботу – приют для арестантов.
Как он говорил знакомым, его «сахалинское прошлое» было кратким, а впечатления, мысли, чувства, вызванные каторжным островом, – громадными. Шутил, что рассказать обо всем – всё равно, что сосчитать листья на дереве. Передать же «нехорошее чувство» он намеревался в будущей книге. И не только. Оно осталось, видимо, навсегда. Нежелание Чехова живописать в разговорах ужасы сахалинской жизни некоторые современники объясняли просто: он хотел забыть увиденное. Потому, мол, и в его рассказах и повестях Сахалин почти не отразился. Потапенко впоследствии написал в воспоминаниях: «Всё, что он получил там, он как будто сдал в свою книгу и забыл». Сам Чехов однажды, уже позже, удивился вопросу собеседников, почему так немного у него «сахалинских» сюжетов. И ответил, если правильно запомнили его слова: «А ведь, кажется, всё просахалинено». Чувство, пережитое на Сахалине, не забывалось. И, вероятно, стало одним из тех чувств, которые Чехов таил в себе и не поминал всуе.
29 января он, наконец, вырвался из Петербурга. Уезжал с намерением кончить повесть, получить гонорар и на эти деньги отправиться за границу. Хотя Суворин, уговоривший на эту поездку, предлагал аванс. Однако повесть разрасталась. К марту Чехов не успевал ее дописать. Средств, что остались в наличии, на путешествие недоставало. 23 февраля он попросил у Суворина тысячу рублей, надеясь погасить этот долг публикацией новой повести в «Новом времени». Но еще одна тысяча требовалась на дачу, на летнее пропитание семьи. А две тысячи – уже серьезный долг. И все-таки Чехов не отказался от поездки. Видимо, он опять, как и в предыдущие годы, надеялся таким образом переломить свое настроение.
Пожелав домашним быть здоровыми и Богом хранимыми, не забывать его в своих молитвах, Чехов выехал 17 марта из Петербурга в Европу. Его спутники – Суворин с сыновьями Алексеем и Михаилом. Сообщая об этом Ивану в Судогду, Павел Егорович, наверно, с особым удовольствием выводил своим каллиграфическим почерком оставленный адрес: Italie, Rome… Впервые один из его детей ехал за границу. И не с кем-нибудь, а с Сувориным и его чадами, почти семейно. Сын крепостного, купец, тайно бежавший из Таганрога, чтобы избежать долговой ямы, мещанин, из милости взятый благодетелем Гавриловым счетоводом в «амбар», ныне возвел себя в новый чин. Он – отец известного литератора. Ему негоже служить, тем паче в его-то лета. Велеречиво и торжественно он изложил родным «отходную» своему московскому прошлому: «Сообщаю Вам, что я от Гаврилова отошел с честию… <…> Он со мною не мог так обходиться грубо, как его натура требовала обращаться с другими ему подчиненными. <…> За хлеб-соль я ему благодарен, но жаль, что я остался ни при чем. Так частная служба бывает непризнательна за выслугу долголетнюю».








