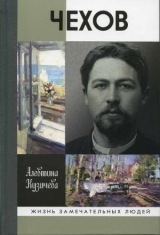
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 71 страниц)
Но зачем старший брат рассказывал ему о нововременских врагах? Объяснение – «мне надоело слушать, как тебя ругают» – не в пользу Александра Павловича. Надоело: или не слушай, или заступись, или смолчи, но не расстраивай этим вздором. В ответ он получил письмо, выдержанное в духе сурового равнодушия к газетным недругам, с очевидным внутренним отрешением от них: «Печатают меня по средам и вторникам или вовсе не печатают – для меня решительно всё равно. Отдал я повесть, потому что был должен „Нов[ому] времени“, и если бы не последнее обстоятельство, то повесть моя печаталась бы в толстом журнале, где она вошла бы целиком, где я больше бы получил и где не было бы жужжанья моих уважаемых товарищей». На совет – переговорить с Сувориным о средах – отрезал: «Они мне так же не нужны, как и мое сотрудничество в „Нов[ом] вр[емени]“, к[ото]рое не принесло мне как литератору ничего, кроме зла. Те отличные отношения, какие у меня существуют с Сувориным, могли бы существовать и помимо моего сотрудничества в его газете».
Сотрудничество с «Новым временем» бросало на Чехова тень в глазах либералов, студенческой молодежи, противников Суворина в журналистской и литературной среде. Но главное – оно уже претило ему самому. Чехову не было стыдно за то, что он печатал в этой газете. Но, вероятно, всё более становилось неловко перед собой за то, что он печатался на одних страницах с Бурениным и остальными «зулусами». Он все-таки написал Суворину. И не столько попросил, сколько поставил условие: «Печатайте „Дуэль“ не два раза в неделю, а только один раз. Печатание два раза нарушает давно заведенный порядок в газете и похоже на то, как будто я отнимаю у других один день в неделе, а между тем для меня и для моей повести всё равно печататься, что один, что два раза в неделю». Чехов объяснил свою настойчивую просьбу: «Среди петербургской литературной братии только и разговоров, что о нечистоте моих побуждений. Сейчас получил приятное известие, что я женюсь на богатой Сибиряковой. Вообще много хороших известий я получаю».
Суворин понимал, что Чехов имел в виду его сотрудников. Эту «братию» он знал очень хорошо и сам впоследствии рассказывал о протестах против «Дуэли». Он сделал вид, что учел и пожелание Чехова, и демарш своих приближенных. Из пяти оставшихся сред были пропущены две. Хотя, конечно, не во вторниках и средах крылась причина. Суворин уже давно отпустил вожжи, отдав газету на откуп сыну Алексею и его присным. Шум вокруг публикации «Дуэли» они использовали, чтобы показать, кто настоящие хозяева в редакции. Спустив им ругань, сплетни, оскорбления в адрес Чехова, Суворин, по сути, разрешил большее, то есть откровенное надругательство. При этом Чехов оказался бы ближней целью, а сам Суворин – дальней. Но Чехов разрушил эти расчеты. «Дуэль» завершила его сотрудничество в «Новом времени». Он отдаст сюда еще один очерк в декабре 1891 года и рождественский рассказ в декабре следующего.
Остались его личныеотношения с Сувориным, а газета ушла в прошлое. Так что с этим злом было покончено. И утешение старшего брата в письме от 28 октября, его советы – наплевать на сплетни, ругань – прозвучали трогательно, но, наверно, оказались ни к чему. Тем более что всё это пришлось на печальные дни. 25 октября скончалась Федосья Яковлевна, 26 октября умер Илиодор Пальмин. Тем, кто провожал поэта в последний путь, показалось, что у могилы на Ваганьковском кладбище Чехов был не просто хмур, а мрачен. Лейкин будто бы хотел пригласить всех на поминки, но Чехов сказал: «Не нужно». В ресторан поехали только сотрудники «Осколков».
Со смертью тетки («Славная была женщина. Святая»), которая всю жизнь прожила около Чеховых или вместе с ними, словно затуманились таганрогские годы. Кончина Пальмина, может, самого интересного собеседника Чехова в московские годы, будто подвела черту под этим временем. В связи с известием, что обречен Курепин, Чехов написал Суворину: «Смерть подбирает людей понемножку. Знает свое дело».
В одном из его августовских писем затерялась строка: «Я теряю в весе». В сентябре из-за нездоровья Чехов безвыходно сидел в доме. Может быть, он предполагал, что всё пройдет вместе с усталостью, так как все-таки собирался в октябре в Нижний Новгород. Но потом перенес поездку на январь. Весь октябрь он перемогался, а в начале ноября подхватил тяжелейший грипп. По некоторым признакам это заболевание перешло в воспаление легких. Чехов продолжал худеть («стал худ, как копченая стерлядь»), из-за кашля плохо спал, однако в кровохарканье не признавался. Но в одном из писем перечислил те средства, которыми обыкновенно его останавливал.
18 ноября он написал Суворину: «Я продолжаю тупеть, дуреть, равнодушеть, чахнуть и кашлять и уже начинаю подумывать, что мое здоровье не вернется к прежнему своему состоянию. Впрочем, всё от Бога. Лечение и заботы о своем физическом существовании внушают мне что-то близкое к отвращению. Лечиться я не буду. Воды и хину принимать буду, но выслушивать себя не позволю».
Сказано резко и определенно. Через некоторое время Чехов высказался еще яснее, что нынешнее нездоровье – поворот жизни «если не к старости, то к чему-нибудь похуже». Это ощущение сквозило в письме другу молодости Шехтелю, милому, надежному, доброму Францу Осиповичу. Повод – помощь голодающим, сбор пожертвований. Но в последних строчках щемящая интонация: «Надо бы нам повидаться и старину вспомнить. Ах, как надо бы!» Не исключено, что кровотечения, случившиеся в 1884, 1886 и 1888 годах, пугали Чехова, но не ощущались неизлечимым недугом, сжирающим изнутри. Но теперь?
Чахотка уже унесла трех близких людей: брата Николая, тетку и дядю со стороны матери. Не принимать никаких мер – значит смириться с болезнью. Или Чехов, сам прекрасный диагност, часто имевший дело с чахоткой в своей врачебной практике, понимал, что лечение не спасет и полное выздоровление уже невозможно? К тому же на лечение нужны деньги: больному обыкновенно прописывали хорошее питание, душевный покой, курорт в Швейцарии, в Крыму или на Ривьере.
Десять лет назад, Чехов, студент-медик, описал эту болезнь в повести «Цветы запоздалые». Доктор Топорков, расспросив Марусю о кашле, лихорадке, ночном поте, выслушав ее и найдя звук в верхушке левого легкого сильно притупленным, («ясно слышались трескучие хрипы и жесткое дыхание»), «начал задавать ей вопросы: хороша ли квартира, правилен ли образ жизни и т. д.
– Вам нужно ехать в Самару, – сказал он, прочитав ей целую лекцию о правильном образе жизни. – Будете там кумыс пить».
Если бы Чехов допустил прослушивание себя коллегами, вряд ли он, отвечая на их вопросы, рассказал то, чего не скрыли его письма.
Недомогания? Да, кашель, лихорадки, перебои сердца, кровохарканье, хронические кровотечения.
Квартира? Всегда густо населенная. Иногда шумная, плохо отапливаемая, не очень удобная. Питание? По доходам. Иногда маленьким. Никаких специальных блюд с учетом больного кишечника и пораженных легких. Общий семейный стол.
Образ жизни? Постоянный напряженный труд. Иногда на пределе сил. Тяжелая поездка на Сахалин. Давняя, непреходящая усталость.
Душевный покой? Семейные неурядицы и заботы, «трепанье» его имени в печати. Постоянная тревога в последние годы и часто меняющееся настроение.
Что-то странное, на первый взгляд противоречивое было в жалобах Чехова на недомогание. Ощущение «худого», то есть неизлечимого и опасного недуга, и одновременно – порыв ехать в Нижегородскую губернию, на голод, организовывать помощь на местах.
Но осенью и ранней зимой 1891 года произошла перемена. Наверно, не вдруг, а исподволь. Будто включились некие «часы». Недаром Чехов часто повторял слово «время». 13 декабря он написал Суворину: «Рассказы вообще тем хороши, что над ними можно сидеть с пером целые дни и не замечать, как идет время, и в то же время чувствовать нечто вроде жизни». Что-то изменилось во внутреннем самоощущении, в глубинном настроении Чехова. Будто проступало иное отношение к своим литературным занятиям. Они не просто заработок, но жизнь. « Вроде жизнь» или сама жизнь?
Менялись интонация писем, замыслы новых рассказов и повестей. Даже шутки другие: «Если я в этом году не переберусь в провинцию и если покупка хутора почему-либо не удастся, то я по отношению к своему здоровью разыграю большого злодея. Мне кажется, что я рассохся, как старый шкаф, и что если в будущий сезон я буду жить в Москве и предаваться бумагомарательным излишествам, то Гиляровский прочтет прекрасное стихотворение, приветствуя вхождение мое в тот хутор, где тебе ни посидеть, ни встать, ни чихнуть, а только лежи и больше ничего. Уехать из Москвы мне необходимо».
Это «необходимо» – словно черта под московскими годами, какой-то момент, после которого уже не было возврата к здоровью, а до последнего «хутора», может быть, не так уж и далеко.
Но, отказавшись лечиться, Чехов намеревался лечить. Не для заработка, а для живого чувства жизни в оставшиеся годы: «Если я врач, то мне нужны больные и больница; если я литератор, то мне нужно жить среди народа, а не на Малой Дмитровке с мангусом. Нужен хоть кусочек общественной и политической жизни, хоть маленький кусочек, а эта жизнь в четырех стенах без природы, без людей, без отечества, без здоровья и аппетита – это не жизнь, а какой-то гандон и больше ничего». Сравнение грубое, как всегда у Чехова в откровенные и тяжелые минуты. Но точное.
Итак, отъезд из Москвы был предрешен. Сговорчивый и уступчивый в обыденных делах, Чехов какие-то, главные для него вопросы решал сам (поездка на Сахалин, переезд в провинцию). Он учитывал и не нарушал интересы семьи, обеспечивал родителям и сестре безбедное существование. Но исходил в таких решениях из того, без чего он не мог жить. Из своего самостоянья, из того, что было необходимо ему лично.
Родительское «нада» определяло бытовую жизнь семьи. Внутреннюю скрытую жизнь Чехова приоткрывало его собственное «надо». Не слово, а глубинное мироощущение.
Завершалось двенадцатилетнее жительство Чехова в Москве. Но где найти деньги на покупку дома? Видимо, когда Суворин осенью приезжал в Москву, Чехов договорился о займе в несколько тысяч. В конце ноября и начале декабря 1891 года он разослал оконченные повести и рассказы по журналам. Рассказ «Жена» в «Северный вестник». Рассказ «Попрыгунья» в «Север». Попросил выслать аванс. Новая издательница «Северного вестника» Любовь Яковлевна Гуревич огорченно ответила, что она сейчас в стесненных обстоятельствах. Чехову пришлось еще и утешать ее: «Я никогда не пишу о деньгах и считаю это ужасно щекотливой штукой, но заикнулся об авансе <…> потому что у меня в карманах буквально ни гроша. Я прошу Вас убедительно не стесняться и выслать мне гонорар за мои рассказы, когда Вам угодно и удобно. <…> Если Вы теперь пришлете мне рублей 200, то остальную часть гонорара можете прислать хоть в марте или в несколько месяцев по частям. Одним словом, делайте так, чтобы я не стеснял Вас. Еще раз прошу извинить. <…> Искренно Вас уважающий А. Чехов».
Но решения о хуторе не изменил. Шутливо подписался под одним из писем: Маньяк-хуторянин и Географ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. МЕЛИХОВО (1892–1898)
Глава первая МЕЛИХОВСКОЕ «ГЕРЦОГСТВО»Чехов мечтал о хуторе на юге, где бы он лечил, много читал, писал рассказы и повести. Ему «сватали» хутор около гоголевских Сорочинец – не подошел дом. Нашли еще один там же, в Полтавской губернии, – сорвалось.
У этой неудачи была подоплека. Дело в том, что поисками занимался А. И. Смагин, полтавский помещик, с которым познакомились, когда снимали дачу у Линтваревых. Чехов в 1888 году описал обветшалый дом, запущенный сад, старых слуг: «Всё ветхо и гнило, но зато поэтично, грустно и красиво в высшей степени».
Александр Иванович пленился Марией Чеховой. Он просто грезил, что москвичи переедут в эти места, будут соседями, а может быть и родней. Хлопоты Смагина питались надеждой, что Мария Павловна станет хозяйкой его дома. Конечно, она знала о чувствах эмоционального поклонника, но замуж не собиралась. За ней ухаживали, но она либо отказывала, как например, в 1882 году тому самому нижегородскому Егорову, тогда поручику артиллерийской батареи, стоявшей в Воскресенске, либо не придавала серьезного значения, например, признанию Левитана в бабкинские годы. Не сделала шага навстречу Шехтелю, в молодости душевно расположенному к ней.
Отказала она и Смагину. Он вообразил, что дело в сопернике, Г. М. Линтвареве, а может быть, отговаривал брат Антон, которого она якобы «слушается». Он рвался объясниться с Чеховым, писал избраннице восторженные письма, умолял, заклинал, надеялся покорить своей любовью. Всё оказалось напрасно. Бурные признания подталкивали осторожную, рассудительную и всегда заботившуюся о своем душевном покое Марию Павловну к окончательному разрыву. Ей явно не хотелось становиться полтавской помещицей, жить в глуши, в милом, но скучном, тихо разорявшемся семействе.
Марии Павловне, в отличие от брата, Москва очень нравилась. Необременительная служба в гимназии не мешала бывать в театрах, на выставках, в концертах. Домашние заботы теперь, когда имели прислугу, тоже не тяготили. Ей не надо было думать о куске хлеба. Живя на всем готовом, единственная сестра братьев Чеховых получала еще и небольшую ежемесячную денежную помощь от Ивана и Михаила.
Но главное, что разнообразило ее жизнь, – круг знакомых брата. Чехов давно подметил удовольствие сестры от внимания к ней литераторов, артистов, художников. Он подтрунивал над ее скрытыми амбициями, предостерегал от увлечения салоном Кувшинниковой. Иногда шутил над крепнувшим год от года тоном хранительницы фамильной репутации. Словно у крепостного, потом купеческого, затем мещанского рода Чеховых вдруг обнаружились дворянские корни. То была, безусловно, не глупая спесь или смешное чванство. Мария Павловна, умная, с чувством юмора, сама не терпела подобного в людях. Тут проступало иное. Она давно поняла, что такое быть сестрой Чехова. В литературе для нее был один Чехов, поэтому взыскивала с Михаила, подписывавшегося под своими рассказами родной фамилией. И она была одна – сестра Антона Чехова, а не «сестра братьев Чеховых».
Марии Павловне не хотелось навсегда уезжать в деревню. Она, как и Михаил, склонялась к покупке имения около Москвы, чтобы не бросать службу в гимназии, не порывать с городской жизнью.
Так начались в 1892 году поиски куска земли, дома, лучше бы с парком, недалеко от реки и лиственного леса. И чтобы место было сухое, и станция близко, и дороги хорошие. И сельский храм непременно. Так рисовалось Павлу Егоровичу и Евгении Яковлевне, никогда не жившим в русской деревне. Чехов, наверно, единственный в семье разделял мнение Егорова, которым тот поделился в своем письме: «Надо жить с мужиками, иметь с ними каждый день дело для того, чтобы отречься навсегда от всех теоретических взглядов на него (народ. – А. К.)». Но пока предстояло решить денежный вопрос.
Новый, 1892 год Чехов встречал в Петербурге, у Сувориных. В воспоминаниях Л. А. Авиловой о Чехове, этом «литературном романе», описан юбилей «Петербургской газеты». Его отмечали 1 января в доме издателя газеты Худекова. Хозяин дома предложил редкому московскому гостю занять место среди «избранных». Чехов отказался. Он сидел рядом с Авиловой. Некоторых петербургских литераторов задели почести, оказываемые Чехову. Дневники современников не оставляют сомнений: в Петербурге у Чехова были и недоброжелатели, и враги, не брезговавшие ни сплетней, ни клеветой, ни поношением. Весной того года Щеглов записал: «Александров, Ясинский и К°. Чехов – это „Суворинская содержанка“! И вся эта сплетня, разумеется, из зависти к его слепому успеху. Фу, какие <…> свиньи!!»
Правда, и сам милейший Иван Леонтьевич продолжал считать успех Чехова «легким», «слепым», чуть ли не заслуженным и будто бы вскружившим Чехову голову. Странное чувство испытывал Щеглов к Чехову. Не враждебное, не завистливое, а скорее недоуменное: почему Чехову везет, а ему нет. Это казалось обидным, несправедливым. Он списывал свои неудачи на судьбу, на случай. Чехов пытался приободрить приятеля, завышал его скромное дарование. Но Щеглов еще сильнее досадовал, даже подозревал «Антуана» в подражании своим одноактным пьесам. То отрицал всё написанное Чеховым к этому времени (останутся «две, четыре безделки»), то превозносил: «В одном маленьком рассказе Чехова больше чуется Россия, чем во всех романах Боборыкина».
Чехов стал тайным мучением нервного, чрезвычайно мнительного, не очень счастливого человека, хотя несчастье его жизни было в нем самом, в каком-то непрямом взгляде на людей, в чувстве вечной ущербности. Этот взгляд, видимо, и не позволил Щеглову понять по-настоящему ни самого Чехова, ни его прозу, ни драму. Непонимание оборачивалось замечаниями о несовершенстве рассказов, повестей и пьес Чехова, о его человеческих недостатках, с точки зрения Щеглова («эгоист», «хотя и по праву, но как завидно счастливо устроился!!» и т. п.).
Неприязнь одних Чехов ощущал, о зависти других догадывался, о враждебности некоторых современников знал. Но взял за правило – не откликаться ни словом. Огорчался, когда замечал, как мнительность, обидчивость разрушали одаренного человека.
Переписка Ежова и Лазарева в 1880-е годы – это в том числе хроника нравов московской литераторской среды: кто у кого украл темы, строки, фразы, слова; кто и сколько получал за строчку; кого и как лягнули в прессе. Они обижались на мелкие уколы газетчиков в свой адрес. Писали «молниеносные» возражения, но отсылали их не обидчикам или в редакцию, а друг другу, для сведения. Чехов, давно покинувший этот омут, вытаскивал из него обоих приятелей. Но если Лазарева товарищеская помощь утешала, освобождала от «мещанского тона», то Ежова эта забота словно угнетала. В нем усиливался какой-то мелкий обывательский тон. Временами он спохватывался, каялся, но потом впадал в грех несправедливости, злопамятства. В нем будто взбухало что-то темное. Чехов, не подозревая о том, невольно, самим фактом присутствия в жизни того и другого, повлиял на отношения двух былых друзей.
Это постепенно проявлялось в их оценках Чехова и его родных, в спорах по поводу отзывов о Чехове в критике. Особенно – в отношении к Буренину. В 1891 году Лазарев писал Ежову: «Ирония Буренина по Чеховскому адресу мне не нравится. Буренин пишет всё одно и то же, а это его роняет. Это имеет вид, как будто Буренин пишет из личностей и подрывает доверие к его словам». В том же году он прямо сказал Ежову, что, на его взгляд, Буренин травит Чехова и это «гадко и глупо», «недостойно».
Ежов, наоборот, всё чаще и настойчивее искал покровительства Буренина, млел оттого, что «великий» критик встретил его «мило и литературно». Зато стал подозревать Чехова в нетоварищеском поведении, злословил о нем в «Новом времени». По сути, взяв всё, что могли и хотели, Лазарев и Ежов расставались с Чеховым, расходились на литературном и житейском пути. Но по-разному.
9 января 1892 года петербургский литератор Ф. Ф. Фидлер записал в дневнике, который он вел неукоснительно и подробно: «Был позавчера на именинах Щеглова. Наибольший интерес среди присутствующих вызывал Чехов – его непрерывно чествовали. Весь его облик дышит простотой и естественностью, но есть в нем какая-то мягкая и спокойная самоуверенность. <…> Он любит Петербург больше, чем Москву, но не хотел бы жить в этом городе постоянно, „чтобы не перестать его любить“. Записал мне в альбом прямо после своего покровителя А. С. Суворина: „Примечание к автографу А. С. Суворина: слово ‘изречение’ пишется через е, а не через ять“».
Побыв в Петербурге всего неделю, договорившись с Сувориным о займе на покупку «хутора», о поездке в Воронеж по делам голодающих, Чехов покинул отныне мало привлекавший его город. Но слова, запомнившиеся добросовестному немцу-летописцу, относились и к Москве. Чехов не мог постоянно и подолгу жить на одном месте. Его интерес к месту, видимо, исчерпывался так же, как и интерес к тому или иному человеку.
Чехов ждал, когда же уедет из Москвы. Завершал кое-какие дела – например, устроил злополучного мангуста в Московский зоологический сад.
* * *
14 января Чехов выехал в Нижегородскую губернию, к Егорову. Неделю они мотались по уезду в метель, лютый мороз. Однажды сбились с дороги и едва не погибли. Уже в который раз за тридцать лет Чехов оказывался у опасной черты…
Увиденное и услышанное удручало. Он внес в книжку обширную запись, возможно, для газетной статьи: «В 1889 г. не уродило рожь; в 90 – яровые, а в 91 ни того, ни другого. <…> В октябре приходило к Е[горову] по 400 ч[елове]к с просьбой о пособии. <…> Муж, жена, мать 5 <…> детей ели 5 дней похлебку из лебеды. Не едят по 2–5 дней – это зауряд. При мне в метель мужик и баба пришли за 8 верст просить пособия. <…> Пьянства нет. <…> Свадеб было мало, венчались многие в долг. <…> Храмовых праздников не празднуют. <…> Пособия на лошадей не выдавали. Нет ни сена, ни соломы, ни мякины, ни каких-либо кормовых средств. <…> Если весною не распашет яровых, то разорится досконально, на 2–3 поколения, пойдет в батраки; потому-то держится за лошадь, как кошка за мышь. Чтобы прокормить лошадь, продают корову, овец; от этого упадок хозяйства. <…> Когда весною начнутся полевые работы, то мужики, во-1-х, будут не в силах работать, во-2-х, будут ложиться спать усталые и голодные».
В поездке Чехов простыл. Едва оправившись после ноябрьского серьезного недомогания, он наверняка подорвал здоровье тяжелой дорогой, холодом, сквозняками. Его мучила боль между лопатками и в грудных мышцах. Боль жестокая и жесткая, так как он не мог двигать ни шеей, ни руками, не мог наклониться. Терпел несколько дней. Наконец сам поставил себе мушку, то есть пластырь. Но через 10 дней, как уговорились с Сувориным, намеревался ехать в Воронежскую губернию, опять по голодным делам. Поэтому он не обмолвился ни словом в письме к нему о болезни, не отказался от поездки. Рассказ об увиденном в Нижегородской губернии свел к краткому выводу, что газеты не преувеличили: «Правительство ведет себя недурно, помогает, как может, земство или не умеет или фальшивит, частная же благотворительность равна почти нолю». Крестьяне показались ему не лентяями, не пьяницами: «ядреные, коренники <…>. И умный народ».
В конце января вдруг решился вопрос с имением. Оно отыскалось недалеко от Москвы, в селе Мелихово Серпуховского уезда. Смотреть усадьбу и дом поручили «младшим» Чеховым, как самым практичным и хозяйственным.
Накануне отъезда столичный гость, Чехов и Шаврова ужинали в номере гостиницы «Славянский базар». Елена Михайловна запомнила, что Суворин почти не говорил, сидел в каком-то не то халате, не то пальто, положив подбородок на руки, скрещенные на массивной трости. Чехов пил маленькими глотками любимое вино «Шато Понте-Кане» и шутил, что не стоит их милой собеседнице закрывать свой лоб кудряшками.
Суворину, видимо, не очень хотелось ехать. И все-таки 2 февраля они выехали в Воронеж, потом в село Хреновое, затем на родину Суворина в город Бобров. И здесь помощь оказывалась, и здешний губернатор, как и нижегородский, оказался человеком дельным. Чехов написал Егорову о воронежском опыте. Зато его спутнику скоро прискучили разговоры о скупке лошадей, о ссудах, о безлошадниках, столовых, мастерских. Одно дело отчитать кого-то в «Маленьком письме», написать с чувством о мужицкой России. Другое – вникать в деревенскую жизнь, разбираться в пособиях, наделах, неустойках, яровых, озимых. Суворин делал визиты, потом они посетили казенный Хреновской конный завод. Это не имело к несчастным мужикам никакого отношения. Чехов с иронией, даже с сарказмом написал сестре: «Дела наши с голодающими идут прекрасно: в Воронеже мы у губернатора обедали и каждый вечер в театре сидели <…>»
На заводе гости застали приготовления к любительскому спектаклю, естественно, в пользу голодающих: «Затем блины, разговоры, очаровательные улыбки <…> чаи, варенья, опять разговоры и, наконец, тройка с колоколами. Одним словом, с голодающими дела идут недурно». Это была и самоирония, и пародия на все подобные благотворительные обеды, домашние спектакли, разговоры о «бедном народе», «несчастных детях». Едва речь заходила о конкретном, Суворин проявлял наивность и учительный апломб. Чехов дописал ироническую зарисовку, имея в виду своего спутника: «Чепуху мы несем ужасную и приходим в детское раздражение, если нам замечают, что мы несем чепуху и ничего не понимаем. Утром мы бываем в духе, а вечером говорим: за каким чёртом мы поехали, ничего я тут не сделаю и т. д.».
Чехов еще ранее написал Егорову, что в помощи голодающим надо рассчитывать не на богатых, а на «среднего человека, жертвующего полтинники и рубли». На них он рассчитывал сам, собирая пожертвования: от 20 копеек до 10 рублей. Изредка ему приносили 100 рублей. Но вместе гривенники и рубли складывались в солидные суммы. На эти деньги Егоров устраивал столовые для взрослых и детей.
В феврале 1892 года Плещеев рассказал в письме Суворину из Ниццы, как откликнулись безбедные соотечественники на инициативу устроить концерт в пользу голодающих: «Надо было видеть, с каким черство-злобным высокомерием отнеслась эта здешняя паскудная колония <…> к этому концерту!
Один генерал во всеуслышание сказал в табльдоте, что „это безобразие, это поощрение дармоедства, лености“ <…>»
Весной 1892 года Егоров, измотанный, донельзя усталый, признался в письме: «Представить Вы себе не можете: насколько надоела голодовка и все с нею связанное <…> прибавьте общую неопределенность, массу ненужного шума. <…> Я теперь не менее мужика молюсь, чтобы Бог ему послал урожай. Пора отдохнуть». Но вскоре с тревогой спрашивал, нет ли у Чехова знакомых врачей, готовых приехать в его уезд для борьбы с холерой. Одно бедствие сменялось другим. Под этим знаком начиналось «мелиховское течение жизни».
Новый «хозяин» имения сразу понял, что дом для семьи тесен и в запустении. Ни реки рядом, ни большого старинного парка. Зато деревня под боком, в двух шагах. Продавец без конца лгал относительно банковского и текущего долга.
Имение располагалось в девяти верстах от железнодорожной станции Лопасня Московско-Курской дороги, в 23 верстах от уездного города Серпухов и в 70 верстах от Москвы. От Москвы до Лопасни – два с половиной часа пути. В течение дня на станции останавливались шесть поездов, еще один добавлялся в дачный сезон. Дорога от станции к имению – Каширский тракт, непроезжий в весеннюю распутицу и осеннюю хлябь. Летом – весь в ухабах, в облаках пыли. Зимой дорога угадывалась по воткнутым вешкам. Ямщики брали до Мелихова рубль. Телега и тарантас – одна пытка, а рессорный экипаж не выдерживал ям и кочек.
Чехов рассказывал об имении и в шутку и всерьез в первые дни после переезда: «Не было хлопот, так купила баба порося! Купили и мы порося – большое, громоздкое имение <…>. 213 десятин на двух участках. Чересполосица. Больше ста десятин лесу <…>. Называют его оглобельным, по-моему же, к нему более подходит название розговый, так как из него пока можно изготовлять только розги. <…> Фруктовый сад. Парк. <…> Вся усадьба загорожена от мира деревянною оградою на манер палисадника. <…> Дом и хорош, и плох. Он просторнее московской квартиры, светел, тепел, крыт железом <…> имеет террасу в сад, итальянские окна и проч., но плох он тем, что недостаточно высок, недостаточно молод, имеет снаружи весьма глупый и наивный вид, а внутри преизбыточествует клопами и тараканами, которых можно вывести только одним способом – пожаром; всё же остальное не берет их. <…> В саду, в 15 шагах от дома, пруд <…> с карасями и линями, так что рыбу можно ловить из окна».
Михаил Павлович в своих мемуарах списал неудачу с покупкой имения на неопытность, свою и сестры, хотя во всех остальных случаях особо подчеркивал свое здравомыслие, практичность. Он объяснял заблуждение с Мелиховом тем, что они смотрели усадьбу зимой, когда всё скрывал снег. Ссылался на недобросовестность продавца, которому он и сестра верили, а тот их обманывал на каждом шагу. Но главным образом мемуарист, никогда ни в чем не чувствовавший себя виноватым, упирал на требование брата: скорее купить имение.
На первый взгляд покупка мелиховского имения – не менее странный поступок, чем решение Чехова ехать на Сахалин. Зачем семье, в которой в силу возраста, занятий, интересов никто не собирался, не умел и не хотел заниматься сельским хозяйством, столько пахотной земли, 150 десятин леса, обширные луга? Первоначально, в разговорах о «хуторе», речь шла о десяти – двадцати десятинах – об усадьбе, но не об имении. А тут в десять раз больше. Хозяин этого «герцогства» шутил, что, подобно Расплюеву из «Свадьбы Кречинского», знает «только, что земля черная, – и больше ничего», что он создан дачником, а не помещиком, а если и помещик, то «захудалый». Иронизировал над собой в письме брату Ивану, передавая наказ «от господ помещиков».
Внутри дом оказался грязен, с плохими полами, угарными печами, замызганной кухней, холодным нужником, провонял кошками. Живность – три полудохлые лошади, некормленая корова, четыре гуся, десять кур, две собаки, Шарик и Арапка. Уже через два месяца пала одна из лошадей, птица передохла. Вообще поначалу всё было страшновато на вид. Когда отодранные обои вынесли в сад, гуси клевали тараканов и клопов. Чехов собирал клопов со стен гусиным пером в полоскательницу. Решили оклеить дом заново. Голые деревянные стены Чехов не любил.
Описывая дом и двор, повторял слово «наивный». Но, возможно, это он чувствовал себя простодушным, обманутым и обманувшимся. Имение было куплено за 13 тысяч. Продавец получил четыре тысячи наличными и закладную в пять тысяч по 5 процентов на десять лет, то есть нотариально оформленное обязательство покупателя уплатить данную сумму в обозначенный срок. Остальные четыре тысячи продавец получил той же весной в банке, едва Чехов заложил имение. Тогда же были отданы две тысячи в счет закладной. Тысяча рублей ушла на купчую, нотариуса, чиновников.
Весной 1892 года Чехов очутился, по его выражению, «на цепочке» большого долга, около 18 тысяч. Долг конторе «Нового времени» составил 8170 рублей. Он сложился из пяти тысяч, взятых на покупку имения, и 3170 рублей старого непогашенного долга, возникшего в связи с поездками Чехова на Сахалин и за границу. Шесть тысяч рублей – это банковский долг с ежегодными процентами в 470 рублей. Еще три тысячи – оставшаяся сумма по закладной. А помимо долга – ежедневные расходы на благоустройство запущенного хозяйства, на корм скоту, резко подорожавший из-за предыдущих неурожайных лет.








