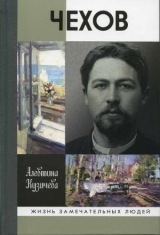
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 50 (всего у книги 71 страниц)
Александр в письме от 26 февраля 1899 года подробно описал брату петербургские беспорядки. Как в Москве Татьянин день (12 января), так 8 февраля в Петербурге – день основания университета, студенты всегда отмечали шумно и весело. Всё, как правило, обходилось без последствий. Полиция старалась не вмешиваться и не придиралась к молодежи в эти дни, хотя кто-то, конечно, выходил за рамки. Так год назад студенты ворвались в цирк, «заняли арену, велели оркестру играть гимн, пропели его без шапок и мирно удалились». Министр народного просвещения Н. П. Боголепов рекомендовал ректору Петербургского университета впредь предотвращать подобные выходки. Студентов предупредили о возможных карах.
Кто-то, как рассказывал Александр, озаботился на сей раз прислать полицию. Студенты собирались через Дворцовый мост выйти на Невский проспект, но им загородили дорогу: «Отсюда – драка, полицейские нагайки, окровавленные головы, оторванные уши и… политическое преступление. <…> 9-го оскорбленные студенты собираются в университете и постановляют на сходке, чтобы вести себя тихо и смирно, но лекций не посещать. Является опять полиция, переписывает, разгоняет, запирает университет и 500 человек высылает на родину».
Студенты других столичных вузов поддержали товарищей, заявив, что «они – самые верноподданные, но на лекции ходить не будут». Министр внутренних дел И. Л. Горемыкин и обер-прокурор Синода К. П. Победоносцев доложили царю, что «вспыхнул политический мятеж». В окружении Николая II раздавались голоса в защиту молодежи, отрицавшие «политический умысел».
Александр передавал в письме слухи и сплетни о дворцовых интригах вокруг случившегося, советы царю учинить репрессии. Полиция сама расклеивала прокламации, но выдавала их за студенческие воззвания, собирая таким образом «доказательства» молодежного бунта. По повелению царя была создана комиссия во главе с военным министром П. С. Ванновским для расследования причин и обстоятельств беспорядков. Далее, по выражению Александра, «чёрт дергает» Суворина написать «Маленькое письмо»: «…Молодежь возмущена и пишет ему уйму негодующих писем, начинающихся, начиненных и кончающихся „подлецом“. Старика это ужасно волнует и портит ему кровь. В своем кругу он читает целую лекцию самооправдания и печатает второе письмо. На этот раз эффект получается совсем не тот, которого ожидал старина: студенты <…> делают коллективное постановление отказаться от чтения нашей газеты, впредь ее не выписывать <…>. Старик теперь ходит и храбрится, но храбрится виновато. Это уже, если хочешь, и финал. <…> Ждут теперь, что скажет комиссия Ванновского».
О чем писал Суворин в своих нововременских «письмах» 21 и 23 февраля? Две темы сначала волновали его: «любовь и милость», «великодушие», «доброта и милость», «сосредоточенные для нас в сердце государя». Еще – «известные условия общежития, известная дисциплина и повиновение», которых требует государство. Перед первыми он призывал «преклониться», а вторым – подчиниться. Автор «писем» выносил за скобки угрозы ректора, действия полиции, массовое исключение студентов, то есть неправовые действия администрации. Он долбил в одно место: студенты взбунтовались. И настаивал: «По каким причинам это случилось – все равно. Самый факт важен. <…> По моему мнению, стачка подобного рода не должна даже существовать в умах молодежи <…>. Не молодежь содержит учебные заведения, а государство. Государство берет для этого деньги с народа, у которого и первоначальных школ мало, и это надо помнить. <…> Школой необходимо дорожить <…>. Но улица школе не принадлежит, и на ней ее питомцы обязаны подчиняться тому режиму, которому подчиняются все прохожие».
Чехов рассказал в мартовском письме Орлову, что получил и получает много писем по поводу студенческой истории: «И исключенные студенты ко мне приходили. По-моему, взрослые, т. е. отцы и власть имущие, дали большого маху <…>»
В этой почте были три письма Суворина, похожие, по словам Чехова, на «покаянный канон». Читал Чехов и сами злополучные «Маленькие письма» Суворина, о которых отозвался в письме от 4 марта: «Получаются письма из Петербурга, настроение в пользу студентов. Ваши письма о беспорядках не удовлетворили – это так и должно быть, потому что нельзя печатно судить о беспорядках, когда нельзя касаться фактической стороны дела». В таком случае мнение, высказанное в печати, без обсуждения фактов, вольно или невольно превращалось в ложь, в одобрение репрессивных действий. Чехов подчеркнул очевидное: «Государство запретило Вам писать, оно запрещает говорить правду, это произвол, а Вы с легкой душой по поводу этого произвола говорите о правах и прерогативах государства – и это как-то не укладывается в сознании».
Чехов заговорил с Сувориным о правах личности: «Вы говорите о праве государства, но Вы не на точке зрения права. Права и справедливость для государства те же, что и для всякой юридической личности». Он поставил вопрос резко: «Если государство неправильно отчуждает у меня кусок земли, то я подаю в суд, и сей последний восстановляет мое право; разве не должно быть то же самое, когда государство бьет меня нагайкой, разве я в случае насилия с его стороны не могу вопить о нарушенном праве?» Суворин упирал только на обязанности студентов, корил их за неблагодарность. По логике автора «писем» молодежь оказывалась чуть ли не виноватой в народных бедствиях. По мнению студентов и многих читателей газеты, сочувствие издателя «Нового времени», может быть, и искреннее («Я знаю, сколько бедных среди молодежи, как горька их жизнь…»), было лукавством, демагогией, жестом. Завершая разговор, Чехов подвел итог: «Понятие о государстве должно быть основано на определенных правовых отношениях, в противном же случае оно – жупел, звук пустой, пугающий воображение».
Вместе с тем было очевидно, что многие обличители «Нового времени» руководствовались личными мотивами. Одни хотели сокрушить газету-соперницу. Другие сводили давние счеты. Третьи спекулировали на злободневной теме, нарочито шумно выражая свой праведный гнев и нравственные упреки в адрес Суворина. Хотя еще вчера сочли бы за счастье попасть в «Новое время», издать там свои сочинения. Некоторые умудрялись печататься одновременно у Суворина и в газетах, участвовавших в походе против него. Александр писал о них брату: «Я этого с этической стороны что-то не разберу…»
Самые неистовые разоблачители из Союза взаимопомощи русских писателей возбудили 12 марта «дело Суворина». Протокол заседания комитета решили передать в суд чести, существовавший в этом объединении. Суворин впадал то в неистовство, то в черную меланхолию. Писал в дневнике о бессилии чиновников, о правительстве, что оно «глупо, нелепо, бесхарактерно». Объяснялся, утверждал, что свои статьи писал ради царя, ради молодежи. Обладавший от природы чутьем к общественному настроению, развивший, по наблюдению Чехова, «свой инстинкт до большого ума», Суворин ощущал: «Мы переживаем какое-то переходное время. Власть не чувствует под собой почвы, и она не стоит того, чтоб ее поддерживать. Беда в том, что общество слабо, общество ничтожно, и может произойти кавардак невероятный. Он нежелателен». Но поддерживал власть, чтобы упрочить свое дело, предотвратить «кавардак». Теперь он чувствовал, что его отовсюду «вышвыривают». Сыновья рвались к полному главенству в семье и в редакции. Конкуренты топили сильного противника. Петербургская литературная среда вытесняла на обочину. Суворину всюду мерещились подлинные и мнимые недоброжелатели.
Эта ситуация не была тайной для Чехова. На вопрос Авиловой, жалко ли ему Суворина, он ответил: «Конечно, жалко. Его ошибки достаются ему недешево. Но тех, кто окружает его, мне совсем не жалко». Он отделял свою человеческую жалость к старому, несчастливому человеку, которому был признателен за дружескую помощь, от своего отношения к газете «Новое время». Анна Ивановна Суворина косвенно укорила Чехова за то, что ее муж в такую трудную минуту остался один. Чехов объяснился с нею – точнее, с обоими, зная, что она покажет письмо Алексею Сергеевичу: «Вы упрекаете меня в вероломстве <…> но что я в положении искренне расположенного человека мог бы сделать теперь? Что? Теперешнее настроение произошло не сразу, оно подготовлялось в продолжение многих лет, то, что говорится теперь, говорилось уже давно, всюду, и Вы и Алексей Сергеевич не знали правды, как не знают ее короли. Это я не философствую, а говорю то, что знаю».
На что рассчитывала Анна Ивановна? Прямо просила лишь «выписать» мужа на время, вызволить его из Петербурга. Может быть, на самом деле имела в виду публичную защиту? Например, «открытое письмо» в какую-нибудь газету? Или, допустим, возвращение на страницы газеты? То и другое вынуждало к демонстративному жесту, ввязывало в раздраженную полемику, чего Чехов избегал, даже отрицал. Но главное: защищать в этой ситуации Суворина значило защищать «Новое время».
Действительно, теперешнее настроение возникло не вдруг. Чехов давно подметил, что газетная суета, редакционное политиканство съедали литературные занятия Суворина, умаляли в нем человека, привнося мелочность и пошлость. Он не скрывал, что слышит «фальшивые ноты» в консервативных и верноподданнических рассуждениях Суворина, в таких выражениях, как, допустим, «к подножию трона». С годами такие звуки усиливались, выдавая внутреннее разрушение в самом Суворине и распад в редакции. Уже в 1893 году Чехов заметил, что «старое здание затрещало и должно рухнуть».
Что же до «суда чести», затеянного Союзом писателей, то, по словам Чехова, это «бессмыслица, нелепость», о чем он написал самому Суворину 24 апреля: «<…> в азиатской стране, где нет свободы печати и свободы совести, где правительство и 9/ 10общества смотрят на журналиста, как на врага, где живется так тесно и так скверно и мало надежды на лучшие времена, такие забавы, как обливание помоями друг друга, суд чести и т. п., ставят пишущих в смешное и жалкое положение зверьков, которые, попав в клетку, откусывают друг другу хвосты. <…> Ваши письма могут быть предлогом к острой полемике, враждебным демонстрациям против Вас, ругательным письмам, но никак не к суду». Почему?
Во-первых, по словам Чехова, судить за гласное мнение, высказанное в печати «(какое бы оно ни было), – это рискованное дело, это покушение на свободу слова», так как «ни один журналист не мог бы быть уверен, что он рано или поздно не попадет под этот странный суд». Во-вторых, эти «обвинительные пункты», по словам Чехова, «как бы умышленно скрывают главную причину скандала, они умышленно взваливают всё на беспорядки» и на «письма» Суворина, «чтобы не говорить о главном»: «Отчего, раз пришла нужда или охота воевать с Вами не на жизнь, а на смерть, отчего не валять начистоту?» В-третьих, в обвинительных пунктах Суворин, автор конкретных «писем» о студенческих волнениях, не отделен от своей газеты и ему предъявлены обвинения многолетнего недовольства, превратившегося в предубеждение против издателя.
Но в каждом из трех умозаключений Чехова таился или прямо высказывался контрдовод, относящийся не к зачинщикам «суда чести», но к самому Суворину. В том предубеждении против издания, которое лавиной обрушилось на Суворина, он был повинен не менее, чем его «зулусы» и «кактусы». Может быть и больше, как глава газеты, о чем Чехов прямо сказал Суворину: «Составилось убеждение, что „Новое время“ получает субсидию от правительства и от французского генерального штаба. И „Нов[ое] время“ делало всё возможное, чтобы поддержать эту незаслуженную репутацию, и трудно было понять, для чего оно это делало, во имя какого бога». И вообще, по выражению Чехова, поступало «не литературно» – доносы на другие газеты, искажение чужих слов и т. д.
Таким образом, «забавы» литераторов («обливание помоями», «суды чести» и т. п.) и «нелитературное» поведение «Нового времени» оказывались за рамками справедливости, правды, искренности.
* * *
Апрельское письмо Суворину словно продолжало февральское письмо Орлову об интеллигенции в целом и об отдельныхлюдях. Они не «ходили в народ», а жили среди него, как земские учителя Михайлов, Забавин. Не обвиняли окружающих в бездействии, но делали то, что могли. Как Иорданов в Таганроге, Егоров в Нижегородской губернии во время голода, как публицист А. С. Пругавин в Самарской губернии, пострадавшей от неурожая 1898 года. Осенью минувшего года он прислал Чехову воззвание кружка, созданного с целью помощи голодающим крестьянским детям, и книжку для сбора пожертвований. Чехов отредактировал обращение и опубликовал в ялтинской газете «Крымский курьер». Сам стал собирать добровольные взносы. К апрелю 1899 года было собрано и отправлено в Самару 1223 рубля 53 копейки.
В марте 1899 года к Чехову воззвал Сергеенко – о помощи голодающим Казанской губернии. Чехов ответил: «Милый Петр Алексеевич, посылаю по глаголу твоему <…> и очень, очень рад, что это так вышло, т. е. что ты обратился ко мне и что я исполнил твое желание». После его сообщения в местной газете деньги поступали не только из Ялты. Одна книжка для сбора пожертвований сменялась у Чехова другой. Однако когда позже Пругавин попросил позволения воспользоваться письмами к нему и пояснениями на бланках переводов (он готовил к печати свои заметки о голоде), Чехов ответил отказом: «Большое Вам спасибо, я прекрасно понимаю, в чем дело, и ценю высоко Ваши намерения и Ваше отношение ко мне и уклоняюсь от напечатания моих писем только по причинам, так сказать психологическим. Напечатание связало бы меня на будущее время; потом, когда бы я писал письма, я был бы уже не свободен, так как мне всё казалось бы, что я пишу для печати».
Теперь здесь, в Ялте, он волей-неволей втягивался в помощь чахоточным больным, знакомым и незнакомым. Он получал столько писем, что почтальон, по его словам, изумлялся и роптал. Чехов шутил, что если отвечать на все письма, то нужно сидеть за столом с утра до вечера. Он признавался в скверном настроении, так как не работал, а в письмах приходилось «или утешать, или отчитывать, или грызться на собачий манер». В конце марта рассказывал сестре, что перед ним на столе лежат «целые горы рассказов», которые он приготовлял для Маркса, но мешают вечная толчея, телефон, почта и пр. И хорошо бы уехать в Москву. И что вообще, он выбит из колеи.
Беспокойное состояние Чехова в это время выдавали в письмах обилие восклицательных знаков, грубоватые слова («идиотство», «рухлядь», «физиономия», «сдурела», «подлейшая»), самоирония – «Продал я Марксу прошедшее, настоящее и будущее <…> чтобы привести свои дела в порядок».
Что так вывело Чехова из душевного равновесия? Договор с Марксом? «Суворинская история»? Редактирование ранних рассказов для первых томов собрания сочинений? Ялтинское окружение? Остановившаяся из-за непогоды стройка в Аутке? Всё это вместе не позволяло сосредоточиться. Или дело было в том неуловимом возбуждении, которое нарастало и прорывалось и в письмах Чехова по поводу студенческих беспорядков? Они по интонации оказались сходны с отрывком, записанным им когда-то на отдельном листе: «Я думал <…> что пока мы в своих интеллигентных кружках роемся в старых тряпках и, по древнему русскому обычаю, грызем друг друга, вокруг нас кипит жизнь, которой мы не знаем и не замечаем. Великие события застанут нас врасплох, как спящих дев <…>. И я думал, что если бы теперь вдруг мы получили свободу, о которой мы так много говорим, когда грызем друг друга, то на первых порах мы не знали бы, что с нею делать, и тратили бы ее только на то, чтобы обличать друг друга в газетах <…> и запугивать общество уверениями, что у нас нет ни людей, ни науки, ни литературы, ничего, ничего! А запугивать общество <…> значит <…> прямо расписываться в том, что мы не имеем ни общественного, ни политического смысла».
Может быть, весной 1899 года впервые обозначилось в письмах и разговорах Чехова противостояние двух начал его нынешней жизни. Он обозначил их словами «север» – «юг», Москва – Ялта. В начале апреля он рассказывал, что сажает на участке деревья, но хочется уехать на север: «Скучна роль человека не живущего, а проживающего „для поправления здоровья“; ходишь по набережной и по улицам, точно заштатный поп». Заштатный, то есть будто исключенный из общей жизни, существующий вне ее, отчего притупляется живое чувство, теряется острота зрения и слуха. Толчея есть, а движения нет. При всем разнообразии лиц – однообразие разговоров. Есть курортная публика, но нет толпы, как в Париже, Генуе, Москве, усиливающей ощущение жизни.
Максим Горький, в те дни познакомившийся с Чеховым, рассказывал в письмах о первых впечатлениях: «Чехов – человек на редкость. Добрый, мягкий, вдумчивый. Публика страшно любит его и надоедает ему. Знакомых у него здесь – конца нет. Говорить с ним в высокой степени приятно, и давно уже я не говорил с таким удовольствием, с каким говорю с ним».
Публика действительно мешала, отнимала силы и время. Многие из «поправляющих здоровье» включали встречу с «известным писателем» в программу своего отдыха в Ялте. С ним искали знакомства, чтобы поговорить о «серьезном», узнать его мнение. Так возникла «мода на Чехова». Современники шутили, что «быть в Ялте и не посетить Чехова считалось для столичного литератора почти таким же преступлением, каким считается для истинного католика быть в Риме и не видеть папы». Между тем в критике резче обозначилась перемена, проявившаяся несколько лет назад. Для одних рецензентов Чехов – безыдейный автор, посредственный писатель. Его влияние на общество почти незаметно. Он сам ко всему равнодушен, а его герои ничтожны. Он остался в прошлом, не меняется и по-прежнему «жертва безвременья». Для других Чехов – властитель дум. Воздействие его рассказов на читателей сильнее больших романов маститых беллетристов. Он уловил «настроение эпохи». Он – провозвестник новых путей в искусстве. Без манифестов и трактатов он совершил переворот в русской прозе и драме.
Читатели и зрители не пытались разгадать тайну воздействия его сочинений. Но рассказывали в письмах, как они их « настраивали», будто камертон. Наблюдение Толстого о «колебательном» влиянии Чехова, выводившего человека из душевного и умственного «стояния», оказалось точным.
Пьеса «Дядя Ваня» после публикации в сборнике пьес (1897) ставилась во многих российских городах. Провинциальная пресса пестрела рецензиями на спектакли по пьесам Чехова. Все чаще пересказ содержания переходил в размышление о «нервном веке», о русской жизни на рубеже столетий. Но многие зрители находили пьесу скучной, неинтересной, не дающей забыться, отвлечься от тусклых буден. Им хотелось какой-нибудь жгучей тайны, ошеломляющей мелодрамы, забавной комедии. Так нет, на сцене неудачники, какой-то странный финал, какое-то «небо в алмазах» и рефрен – «мы отдохнем», «мы отдохнем». Один из журналистов иронизировал по поводу таких зрителей: «Ах, господа, нужно только вдуматься и такая драма – больше того, трагедия, почище всяких трагедий с убийствами и проклятиями – встанет здесь перед вами, что жуткое чувство невольно закрадется в душу».
Горькому показалось, что в пьесе «Дядя Ваня» автор «к людям – холоднее чёрта»: «Вы равнодушны к ним, как снег, как вьюга. <…> Как ни много хвалят Вас – все-таки Вас недостаточно ценят и, кажется, плохо понимают. Не желал бы я лично служить доказательством последнего». И попросил: «Напишите мне, пожалуйста, как Вы сами смотрите на „Ваню“?» Чехов отвел суждение о равнодушии. Да, он «холоден». К своим пьесам, но не к людям. Упрек в равнодушии давно был общим местом многих критических статей о Чехове. Природа этого «холода» оставалась неразгаданной, хотя сам Чехов не делал из нее тайны. Однажды он дал Авиловой «читательский совет»: «<…> когда изображаете горемык и бесталанных и хотите разжалобить читателя, то старайтесь быть холоднее – это дает чужому горю как бы фон, на котором оно вырисуется рельефнее. А то у Вас и герои плачут, и Вы вздыхаете. Да, будьте холодны».
Чем спокойнее, даже равнодушнее казались его письма, тем большее скрывалось за этим тоном душевное волнение, переживание, горестное чувство. Чем «объективнее», «холоднее» он писал, тем сильнее впечатляло его повествование. Но часто эту особую сдержанность в житейском поведении и в сочинениях принимали за сухость, равнодушие, «холодность».
Казалось «холодное» отношение Чехова к своим пьесам только усиливалось. Но на самом деле, наверно, возрастало его напряженное душевное состояние. Это обнаружил казус с не-состоявшейся постановкой «Дяди Вани» в московском Малом театре. В феврале 1899 года Чехов обещал отдать туда эту пьесу, несмотря на воспоминания о судьбе «Лешего» в Театрально-литературном комитете в 1889 году, несмотря на просьбу Немировича предпочесть их театр.
В самом начале марта пьесу прочли на труппе. Актерам она понравилась, дело было за комитетом. 26 марта Мария Павловна передала брату новость, услышанную от Немировича. Члены комитета (Н. И. Стороженко, А. Н. Веселовский, И. И. Иванов) в отсутствие четвертого члена, Вл. И. Немировича, на заседании 20 марта одобрили, но не утвердили включение пьесы в репертуар Малого театра. Решили – предложить автору сделать некоторые изменения. В зависимости от переделок прийти к окончательному выводу. Немирович отсутствовал на заседании не случайно – он хотел заполучить пьесу в свой театр и, видимо, положился на судьбу. Если члены комитета проголосуют единогласно, то его голос ничего не решит. Если двое будут против, то не ему биться за интересы Малого театра. Если предложат доработать пьесу, то дальнейшее предсказуемо. Об этом он сказал Марии Павловне, а она написала брату: «Немирович и решил так: переделывать пьесу ты не станешь, а он в своем театре поставит ее и без переделки, потому что находит ее великолепной и т. д. Станиславскому она нравится больше „Чайки“. <…> Владимир Иванович просит тебя сделать запрос телеграммой в комитет: одобрена ли твоя пьеса и как?»
Комитет ставил условия о переделке уже опубликованной пьесы. Немирович нажимал на Чехова советами о запросе, просьбами о срочных телеграммах. И то и другое обусловило ответ Чехова сестре: «Что касается „Дяди Вани“, то я ничего не буду ни писать, ни телеграфировать <…> всё это мне уже надоело ужасно, до одурения. Вообще, повторяю, всё это мне надоело, пьес я больше ставить не буду нигде и ни у кого. И писать не буду никому».
История повторилась – не цензура, а Театрально-литературный комитет опять забраковал пьесу Чехова. И тогда, в 1889 году, и теперь Чехов отказывался писать в комитет. Он не хотел выглядеть просителем. Дело было, наверно, не только в самолюбии, но и в профессиональном достоинстве. В угоду профессорам (не литераторам, не драматургам) исправлять пьесу, широко идущую на сценах российских театров? Тут, наверно, для Чехова и вопроса не существовало, и вообще было не до пьесы.
С Мелиховым ничего не решено. С покупкой московского «домишки» никакой ясности. Едва он собрался в Москву, погода в Ялте улучшилась, и жалко было уезжать. В Москве ждали – чужая квартира, постройка школы в Мелихове, подготовка к переселению в Ялту. Да еще чтение корректуры почти на перекладных. Не говоря уже о визитах, встречах, переговорах, в том числе по поводу «Дяди Вани».
10 апреля Чехов покинул Ялту после полугодовой «ссылки», как он называл свою жизнь в Крыму. Не сравнить с прошлогодней «ссылкой» в Ниццу. Слишком много перемен: смерть отца, строительство дома, продажа сочинений Марксу, тьма больших и малых дел. Физическое состояние не улучшилось, хотя Чехов на вопросы о здоровье говорил «in statu [17]17
В прежнем состоянии (лат.).
[Закрыть]». И все-таки он справился с первой ялтинской зимой. Вероятно, одолел и настроение, которое определил словами – «собирался умирать».
По письмам заметно, что Чехов оживлялся от встреч с теми, кто был ему душевно близок или очень интересен. Но утомлялся, уставал от московской толчеи еще сильнее, чем от ялтинской: «В Москве <…> посетителей тьма-тьмущая, разговоры бесконечные – и на второй день праздника от утомления я едва двигался и чувствовал себя бездыханным трупом». Так он написал 24 апреля доктору Альтшуллеру.
Из всех дел, отрадных минут и встреч Чехов выделил любимый московский колокольный звон, к тому же праздничный, на Святой неделе; встречи с Толстым и университетским приятелем Россолимо. Всё остальное было до изнурения неинтересно, ненужно, прескучно. Суворин слал письма, телеграммы, тексты своих объяснений «суду чести». Чехов находил их «маловыразительными». Он давал Алексею Сергеевичу советы, хотя отдавал отчет, что всё это, по его выражению, «как бульканье камешка, падающего в воду».
«Суд» состоялся в середине мая 1899 года. Суворина осудили единогласно за «приемы», но не за сами статьи. Короленко, член суда, оставил дневниковую запись: «Многие ждали, что суд чести осудит Суворина. „Если не за это одно, то за всё вообще“. Мы строго держались в пределах только данного обвинения, и по совести я считаю приговор справедливым. В данном деле у Суворина не было бесчестных побуждений: он полагал, что исполняет задачу ментора. Но у него давно уже нравственная <…> глухота и слепота, давно его перо грязно, слог распущен, мысль изъедена неискренней эквилибристикой… <…> Чехов рассказывал мне, что Суворин иногда рвал на себе волосы, читая собственную газету. Все эти приемы в „Маленьких письмах“ мы и отметили и осудили. Но мы считали неуместным и опасным становиться судьями всего, что носит характер „мнений“ и „направления“. С этим нужно бороться не приговорами. А от нас именно этого и ждали».
В который раз Чехов и Короленко, не сговариваясь, оказывались близки в суждениях, в оценке событий. Как раз в марте 1899 года Чехов написал Авиловой: «Короленко чудесный писатель. Его любят – и недаром. Кроме всего прочего, – в нем есть трезвость и чистота».
В тот день, когда Суворин получил в Петербурге приговор «суда», Чехов, наверно, еще не зная об окончании «передряги», писал ему из Мелихова: «Между прочим, Вашими письмами и телеграммами Вы тогда задали мне нелегкую задачу. <…> Не знаю, пригодились ли Вам эти мои советы; мне очень тогда не хотелось, чтобы состоялся суд чести <…>. Раздражения было много <…>. Но теперь, кажется, всё идет к тому, чтобы жизнь благополучно вошла в свою прежнюю колею. <…> Справедливо ли газетное известие, что Вы написали новую пьесу? Я бы на Вашем месте роман написал. Вы бы теперь, если бы захотели, могли написать интересный роман, и притом большой. Благо, купили имение, есть где уединиться и работать». В этом совете, завершившем для Чехова шумное «дело Суворина», словно слышался иронический отзвук реплики профессора Серебрякова из «Дяди Вани»: «После того, что случилось, в эти несколько часов я так много пережил и столько передумал, что, кажется, мог бы написать в назидание потомству целый трактат о том, как надо жить. <…> Надо, господа, дело делать! Надо дело делать!»
Суворин отозвался на шутку Чехова насчет романа дневниковой записью: «Он бы на моем месте, конечно, написал. Но я на своем не напишу. Мне жизнь не ясна. <…> Под влиянием слов Чехова я было раскрыл тетрадь. Подумал, подумал над белыми страницами и положил тетрадь в стол. Уже поздно». Через три недели в дневнике появилась запись: «„Новое время“ заплесневело, замучено, серо. Так мне кажется и, думаю, я не ошибаюсь. <…> Может лучше, если совсем замолкнуть <…>. Это мучительно питать у читателя раздражение».
* * *
До отъезда в Мелихово, за время пребывания в Москве, Чехов успел побывать у В. А. Теляковского, управляющего Московской конторой императорских театров. Он отказался что-либо переделывать в «Дяде Ване» и просил, по словам сановного собеседника, «не подымать шума из этого факта». Судьба пьесы решилась, и Чехов передал ее Немировичу.
С самого приезда в Москву Чехов встречался с «чайкистами» – так он называл исполнителей «Чайки». Книппер рассказывала в воспоминаниях, как удивились она и ее домашние, когда Чехов пришел к ним с визитом в первый день Пасхи. Запомнила, как Чехов и она вместе ходили на выставку. Около картины Левитана они стали «свидетелями того, как публика не понимала и смеялась над его чудесной картиной „Стога сена при лунном свете“ – так это казалось ново и непонятно».
Чехов увидел «Чайку» 1 мая 1899 года в холодном зале театра «Парадиз». Увиденное он описал Горькому 9 мая: «„Чайку“ видел без декораций; судить о пьесе не могу хладнокровно, потому что сама Чайка (М. Л. Роксанова. – А. К.) играла отвратительно, всё время рыдала навзрыд, а Тригорин (беллетрист) (К. С. Станиславский. – А. К.) ходил по сцене и говорил, как паралитик; у него „нет своей воли“, и исполнитель понял это так, что мне было тошно смотреть. Но в общем ничего, захватило. Местами даже не верилось, что это я написал».
Актеры запомнили недовольство Чехова, его слова, что спектакль затянут. Но через неделю, 15 мая, в письме Иорданову, Чехов высказался иначе: «Постановка изумительная. <…> Малый театр побледнел, а что касается mise en scene и постановки, то даже мейнингенцам далеко до нового Художественного] театра, играющего пока в жалком помещении. <…> Все участвующие в „Чайке“ снялись вместе со мной; вышла интересная группа».
Что произошло между двумя датами, 9 и 15 мая, когда Чехов послал из Мелихова письма с отзывами о спектакле? Может быть, сказалось пребывание в Мелихове Книппер? После смерти Павла Егоровича никто не отмечал каждодневные события, прервалась хроника мелиховской жизни, поэтому точная дата приезда гостьи неизвестна. Но по фразе из письма Немировича к Чехову – «Впрочем, всё это тебе расскажут» – и по другим признакам Книппер гостила в Мелихове в середине мая. Как бы то ни было, весной 1899 года завязывался сложный узел взаимоотношений Чехова, его сестры и Книппер.
Но может быть, сказались перепады в настроении Чехова от скрытого недовольства? Уже полгода он правил корректуру первых томов, готовил следующие, то есть редактировал «старое» и ничего не написал нового. Одна суета и вообще, по его выражению, «какая-то белиберда».
Последний рассказ Чехова «Новая дача» появился в самом начале 1899 года. Но желание писать прорывалось в советах Суворину приняться за роман, а Горькому – за пьесу. Оно ощущалось в письме драматургу Е. П. Гославскому, в разговоре о том, что есть «язык театральный», которым приспосабливают пьесу к сцене (мизансцены, уходы, специальные роли), но в котором, по мнению Чехова, нет поэзии. И что есть язык искусства в драме – компактность, выразительность, пластичность фразы. В этом разница между профессиональным драматургом и художником.








