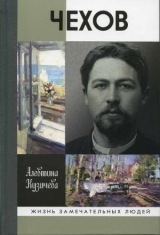
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 71 страниц)
Отчего-то повествование о Сахалине Чехов начал с краткого описания Николаевска-на-Амуре, самой восточной точки своего пути по Сибири и Амуру. Образ «заброшенного, вымирающего города», полуразрушенного, где «темные окна без рам глядят на вас, как глазные впадины черепа», определил интонацию первой главы книги «Остров Сахалин».
Книга создавалась несколько лет. Сначала появилась в журнале «Русская мысль» (1893–1894), потом, с добавлением четырех глав, вышла отдельным изданием (1895). По словам Чехова, он привез с Сахалина «целый сундук всякой каторжной всячины». Около десяти тысяч статистических карточек, заполненных в результате переписи населения. Записи, составлявшие «сахалинский дневник» и сохранившиеся только в отрывках. Выписки из документов. Свои и чужие бумаги и т. д. Этим «сырым материалом» Чехов очень дорожил.
Наверно, на процесс писания книги влияли внешние обстоятельства. Но имели ли они решающее значение? Чехов говорил, что начинает писать тогда, когда его память уже «процедила сюжет» и на ней, как на «фильтре», осталось только то, что важно или типично. Через пять лет после сахалинской поездки он признался: «Когда я теперь закрываю глаза, то вспоминаю всё до мельчайших подробностей, даже выражение глаз у нашего пароходного ресторатора, отставного жандарма».
Значит, настроение, навеянное Николаевском, сохранила память, и оно было не случайно. Чехов усилил чувство тоски упоминанием, что Амур «нахмурился и заволновался, как море», что «неистово воют гиляцкие собаки». Он поймал себя на вопросе, сходном с тем, что пришел ему на ум на берегу Иртыша: «И зачем я сюда поехал? – спрашиваю я себя, и мое путешествие представляется мне крайне легкомысленным. И мысль, что каторга уже близка, что через несколько дней я высажусь на сахалинскую почву, не имея с собой ни одного рекомендательного письма, что меня могут попросить уехать обратно, – эта мысль неприятно волнует меня».
До Сахалина Чехов плыл на пароходе «Байкал», который вез три сотни солдат и несколько арестантов в кандалах. В день отплытия на берегу горел лес в полной тишине знойного дня. Сахалин тоже встретил пожаром: «Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою. <…> похоже, как будто горит весь Сахалин. <…> И всё в дыму, как в аду». Так остров встретил новоприбывших. Чехов запомнил слова командира парохода, что осенью, в пургу, здесь еще страшнее. Но утром картина изменилась: «Солнце стояло уже высоко. То, что было вчера мрачно и темно и так пугало воображение, теперь утопало в блеске раннего утра…»
Повествование о Сахалине кажется собранием писем, которые Чехов словно писал домой, прямо по свежим впечатлениям. И в то же время – необыкновенным сплавом документов: дневника, воспоминаний, сведений, почерпнутых в книгах, статьях, мемуарах. Всё зримо, всё явлено – то крупно, то панорамно, то в диалогах, то в авторском пересказе, то в развернутой характеристике, то в деталях.
В портрете начальника острова В. О. Кононовича, который принял Чехова на следующий день, среди похвал его любезности, образованности, практическим знаниям мелькнула деталь: «он красиво говорит и красиво пишет и производит впечатление человека искреннего, проникнутого гуманными стремлениями». «Красиво» – словно предупреждение самому себе и читателю, что слово всего лишь слово, но есть дело. Произведет ли оно такое же впечатление гуманности и искренности?
Кононович выдал Чехову 30 июля 1890 года удостоверение, разрешавшее «собирание разных статистических сведений и материалов для литературной работы об устройстве на острове Сахалине каторги и поселений». Документ позволял посещать тюрьмы и поселения, делать извлечения из официальных документов. Начальникам округов предлагалось оказать Чехову в этом «законное содействие», то есть в рамках инструкций, правил и руководств.
Однако тогда же, чего Чехов не знал, генерал послал начальникам Александровского и Тымовского округов секретное предписание: пусть господин литератор собирает материал, как то ему разрешено, но следует «иметь неослабное наблюдение за тем, чтобы он не имел никаких сношений с ссыльнокаторжными, сосланными за государственные преступления, и административно-ссыльными, состоящими под надзором полиции».
То и другое было, вероятно, следствием состоявшихся ранее встреч и бесед Чехова с приамурским генерал-губернатором бароном А. Н. Корфом. В конце июля тот приезжал на остров с ревизией. Конечно, Кононович доложил ему о приезде Чехова, и барон пожелал увидеть путешественника. В присутствии начальника острова Корф сказал, что все «двери будут открыты» перед Чеховым. Запрет лишь на общение с «политическими».
Генерал-губернатор посещал Сахалин не впервые и находил, что каторга идет вперед по «пути добра», что «несчастным» живется здесь «легче, чем где-либо в России и даже Европе».
Об этом он сказал на торжественном обеде, когда держал короткую речь перед администрацией острова. Во время второй аудиенции, данной Чехову, барон развил положения своей речи. Он был так добр, что продиктовал собеседнику небольшой трактат под названием «Описание жизни несчастных». Чехову особенно запомнился следующий пассаж: «Никто не лишен надежды сделаться полноправным; пожизненности наказания нет. <…> Каторжные работы не тягостны. <…> Цепей нет, часовых нет, бритых голов нет». Чехову показалось, что Корф «великодушный и благородный человек», но «жизнь несчастных» знакома ему «не так близко, как он думал».
Итак, высокое сахалинское начальство красиво говорило, благородно рассуждало, было с приезжим литератором любезно, даже ласково. Открыло «все двери», кроме одной. Чехову предстояло самому увидеть жизнь почти счастливых, по мнению администрации, «несчастных» обитателей острова.
Как это сделать? Объехать остров, осмотрев по пути каторгу (тюрьмы и поселения)? Чехов нашел необычное решение: сделать перепись населения. Одному, без помощников, которых ему «любезно» предлагали. В работе он пользовался опросными листами, куда заносились данные: место жительства, звание, фамилия, имя, отчество, возраст, вероисповедание, место рождения, срок пребывания на Сахалине, занятие и ремесло, владение грамотой, образование, семейное состояние и т. д. Помимо этого, Чехов просматривал во всех округах отчеты полицейских управлений, канцелярские ведомости, таблицы, приказы, церковные метрические книги, больничные книги, рапорты врачей, надзирателей, смотрителей, отчеты инспекторов, акты, метеорологические таблицы. Он сам для себя составил специальные таблицы.
Население острова состояло из каторжных, поселенцев, крестьян из ссыльных, людей свободного состояния. Каторжные делились на разряды: исправляющиеся, испытуемые, долгосрочные, бессрочные. На 1 января 1890 года на Сахалине числилось 5905 каторжных. Срок – от нескольких лет до двадцати и пятидесяти (для рецидивистов). Они жили кто в тюрьме, кто в избах, вне тюрьмы.
Осмотр острова Чехов начал с Северного Сахалина, Александровского и Тымовского округов, равных по площади небольшому русскому уезду. Вскоре после приезда он посетил Александровскую ссыльно-каторжную тюрьму. Перед ним не надо было открывать двери. Они и так оказались настежь. В камерах, более похожих на сарай, только нары и полки: «Спят на жестком или подстилают под себя старые драные мешки, свою одежду и всякое гнилье <…> под нарами сундучки, грязные мешки, узлы, инструменты и разная ветошь». Всюду, во всех камерах, «ужасная нищета», «та же сарайная жизнь, в полном смысле нигилистическая, отрицающая собственность, одиночество, удобства, покойный сон».
Чехова сопровождал начальник округа. Вошедшие молча смотрели на арестантов, а те, вытянув руки по швам, – на посетителей: «похоже на то, как будто мы пришли покупать их». Не раз и не два Чехов слышал от тюремных надзирателей по поводу казарменного воздуха, что от него «душу воротит». Каторжные дышали им годами, «вонючим, промозглым, кислым».
Арестанты в этой тюрьме не носили кандалов, ходили без конвоя. В отличие от тех, кто содержался в «кандальной». В этом, по словам Чехова, «страшном месте» сидели те, кто пытался бежать и был пойман, те, кто находился под следствием за нарушения, совершенные уже на каторге. Особенно запомнились ему недавно возвращенные с бегов: «Оборванные, немытые, в кандалах, в безобразной обуви, перепутанной тряпками и веревками; одна половина головы разлохмачена, другая, бритая, уже начинает зарастать. <…> Постелей нет, спят на голых нарах».
В одной из камер сидела Софья Блювштейн, известная Сонька-Золотая Ручка. Чехов смотрел на невысокую, седеющую женщину в ручных кандалах: «Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она всё время нюхает воздух, как мышь в мышеловке, и выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею».
Описание общих камер Александровской тюрьмы, где содержалось около тысячи человек, повествование о нравах этого «общежития» начиналось с той реалии повседневной жизни, которая, по замечанию Чехова, «у громадного большинства русских людей находится в полном презрении» – с отхожего места. А закончилось выводом, что «стадная сарайная жизнь» с ее неизбежной физической и нравственной нечистотой действует на человека «самым растлевающим образом».
Дуйская тюрьма показалась ему много грязнее, беднее Александровской, а порядки еще хуже: «Если летом, при открытых окнах и дверях, пахнет помоями и отхожим местом, то, воображаю, какой ад бывает здесь зимою, когда внутри тюрьмы по утрам находят иней и сосульки». Тут были те же общие камеры. Они обрекали людей становиться, как писал Чехов, «не общиной, не артелью, налагающей на своих членов обязанности, а шайкой, освобождающей их от всяких обязанностей по отношению к месту, соседу и предмету. <…> Если в камере вонь или нет никому житья от воровства, или поют грязные песни, то виноваты в этом все, то есть никто».
Но еще страшнее выглядели «казармы для семейных». Администрация селила в таких же, как тюремные камеры, с такими же нарами и парашами, каторжных с их законными женами и детьми, и тут же каторжных с сожительницами и любовницами: «По этим варварским помещениям и их обстановке, где девушки 15 и 16 лет вынуждены спать рядом с каторжниками, читатель может судить, каким неуваженьем и презрением окружены здесь женщины и дети, добровольно последовавшие на каторгу за своими мужьями и отцами» <…> В одной из таких семейных камер пол оказался черным от грязи, чавкал поросенок, а вонь от клопов перебивала все запахи. Кожа младенцев походила от укусов клопов на красный сафьян. Несколько семейств спали на одних общих нарах.
Воеводская тюрьма, одно из старых сахалинских узилищ, превзошла все остальные по безобразности. Здесь содержались тяжкие преступники в ручных и ножных кандалах, прикованные к тачкам: «Ночью, во время сна арестант держит тачку под нарой». Эта тюрьма показалась Чехову страшной: «Около тюрьмы ходят часовые; кроме них, кругом не видно ни одного живого существа, и кажется, что они стерегут в пустыне какое-то необыкновенное сокровище».
Тюрьма в Рыковском была из новых и на хорошем счету по гигиене. По крайней мере, в кухне и пекарне оказалось чисто. Еда отличалась от арестантской пищи в других местах заключения, где обыкновенно хлеб был с глиной, а от щей шел вонючий запах. Но жизнь в общих камерах, особенно жизнь скрытая, и здесь складывалась как везде: картежная игра, неизбежное ростовщичество, самосуд, ябедничество, наушничество.
Каторжные жили не только в тюрьмах. Тем, кто числился по разряду исправляющихся, разрешали жить вне тюрьмы и даже иметь хозяйство. Так жили и другие разряды каторжан: испытуемые, долгосрочные и бессрочные. Как правило, это были семейные люди, за кем последовали жена и дети. Вне тюрьмы жили мастеровые (сапожники, столяры). Таковых набиралась четвертая часть всех каторжных.
Знакомство с бытом каторги привело Чехова к предположению, что разреши начальство каторжнику сразу по прибытии строить избу, колония бы выиграла. В настоящем виде, каким его застал Чехов, тюремный быт удручал, и зрелище это ложилось тяжестью надушу. Однажды арестанты, приняв незнакомого человека за чиновника, стали жаловаться на выдаваемый им хлеб. Он на самом деле был ужасен: «прилипал к пальцам и имел вид грязной, осклизлой массы, которую неприятно было держать в руках». Чехов не однажды наблюдал «обед» каторжных. Получив порцию супа, они либо садились тут же у барака на землю, либо шли к нарам, кто-то ел на ходу.
Возможно, в повествовании о Сахалине Чехов впервые обнаружил отчетливо свой этический и художественный прием. Он обозначал нечто, по сравнению с чем, или, как он говорил в таких случаях, « в виду» чего – жизнь, человек, случай, поступок обнаруживали, что они есть на самом деле. Часто это – природа (море, горы, широкое небо). Они вызывали у некоторых героев какое-то особое чувство; В таком чувстве Чехов признался сам, когда описал сахалинский маяк на мысе Жонкиер. Днем, снизу, он казался скромным белым домиком. Ночью, когда на нем горел фонарь, – «красным глазом» каторги. Наверху же, «на горе, в виду моря и красивых оврагов», где свободнее дышалось, «приходят мало-помалу мысли, ничего общего не имеющие ни с тюрьмой, ни с каторгой, ни с ссыльною колонией, и тут только сознаешь, как скучно и трудно живется внизу. <…> Широкое, сверкающее от солнца море глухо шумит внизу, далекий берег соблазнительно манит к себе, и становится грустно и тоскливо, как будто никогда уже не выберешься из этого Сахалина. Глядишь на тот берег, и кажется, что будь я каторжным, то бежал бы отсюда непременно, несмотря ни на что».
Чем занимались каторжные на острове? Добывали уголь, корчевали лес, осушали болота, строили, ловили рыбу, использовались на сельскохозяйственных работах. В начале каторги, а потом при освоении новых мест, они сами строили тюрьмы. Дороги, поселения, поля, огороды – всё далось трудом тысяч людей в дождь, мороз, холод. Каторжные работы – строительные и хозяйственные – барон Корф назвал в своем «Описании» «не тягостными». Чехов определил их иначе: тяжкие, нелегкие, напряженные, мучительные.
Бесплатный неограниченный труд каторжанина по обслуживанию местного чиновничества, услужение частным лицам, по мнению Чехова, даже не каторга, а крепостничество. И человек уже – «не ссыльнокаторжный, а раб, зависящий от воли барина и его семьи». Между тем в резолюциях только что прошедшего тюремного конгресса было записано, что «не следует допускать эксплуатации арестантов частными лицами», что пользование трудом не должно превращаться в господство «над личностью и жизнью арестанта». Порой бывало так, что один раб обслуживал другого, если, допустим, каторжная становилась любовницей чиновника или офицера и командовала прислугой из таких же, как она, каторжных. Более того, она помыкала прислугой из солдат или из людей свободного состояния. О таких случаях Чехов отозвался, как о чем-то подлом и «в высшей степени унизительном для человеческого достоинства».
Каторжные сопровождали исследователей, отправлявшихся в тайгу. Их использовали как вьючных животных. Да и на других работах они порой заменяли лошадей. Эту картину Чехов постоянно видел на Сахалине: «Летом люди, запряженные в бревно в пол-аршина и толще, а в длину в несколько сажен, производят тяжелое впечатление; выражение их лиц страдальческое, особенно если они, как это я часто наблюдал, уроженцы Кавказа. Зимою же, говорят, они отмораживают себе руки и ноги и часто даже замерзают, не дотащив бревна до поста».
Судьбу женщин-каторжанок Чехов выделил особо в своем труде о Сахалине. Их в то время на острове было свыше шестисот. Администрация «фильтровала» каждую партию вновь прибывших. Женщины-преступницы попадали в прислуги к чиновничеству, хотя это запрещалось. Их поставляли в местные гаремы писарей и надзирателей. Отдавали в жены (в «бабы») и в работницы поселенцам и даже каторжным, если те имели деньги. На языке администрации это называлось свободным сожительством, «свободной семьей».
На каторге, по наблюдениям Чехова, выработался особенный взгляд на каторжную женщину: «не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного». От скуки, от бессмыслицы положения или ради денег женщины занимались проституцией. Каторжных работ они не исполняли. Иногда их использовали для мытья полов в канцеляриях, посылали на огородные работы, они шили мешки и т. п. Но телесное наказание грозило каторжанкам так же, как и мужчинам.
* * *
В один из дней Чехов увидел наказание плетьми. Потом несколько ночей ему снились палач и скамья, к которой привязали человека. Не выдержав зрелища, он вышел из помещения, где продолжалась экзекуция: «Кругом на улице тихо, и раздирающие звуки из надзирательской, мне кажется, проносятся по всему Дуэ. Вот прошел мимо каторжный в вольном платье, мельком взглянул на надзирательскую, и на лице его и даже в походке выразился ужас».
Чехов знал из литературы о сахалинских наказаниях, хотя Кононович уверял его в беседе, что подобное бывает редко, «почти никогда». Чехов заметил по поводу этого генеральского мнения: «К сожалению, за недосугом, он очень редко бывает в тюрьмах и не знает, как часто у него на острове, даже в 200–300 шагах от его квартиры, секут людей розгами и о числе наказанных судит только по ведомостям».
Отвратительнее всех в момент наказания Чехову был не смотритель, равнодушно глядевший в окно, не палач, а военный фельдшер. Он умолил впустить его в канцелярию и по окончании радостно признавался: «Люблю смотреть, как их наказывают! <…> Люблю! Это такие негодяи, мерзавцы… вешать их!» «Удовольствие в дранье», по наблюдениям Чехова, находили даже люди с университетским образованием. По его словам, «от телесных наказаний грубеют и ожесточаются не одни только арестанты, но и те, которые наказывают и присутствуют при наказании».
Навряд ли новые впечатления и встречи вытеснили скоро из памяти Чехова облик убийцы после наказания: «Место, по которому били, сине-багрово от кровоподтеков и кровоточит. Зубы стучат, лицо желтое, мокрое, глаза блуждают. Когда ему дают капель, он судорожно кусает стакан… <…> – Это за убийство, а за побег еще будет особо, – поясняют мне, когда мы возвращаемся домой».
Арестантов и поселенцев секли розгами за любую провинность: «неисполнение дневного урока (например, если сапожник не сшил положенных трех пар котов, то его секут), пьянство, грубость, непослушание… Если не исполнили урока 20–30 рабочих, то секут всех 20–30». Один из чиновников хвастался Чехову, как он отвадил арестантов подавать прошения. Он приказал сечь их, если таковые покажутся вздорными, малозначительными. Почти все прошения он находил «чепухой», каторжника секли: «Теперь уже просьб не подают. Я отучил их».
О казнях Чехов слышал от священника, которому приходилось напутствовать приговоренных к повешению. И от чиновников, присутствовавших при казни по обязанности: «Всю ночь накануне казни чиновники и офицеры не спали, ходили друг к другу; пили чай. Было общее томление, и никто не находил себе места. <…> Было раннее октябрьское утро, серое, холодное, темное. У приговоренных от ужаса лица желтые и шевелятся волосы на голове. Чиновник читает приговор, дрожит от волнения и заикается оттого, что плохо видит. Священник в черной ризе дает всем девяти поцеловать крест и шепчет, обращаясь к начальнику округа:
– Ради Бога, отпустите, не могу…»
Всё это пересказано так, что кажется, будто Чехов видел казнь своими глазами. Наверно, уже открывшееся на Сахалине, уже пережитое им превращало чужой рассказ в зримое, незабываемое.
Барону Корфу казалось, что «несчастным» живется на Сахалине легче, чем в России и даже Европе. Может быть, имея в виду и это убеждение генерал-губернатора, Чехов много раз подчеркивал, что жизнь каторжного на острове нестерпима: «Однажды во время выгрузки парохода я слышал, как смотритель тюрьмы сказал: „У меня люди целый день не ели“». Некоторые работы, например дровотасков, показались Чехову невыносимыми. В августе 1890 года он был в каменноугольных копях, где работали каторжные. Его провели мрачными коридорами, в которых сотни каторжных с пяти часов утра, согнувшись, а то и ползком, выполняли норму, ежедневный «урок» – свыше 10 пудов угля, который вывозили на пудовых санях по узким коридорам. Каторжанин, имевший деньги, добытые, например, путем картежной игры в камере или ростовщичеством, подкупал надзирателя и нанимал вместо себя другого каторжанина или поселенца. Годами человек, работавший в дуйских копях, знал лишь рудник и тюрьму, дорогу туда и обратно. За провинности секли розгами (прав не прав, было не было); наказывали жестоко. Произвол, в большом и малом, обман озлобляли людей до крайности.
Каторжные и поселенцы добывали уголь под землей, лишь на ночь возвращаясь в тюрьмы или, как поселенцы, тоже работавшие на руднике, в сарай. «Люди опыта», участники минувшего тюремного конгресса, записали в своих рекомендациях, что «трудом арестантов следует, по возможности, пользоваться, не причиняя только ущерба задачам тюремного дела, условиям пребывания заключенных в тюрьме и режиму дисциплины тюремной». Доход от их работы должен поступать в казну, а не частным лицам или предприятиям. Но, видимо, на Сахалине, в копях, рекомендуемой «возможности» не оказалось.
В один из августовских дней Чехов зашел вместе с местным врачом в такой сарай рано утром: «Какая вонь, темнота, давка!
Головы разлохмаченные, точно всю ночь у этих людей происходила драка, лица желто-серые и, спросонья, выражения как у больных или сумасшедших. Видно, что они спали в одежде и в сапогах, тесно прижавшись друг к другу, кто на наре, а кто и под нарой, прямо на грязном земляном полу». Кто были эти люди, сидевшие в камерах, работавшие в копях, жившие на поселении? Бывшие дворяне, офицеры, священники, мещане, купцы, крестьяне, беглые солдаты. Выслушав сотни, тысячи людей, Чехов уловил ординарность совершенных ими преступлений: убийство, поджог, растление малолетних, детоубийство, подделка денег, изнасилование.
Чем поселенец отличался на Сахалине от каторжного? В своей несвободе, быте, труде? Отбыв срок, бывший каторжный или каторжанка в массе своей получали участок земли. Они могли обзавестись домом, хозяйством. Жить с семьей, если жена и дети (или муж и дети) приехали с ними. Или образовать «свободную пару», то есть найти сожителя или сожительницу. По сахалинским понятиям это уже не считалось низким, предосудительным. Те, у кого были деньги, оставались в главном селении округа, покупали или строили дом здесь, где была «цивилизация», хотя бы в виде почты.
В первые два-три года по отбытии каторги поселенцы получали от казны пособие (кормовое, или вещевое, или денежное). Им выдавали в долг семена, скот. В беднейших семьях дети получали кормовое пособие до 15 лет, поэтому родители убавляли им возраст. Чехов сперва удивлялся: «Иная уже невеста или давно уже занимается проституцией, а всё еще 13–14 лет». Если ссыльный поступал на должность (писарь, учитель), он получал жалованье. Если поселенец уличался в нерадении, лени, его могли вернуть на год в тюрьму, либо лишали казенного довольствия.
День за днем Чехов обходил избы поселенцев. Иногда его сопровождал кто-нибудь: то надзиратель, то каторжный, то врач, то кто-то из администрации. Скоро он заметил особенность этого сахалинского жилья. Двора нет, около дома ни сада, ни палисадника, ни деревца. Внутри одна-единственная комната похожа на камеру. В красном углу нет старых образов, в семье нет деда и бабки. Всё будто случайно, временно: «Нет кошки, по зимним вечерам не бывает слышно сверчка… а главное, нет родины».
От тоски, скуки, лени или еще по какой причине, но многие поселенцы жили убого, скудно, праздно и бессмысленно. Освоение нового тяжелого участка, как показалось Чехову, не менее тяжкое наказание, чем каторга. Поселенцы перетаскивали через тайгу всё необходимое для стройки, сами валили лес, корчевали, строили избы, клали печи. Иногда они, обессиленные, бросали недостроенное жилье и уходили. Эти брошенные дома Чехов видел на всем острове.
Поселенец мог бы купить стекло, железо на те деньги, что заработал, отбывая каторгу (ему полагалась десятая часть оплаты). Но заработанные деньги не выдавали не только на руднике, но всюду. А полагающаяся ссуда шла к поселенцу через такие бюрократические препоны, что удивлялись даже начальники каторги. Но были такие, кому не помогла бы и ссуда. Они вообще не хотели работать на земле. Пробавлялись игрой в карты, убогим прозябанием. Чехову запомнилась беспутная Лукерья Непомнящая, с «нехорошими, мутными» глазами, и бобыль в нетопленом доме. Чаще всего так коптили небо люди, отбывавшие каторжный срок в прислугах (бесплатные дворники, кухарки, горничные, швеи, сапожники, лакеи, няньки, прачки, повара, поломойки). Чехов уподобил их русскому дворовому человеку, «умеющему Чистить сапоги и жарить котлеты, но неспособного к земледельческому труду, а потому и голодного, брошенного на произвол судьбы». Такие – безразличные, уставшие от жизни, неведомо зачем живущие – встречали Чехова с недоумением, но на вопросы отвечали.
Жил ли кто-то из поселенцев со смыслом, с каким-то интересом? В слободке Александрова Чехов увидел дома, покрытые тесом, разбитые огороды. Искал объяснение этому благополучию и нашел. Слободка промышляла торговлей спиртом и барахлом, старыми арестантскими вещами. «Разрешение» давали подкупленные чиновники. Самые ловкие сколачивали на этом запретном занятии немалый капитал.
Кое-кто из поселенцев занимался земледельческим трудом, осваивал свой участок. Особенно если доставалось не гиблое, а подходящее место. Но подселение на этот участок еще одного хозяина обрекало обоих на постепенное обнищание. Обреченными оказывались и те, кого сажали на землю, не пригодную к земледелию и к разведению скота, где порой не было воды для питья. Эти люди жили одним: отбыть срок и скорей-скорей уехать.
Каждое новое поселение по-своему доказывало: тюрьма и колония несовместимы. По наблюдениям Чехова, общая камера убивала в каторжном оседлого человека, семьянина. Она лишала его здоровья. После десяти лет каторги (средняя продолжительность), тем более после работы в руднике, колония получала больного, ничего не желающего человека.
В селении Красный Яр, новом, еще не освоенном, Чехов ходил из избы в избу по кочкам, разрытой глине, через канавы. Некоторые избы стояли недостроенные, пустые, так как поселенцы уже ушли. Неизвестно куда. Может быть, сбежали или перебрались в другое поселение? В одной из изб Чехов увидел кавказцев, которые почему-то вызывали в нем, где бы он ни увидел их на Сахалине, острое чувство жалости. Холод, сырость, чужой язык, бесконечные унижения действовали на них, по его наблюдениям, сильнее, чем на русского мужика, знакомого с морозами, с нравами деревенской жизни. Чехов подметил, что кавказцы всегда сбивались в группу, словно стая птиц.
В таких беспризорных селениях даже надзиратели думали, как бы поскорее выбраться в другое место, а лучше всего на материк. Эти селения с брошенными избами, эти места, откуда не вела никуда ни одна дорога, казались сахалинским мороком, призраками «фантастического края».
* * *
С каждым днем Чехов убеждался, как он говорил, что многое в прочитанных им книгах и отчетах, статьях и брошюрах не имело ничего общего с реальностью. Один из авторов утверждал, например, что в селениях по реке Аркай почва хороша для земледелия. Рассказ об увиденном Чехов начал словами: «На самом же деле это не так».
Он обходил избы и слышал об одном – о страхе умереть с голоду: «В одной избе без мебели, с темною унылою печью, занимавшею полкомнаты, около бабы-хозяйки плакали дети и пищали цыплята; она на улицу – дети и цыплята за ней. Она, глядя на них, смеется и плачет, и извиняется передо мной за плач и писк; говорит, что это с голоду, что она ждет не дождется, когда вернется муж, который ушел в город продавать голубику, чтобы купить хлеба». Поселенцы рады были бы трудиться и трудились в этом суровом и печальном месте. Но во время дождей река разливалась и уносила огород вместе с посевами или готовым урожаем, смывала заготовленное сено. Люди получали от казны скот, семена, но скот они резали, чтобы не умереть с голоду, а семена съедали еще до посевной по той же причине. Арковцы жили в ужасной нужде и неоплатных долгах казне.
Впервые Чехов выехал в Арково 31 июля по берегу моря, во время отлива (другой дороги не было). Он запомнил свое впечатление, свое настроение: «Пахло дождем. Пасмурное небо, море, на котором не видать ни одного паруса, и крутой глинистый берег были суровы; глухо и печально шумели волны. С высокого берега смотрели вниз чахлые, больные деревья; здесь на открытом месте каждое из них в одиночку ведет жестокую борьбу с морозами и холодными ветрами, и каждому приходится осенью и зимой, в длинные страшные ночи, качаться неугомонно из стороны в сторону, гнуться до земли, жалобно скрипеть, – и никто не слышит этих жалоб».
Каждая семья в Аркове выживала в одиночку. Чехов описал эту долину с ее великанами-лопухами, с растениями, похожими на канделябры, пятнышками пунцового мака, а между этой буйной растительностью – «клочок с ячменем <…> клочок земли с овсом, потом грядка с картофелем, два недоросля подсолнуха с поникшими головами, затем клинышком входит густо-зеленый конопляник».
Дикие растения, горы, суровая природа. А плоды подневольного обреченного труда – «клочок», «грядка», «клинышек». Всё мизерное, жалкое, оторванное друг от друга. Было ли на Сахалине нормальное земледелие, которое, как думалось столичным начальникам, удержит поселенцев на острове? Через 10 лет (иногда этот срок растягивался до 20 лет) поселенец получал звание крестьянина из ссыльных. Вот такие и должны были, по убеждению теоретиков колонизации, стать основным и постоянным населением Сахалина.
Однако Чехов увидел в Александровском округе лишь одно селение, обнадеживающее на этот счет. Корсаковское походило на русскую деревушку. Здесь велось успешное хлебопашество. Жителей Чехов назвал не ссыльными, не каторжными, не поселенцами, а мужиками и бабами. Он подметил приметы оседлой жизни, устойчивого быта и довольства: сытые собаки, большое стадо, палисадники у дома, цветы на окнах, огороды, бани, школа, часовня.








