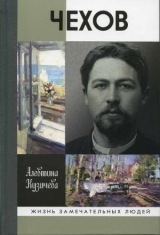
Текст книги "Чехов. Жизнь «отдельного человека»"
Автор книги: Алевтина Кузичева
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 32 (всего у книги 71 страниц)
Итак, теперь противопоставлялись не «медицина» и «литература», как главное занятие, как образ жизни. Тут выбор был уже сделан («Я – литератор»). Но два желания: жить и работать.
Два года назад Чехов говорил, что «лень жить», «жить как будто бы надоело». Зимой 1894 года написал Суворину: «Кажется, я психически здоров. Правда, нет особенного желания жить, но это пока не болезнь в настоящем смысле, а нечто, вероятно, переходное и житейски естественное». Видимо, это «переходное» состояние разрешилось, и хотя он поминал «дохлую смерть», но словно отодвинул мысли о ней. Говорил, что ему «хочется жить», что его тянет куда-то «какая-то сила», и «захотелось куда-нибудь подальше, туда, где горизонт видно». Даже заговорил о новом пальто, о поездке за границу: «А хорошо бы где-нибудь в Швейцарии или Тироле нанять комнатку и прожить на одном месте месяца два, наслаждаясь природой, одиночеством и праздностью, которую я очень люблю». Может быть, он думал о Лике, звавшей его в Швейцарию?
В его письмах зазвучали другие ноты: «У нас сенокос, коварный сенокос. Запах свежего сена пьянит и дурманит, так что достаточно часа два посидеть на копне, чтобы вообразить себя в объятиях голой женщины».
Чехов подчеркивал, что хочется ему житейской радости, «болтовни о пустяках», морских купаний, степного воздуха. Будто на прощанье, как перед длительным постом. Недаром упомянул заговены, последний день Масленицы: «А я стал мечтать о том, чтобы опять проехаться по степи и пожить там под открытым небом хотя одни сутки. Как-то лет 10 назад я занимался спиритизмом и вызванный мною Тургенев ответил мне: „Жизнь твоя близится к закату“. И в самом деле мне теперь так сильно хочется всякой всячины, как будто наступили заговены. Так бы, кажется, всё съел: и степь, и заграницу, и хороший роман… И какая-то сила, точно предчувствие, торопит, чтобы я спешил». Но почувствовав, что приоткрыл нечто сокровенное, тут же оговорился: «А может быть, и не предчувствие, а просто жаль, что жизнь течет так однообразно и вяло. Протест души, так сказать».
Так бывало не раз. Чехов в чем-то признавался, но потом смягчал свои слова. Словно не перекладывал ношу на другого, оставался наедине со своими чувствами, с тем, что трудно, невозможно объяснить. Несколько раз промелькнувшие слова «какая-то сила» и дотоле не упоминавшееся воспоминание набрасывали насмешливый покров на упоминание смерти, но называемые им сроки обретали особый смысл («10 лет…», «5 лет…»).
Итак, едва кончился «плен» книги «Остров Сахалин», Чехов уехал. Но не в Швейцарию, не в Испанию, а с Потапенко в Ярославль, чтобы потом добраться на пароходе до Царицына, оттуда в Калач, а затем по Дону в Таганрог. В родной город его звал дядя, заболевший и, вероятно, хотевший проститься.
Эту поездку Чехов сам назвал «странной». В Нижнем Новгороде приятели встретили… Сергеенко, этого «друга Льва Толстого». Бежали на вокзал и укатили на поезде в Москву. В Москве только пообедали, потом, по словам Чехова, «подумали, поговорили, сосчитали свои деньги» и поехали в Сумы, к Линтваревым. Здесь они пробыли шесть дней. Отсюда Чехов написал Гольцеву: «Потапенко, солнце и луна потонули в блаженстве…» С ними в Москву уехала Наталья Линтварева. Чехов уговорил ее, но в Мелихове она пробыла только десять дней. Мария Павловна рассказывала в письме брату Михаилу: «Потапенко и Антоша привезли Наташу. Она <…> уехала с Антоном, до Харькова они ехали вместе. Меня поразила Ант[ошина] нежность к Наташе. Она похорошела и любит Ант[она], кажется, еще сильнее».
Сестра не ошибалась. Пожалуй, в это время Чехов и не скрывал своего теплого чувства к Наталье Михайловне. Его письма к ней осенью 1894 года дружеские, с шутками. Но была в них одна насмешливая деталь, словно предупреждавшая, что это всего лишь сердечное расположение. Чехов написал ей: «Я часто думаю: не собраться ли нам большой компанией и не поехать ли за границу? Это было бы и дешево, и весело. Я, Потапенко, Маша, Вы и т. д., и т. д. Как Вы думаете? Вот пригласите-ка дьякона из города и посоветуйтесь с ним. Если дьякон одобрит, то и поедемте все в будущем году осенью». Добропорядочной, трудолюбивой, неглупой Наталье Михайловне мешала оглядка на родных, знакомых. Любое решение, даже не самых важных жизненных вопросов, давалось ей трудно. Душевно глубокий и верный человек, она отступала, опасаясь, вдруг на нее упадет тень неодобрительного мнения, вдруг придется радикально менять свою жизнь.
В Таганроге Чехов пробыл шесть дней. Митрофан Егорович угасал, говорил, что не страшится «перехода в будущую жизнь». Желал всем быть хранимыми Богом, у всех просил прошения. И горевал о том, что не Павел Егорович будет читать отходную молитву, не любимый старший брат произнесет слова канона: «Видя близкий конец своей жизни, вспоминая непотребные мысли, поступки души моей, люто уязвляюсь стрелами совести. Но Ты, Всечистая, милостиво склонившись к душе моей, будь мне ходатаицей пред Господом». Павел Егорович, которому не было еще и семидесяти, крепкий, иногда покидавший Мелихово, отчего-то в Таганрог не поехал. Может быть, зарекся в день своего бегства никогда не возвращаться туда. Он не хоронил родителей, не поехал в Сумы, узнав о кончине Николая. Выполняя данное дяде слово, Чехов в последующие годы заботился о его вдове и своих таганрогских двоюродных братьях и сестрах. После Таганрога он направился в Феодосию. Здесь получил известие о кончине Митрофана Егоровича.
На даче Суворина он пробыл всего несколько дней и вместе с Алексеем Сергеевичем уплыл на пароходе в Ялту. Эти перемещения выдавали какое-то беспокойство, как и бегство из Нижнего Новгорода, неожиданная поездка в Сумы.
Всё не залаживалось еще с весны. Чехов строил планы, но они менялись. Всё время возникали неожиданные, а порой и нелепые обстоятельства. Как, например, с очередным счетом из книжного магазина «Нового времени». Он оказался еще убийственнее, чем в 1893 году. Получался абсурд. Несмотря на продажу книг, долг Чехова «конторе» в 8170 рублей (на февраль 1892 года) уменьшился только на 600 рублей. И Чехов, за два года не взявший ни копейки, оставался должен 7567 рублей. При нравах в суворинском ведомстве цифра могла стать и астрономической. Удивительна не очевидная ошибка, но отношение к ней Чехова. Оно, правда, вписывалось в его настроение в это время.
Чехов попросил Суворина не смущать бухгалтера недоверием, так как он человек новый. Вскоре пришел другой счет. Долг не превышал тысячи рублей, и Чехов возликовал: «Я богач. <…> не дернуть ли мне подобру-поздорову за границу?» Он несколько раз называл желанную цель – озеро Комо в Италии. Однако поездка оказалась под угрозой. Для получения заграничного паспорта необходимо было представить в канцелярию одесского градоначальника кроме паспорта еще удостоверение о благонадежности. Его обыкновенно выдавал исправник по месту жительства. Чехов телеграфировал в Серпухов. Но вмешался Суворин. Он написал градоначальнику Одессы. Ночью, не дожидаясь ответа из Серпухова, чиновники открыли канцелярию и выдали Чехову паспорт.
В общем, всё шло не так, как задумывалось. И за границу Чехов уехал, по его словам, «тайно, как вор», опасаясь, что дома останутся этим недовольны. Как раз в эти дни Мария Павловна жаловалась Михаилу: «На все дела – я одна! Измучилась страшно, не сплю ночи, глаза горят, и сил положительно нет. <…> Я переутомилась совсем. Боюсь, еще и Антон доволен не будет. Никогда мне еще так не хотелось уехать и бросить, чтобы не возвращаться больше».
Конечно, хозяйку мелиховского дома раздражал ремонт. В первые дни сентября печники клали печь в столовой, плотники перестилали полы, делали колодец, маляры красили окна и двери, на новом флигеле крыли кровлю. Но всё это делалось в основном под приглядом Романа. Мария Павловна, как всегда с началом учебного года, приезжала в пятницу и уезжала в понедельник. Так что она привычно преувеличила свои тяготы и свою усталость. Это было свойственно и Евгении Яковлевне. Как-то Чехов пошутил, что женщины вообще любят подчеркивать, как много они трудятся и как мало домашние признают их заслуги. Хлопоты сестры Чехов всегда ценил, воздавал ей в похвалах, отовсюду привозил подарки: модные зонтики, перчатки, дорогие духи и т. п.
Может быть, если бы Мария Павловна ушла из гимназии, где получала маленькое жалованье, и занялась издательскими делами брата, то не случались бы бесконечные казусы со счетами, с гонорарами Чехова. Но она не хотела.
Вести семейный бюджет, распоряжаться деньгами, которые Чехов, по-прежнему единственный добытчик, давал ей на мелиховское хозяйство, на московскую квартиру, которую она снимала в эти годы, на ее личные расходы – это одно. Совсем другое – вникать в цифры, сноситься с суворинской «конторой» и с прочими издателями, редакторами. Мария Павловна давно вошла в роль независимого человека и установила некоторую дистанцию в семье, между собой и всеми остальными.
Самолюбивая, мнительная, она не терпела даже шутки в свой адрес, тем более иронии или критики. Поэтому, может быть, она давно отдалилась душевно от насмешливого Александра. Отношения с братом Иваном тоже не стали близкими, сердечными. Проще всего сестре оказалось с Михаилом. Их сближали первые московские неуютные годы, а также природная черта младшего брата – он умел сочувствовать, поплакаться вместе с кем-то, посудачить о близких. Уже не разделяя бремя забот по Мелихову, охотно выслушивал жалобы сестры на свою долю и вздыхал, как и Евгения Яковлевна: «Бедная Маша!»
С братом Антоном, с «милым», «дорогим Антошей» у Марии Павловны сложились к этому времени непростые отношения. Ей, судя по разговорам с другими братьями, постоянно чего-то недоставало со стороны Чехова. Может быть, тешащей честолюбие признательности, еще большего заслуженного восхищения, как всё хорошо и ладно получается. Она рассказывала дома, что московские знакомые из артистического кружка находят у нее актерские способности, и шутила, что пойдет на сцену. Чехов двумя-тремя ироническими словами об армии дилетантов ставил ее на место. Правда, поощрял занятия сестры живописью, хотя предвидел, что серьезной художницы или профессиональных занятий из ее увлечения не получится.
И все-таки главная причина, видимо, в том, что душевная жизнь брата была для нее наглухо закрыта. Если простодушную Евгению Яковлевну это не интересовало – она все равно любила непонятного, душевно далекого от нее сына, – если Павел Егорович всегда был занят самим собой, то Мария Павловна, может быть, претендовала на более задушевные отношения, как и Михаил Павлович. Но их не было. Свидетельство тому – письма Чехова сестре, особенно в мелиховские годы. Всегда краткие, деловые, часто без обращения, похожие на записки. Ее письма к нему тоже часто без обращения, тоже заполненные хозяйственными мелочами, домашними событиями. Конечно, странно полагать, что брат и сестра, еженедельно встречаясь в Мелихове, писали бы друг другу пространные письма. Но из-за границы Чехов писал ей так же скупо, только с мягкой интонацией.
* * *
С каждым годом всё заметнее становилось, что Чехов в семье рядомс близкими, но не с ними.Порой родные не понимали причины его внезапных отъездов, менявшихся вдруг намерений, уединения. То он часами возился с розами в саду, то уходил в дальний лес, то уезжал на несколько дней в соседний монастырь. Домашние давно заметили, что его раздражал нарушенный кем-нибудь порядок на письменном столе, громкие разговоры в гостиной, когда он работал в кабинете, особенно если кто-то в это время сидел рядом и шелестел газетой.
Дом был мал, тесен. Когда наезжало много гостей, то не знали, как всех разместить, надеялись, что с этого лета выручит новый флигель. Чехов очень гордился своей «игрушкой», постройка вышла изящной. Гости в Мелихове не переводились. Дневник Павла Егоровича пестрел именами и фамилиями. Кто-то приезжал на день, кто-то жил неделями, а то и месяцами, как Иваненко. Порой работать не было никакой возможности.
Размышляя еще летом о загранице, Чехов написал Суворину: «Пьесу можно будет написать где-нибудь на берегу Комо или даже вовсе не написать, ибо это такое дело, которое не медведь и в лес не уйдет, а если и уйдет, то чёрт с ним». Однако работал в поездке – но не над пьесой, а над «повестью из московской жизни». Еще в 1891 году, во время первой заграничной поездки он внес в записную книжку имена, фразы, некоторые из которых вошли теперь в повесть «Три года».
Она начиналась описанием обстановки в доме, где прислуга обеспокоена приметами, сулящими чью-то скорую смерть. Лунный свет словно заливает всё повествование с начала до конца. Это история о человеке, очень богатом и очень несчастливом. О его молодой жене, которая однажды на выставке, перед пейзажем – речка, бревенчатый мостик, тропинка, поле, костер – вдруг почувствовала свое одиночество: «И захотелось ей идти, идти и идти по тропинке; и там, где была вечерняя заря, покоилось отражение чего-то неземного, вечного». Лишь один раз в повести блеснуло солнце, отразившееся в окнах вагона.
Эта повесть «отражений» неуловимо оказывалась связанной с повестями и рассказами Чехова последних лет. Словно продолжался разговор о счастье и несчастье, о свободе и неволе. Не вообще, а в обыденной, каждодневной жизни человека. Размышление героя в финале обещало продление жизни, продолжение радостей и скорбей: «И что придется пережить за это время? Что ожидает нас в будущем. <…> Поживем – увидим».
Второе заграничное путешествие Чехова тоже как-то не заладилось. Может быть, от частых переездов (Вена, Триест, Венеция, Милан, Генуя, Ницца, Париж) кашель у Чехова не унимался. Неустойчивая погода влияла на его самочувствие. Встреча с Мизиновой не состоялась. 20 сентября (2 октября) она послала Чехову письмо с горькими словами: «Я очень, очень несчастна! Не смейтесь! От прежней Лики не осталось следа, и, как я думаю, все-таки, не могу не сказать, что виной всему Вы! Впрочем, такова, видно, судьба! <…> Почему я пишу все это Вам, я не знаю! Знаю только, что кроме Вас никому не напишу! <…> Не знаю, посочувствуете ли Вымне! Так как Вы человек уравновешенный, спокойный и рассудительный! У Вас вся жизнь для других и как будто бы личной жизни Вы и не хотите! Напишите мне, голубчик, поскорее. <…> Вамя верю. <…>. Прощайте, если не увидимся, не думайте обо мне дурно, а пока напишите поскорее. Ваша Л. Мизинова».
Она теперь жила в Швейцарии, в деревне возле Монтрё, у простой крестьянки. Получив письмо Чехова из Вены, она обрадовалась, звала, но просила: «Предупреждаю, не удивляться ничему. <…> Да, какие-нибудь шесть месяцев перевернули всю жизнь, не оставили, как говорится, камня на камне! Впрочем, я не думаю, чтобы Выбросили в меня камнем! <…> И около нет ни души, которая могла бы что-либо посоветовать и беспристрастно отнестись». Но задевала, как и прежде: «Мне кажется, что Вы всегда были равнодушны к людям и к их недостаткам и слабостям! Если даже Вы не приедете (что очень возможно, при Вашей лени), то все, что я пишу, пусть останется между нами, дядя!»
Всё это было извинительно в ее состоянии. Его признание она как будто не услышала, а он написал ей в этом письме от 18 (30) сентября: «Я не совсем здоров. У меня почти непрерывный кашель. Очевидно, и здоровье я прозевал также, как Вас». Получался разговор двух несчастливых людей.
В Швейцарию Чехов не поехал. Он сослался на то, что неудобно «тащить» с собой Суворина. Однако Лика просила приехать без кого бы то ни было. Сестре Чехов написал, что в Швейцарию ехать ему не с руки и вообще надоело ездить. Потапенко он обозвал в этом письме «свиньей», а позже попросил Марию Павловну, если она придёт встречать его на вокзал, никого не брать с собой: «Кроме Гольцева и Саблина, мне никого не хотелось бы видеть».
Эта заграничная поездка закончилась раньше срока. Ни тени былых восторгов от Венеции, от Италии, хотя Чехов заметил, что «заграница удивительно бодрит». На него, конечно, влияла плохая погода. Замечания и наблюдения Чехова на этот раз – простое упоминание ломбардских пейзажей, кладбища в Генуе, французского пива, миланского крематория. 9 октября Смирнова записала в дневнике: «Письмо от Суворина из Ниццы. Они с Чеховым друг другу надоели, оба скитаются и оба молчат. Чехов все ищет заглавие для своего рассказа».
В конце концов Чехов нашел название – «Три года». Казалось, что это не просто продолжительность истории героев. Но и завершение трехлетия в жизни самого Чехова. Между двумя поездками за границу. Между богимовским летом 1891 года и мелиховским летом 1894 года. Между давним шутливым письмом Лике, где Чехов вместо подписи нарисовал сердце, пронзенное стрелой, и пожелал ей: «Будьте здоровы и щасливы и не забывайте нас». И письмом из Ниццы от 2 (14) октября 1894 года, которое кончалось словами: «О моем равнодушии к людям Вы могли бы не писать. Не скучайте, будьте бодры и берегите свое здоровье. Низко Вам кланяюсь и крепко, крепко жму руку. Ваш А. Чехов».
Ни месяц в Крыму весной, ни почти месяц в Италии не помогли справиться с кашлем. Чехов написал Гольцеву из Ниццы: «Я кашляю, кашляю и кашляю. Но самочувствие прекрасное». Однако заметил, что похудел. Кто-то, может быть, Суворин, обронил в Петербурге, мол, Чехов неизлечимо болен. «Тактичные» люди, вроде Ясинского, спрашивали в письмах, правда ли это. Билибин писал Лазареву, что московские врачи отпустили Чехову всего лишь один год.
Наверно, не по этой причине, но Чехов начал постепенно отправлять книги из своей домашней библиотеки в Таганрог, в городскую библиотеку. Он задумался об издании собрания сочинений. Вероятно, какой-то разговор на этот счет был у него с Сувориным. Тогда же он предложил Алексею Сергеевичу «комбинацию» с новым сборником. Он готов был уступить книжному магазину значительный процент, чтобы к 1 января 1895 года за ним не было долга и можно было контролировать дальнейшие расходы и доходы. История со счетами приобретала скандальный, даже неприличный характер.
2 ноября Чехов получил новый счет. По нему выходило, что он должен не 1004 рубля, как ему сообщили два месяца назад, а 4155 рублей. Чехов написал Суворину: «Такие частые перемены в настроении заставляют меня подозревать, что в шкафу у бухгалтера сидит хорошенькая и очень капризная дама».
С этим долгом Чехов хотел покончить как можно скорее. Так что решение «книжного вопроса», то есть полная ликвидация долга типографии и лично Суворину, а также неопределенные планы насчет собственного журнала сообразовывались не с завещательным настроением, а с чем-то иным. Это походило на подведение итогов перед чем-то новым. Чехов словно опять одолел скрытым душевным усилием ту самую опасную точку, которую предсказывал пять лет назад. Но желание жить по-своему и желание писать по-своему теперь стоили куда больших сил, а предчувствие торопило и торопило…
Некоторые современники говорили об аполитичности Чехова, о его общественном «индифферентизме», о других «из-мах», которые либо находили, либо не обнаруживали в его сочинениях (импрессионизм, символизм и т. д.). Действительно, политические события, как правило, не отражались в письмах Чехова. Он не исключал, что его корреспонденция перлюстрировалась. В мелиховские годы, как впоследствии утверждал Михаил Павлович, за Чеховым якобы осуществлялся негласный полицейский надзор. Дело, наверно, было не столько, а может быть, и вовсе не в осторожности и предусмотрительности Чехова, но в его равнодушии, в «индифферентизме» по отношению к публицистической шумихе, газетным и журнальным сражениям «партий», «кружков», «лагерей» всех оттенков (консервативных, либеральных, радикальных и т. д.).
Однажды в 1889 году Чехов написал с иронией в письме Суворину: «Конечно, политика интересная и захватывающая штука. Непреложных законов она не дает, почти всегда врет, но насчет шалтай-болтай и изощрения ума – она неисчерпаема и материала дает много». Иронична запись в книжке во время первого заграничного путешествия. Может быть, это отзвук разговоров с Сувориным: «Обыкновенные лицемеры <…> прикидываются голубями, а политические и литературные – орлами. Но не смущайтесь их орлиным видом. Это не орлы, а крысы или собаки».
Летом 1892 года в связи с «холерными бунтами», с прокламациями по поводу прошлогоднего голода, повлекшими аресты и ссылки, Чехов резко и определенно высказался в разговоре с Сувориным: «Если наши социалисты в самом деле будут эксплоатировать для своих целей холеру, то я стану презирать их. Отвратительные средства ради благих целей делают и самые цели отвратительными. Пусть выезжают на спинах врачей и фельдшеров, но зачем лгать народу? Зачем уверять его, что он прав в своем невежестве и что его грубые предрассудки – святая истина? Неужели прекрасное будущее может искупить эту подлую ложь? Будь я политиком, никогда бы я не решился позорить свое настоящее ради будущего, хотя бы мне за золотник подлой лжи обещали сто пудов блаженства».
Если бы он высказался в письмах насчет журнала, о котором думал осенью 1894 года, скорее всего, он нашел бы точные слова о российской жизни, о современниках. Но он находил их, рассказывая кратко о своих товарищах по земской работе, о своем конкретном участии в ней.
Серпуховское земство обременяло Чехова всё новыми и новыми общественными и благотворительными делами. Его выбрали присяжным заседателем, и ему приходилось ездить на заседания окружного суда. Чехова уговорили стать попечителем училища в селе Талеж. Вместе с земскими врачами Чехов обсуждал на заседаниях Санитарного совета текущие дела, посещал окрестные фабрики, заводики, не щадившие рек, прудов, водоемов. Провинциальная и сельская жизнь разворачивалась в этих поездках по уезду, во встречах с коллегами, в невольных наблюдениях над разнообразной и однообразной обыденностью Серпухова, Российская провинция, всё уездное и сельскоеявляли особый «русский мир», вобравший в себя большую часть населения империи.
Чехов знал провинцию еще по Воскресенску, Сумам, сибирским городам. Но по-настоящему она открылась ему в мелиховские годы. В главном и в частностях. Как раз, вернувшись в 1894 году из-за границы, еще из Москвы Чехов рассказывал Суворину в письме: «Маша говорит, что от постоянных дождей дороги испортились совершенно, езда возможна только окольными путями, только днем и не иначе как на простой телеге. Я, вероятно, пойду со станции пешком». 28 октября он писал сестре из Мелихова: «27-го ехал я в Угрюмово к больной и меня так трясло, что всё нутро мое выворотило подкладкой вверх. Езда невозможна». Иногда Чехов не мог выбраться из-за этого ни в Москву, ни в Серпухов.
Вернувшись с заседания окружного суда, Чехов, словно продолжая спор с Сувориным, написал: «Вот мое заключение: 1) присяжные заседатели – это не улица, а люди, вполне созревшие для того, чтобы изображать из себя так называемую общественную совесть; 2) добрые люди в нашей среде имеют громадный авторитет, независимо от того, дворяне они или мужики, образованные или необразованные». В этом же письме от 27 ноября он рассказал о талежском учителе: «Учитель получает 23 р. в месяц, имеет жену, четырех детей и уже сед, несмотря на свои 30 лет».
Казалось, в письмах появилась интонация, отчасти схожая с той, которая была в письмах Чехова по дороге на Сахалин. Написанная и уже опубликованная книга «Остров Сахалин» не мешала более и уступала место резким впечатлениям деревенской и провинциальной жизни. Через годы, возвращаясь к этой поре, Чехов вспоминал: «В первые два года после покупки приходится трудно, минутами бывает даже очень нехорошо <…> мне было очень тяжело в первые годы (голод, холера), потом же всё обошлось <…>. С мужиками я живу мирно, у меня никогда ничего не крадут, и старухи, когда я прохожу по деревне, улыбаются или крестятся. Я всем, кроме детей, говорю вы, никогда не кричу, но главное, что устроило наши добрые отношения, – это медицина. <…> ко всем новичкам мужики относятся сурово и неискренне <…>»
Жизнь вне столицы требовала терпения, свободы от предубеждений и от иллюзий относительно русской деревни и российской провинции. В самом конце 1894 года Суворин спросил Чехова в письме: «Что должен желать теперь русский человек?» Он ответил: «<…>желать. Ему нужны прежде всего желания, темперамент. Надоело кисляйство».
Суворин вопрошал не просто так, а для очередного «Маленького письма», в котором он привел эти слова Чехова, как мнение «одного своего милого и даровитого приятеля». А далее украсил две строчки Чехова букетом фраз: «Надо желать, значит надо работать, надо стремиться к исполнению своих желаний, к накоплению той необходимой работы, которая открывает двери к лучшему будущему, к самоусовершенствованию, от которого зависит личная независимость. <…> Дай Бог, чтоб солнце доброты стояло над средней Россией, как настоящее солнце стоит над экватором».
Суворин опять взывал то ли к правительству, то ли к министру финансов, то ли к небу, чтобы увеличили бюджет на народное образование. Даже счел его снижение в последние годы хорошим знаком: «Будем верить, что это перед повышением его, в особенности для центра России».
Рассказ Чехова о талежском учителе он не упомянул.








